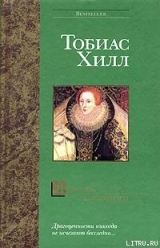
Текст книги "Любовь к камням"
Автор книги: Тобиас Хилл
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
– Мистер Леви! – Райдер медленно вытянул шею и посмотрел налево, направо. – Рад видеть вас после столь долгого перерыва. У вас есть какое-то представление о времени? Если б я не засиделся, сравнивая эдинбургские и дублинские фармакопеи…
– Мне кое-что от вас нужно.
Залман втиснулся внутрь. В темной аптеке, где застоялся едкий запах, закрывая дверь, он видел, как Райдер, тень на фоне банок и пузырьков, кивнул:
– Экстракт празднества. Сегодня вечером вы за ним не первый. – Голос аптекаря был хриплым от химикалиев. Он легко двигался среди знакомых полок. – Но искренне надеюсь, что последний. Я думал, – он повертел в руках бутылку, – что вы нашли другое средство от кошмаров. Даже надеялся. Но, видимо, ошибся. – Он улыбнулся Залману. Рот его был полон золотых зубов. – Девять шиллингов. По одной ложечке в час.
– Это мне больше не нужно, – прошептал Залман.
– Да? – Райдер сделал шаг к нему, потом другой, словно его притягивало что-то почти незаметное, тень от дыма какой-то летучей смеси. – А что вы хотите от меня, мистер Леви?
– Я…– Залман огляделся. – Не я. Это мистер Ранделл. Что-нибудь для чистки камня. Металлов. И камня.
– Кислоту?
Он кивнул и, когда аптекарь отошел, почувствовал боль в сердце.
– Не в каждый день коронации я получаю такой заказ. Думаю, вам нужна соляная. – Райдер увеличил газовое пламя. – Порошки, которые я продавал сегодня вечером, можно заворачивать в бумагу. Но ее… – он стал переливать содержимое керамической банки в прозрачный пузырек, улыбаясь от напряжения, – ее придется налить в стекло. Видите ли, пробка чернит серную кислоту и растворяется в соляной и азотной. Ну вот! Осторожнее, мистер Леви. – Он поставил банку. Плотно заткнул пузырек и протянул Залману. – Надеюсь, вы сделаете благодаря ей нечто прекрасное.
– Сколько с меня?
Пузырек скрылся в мозолистой руке Залмана. Райдер проводил его до двери. Улица была почти безлюдна.
– У королевских ювелиров здесь есть свой счет. Кислоту я припишу ко всему прочему. Вы, мистер Леви, должны мне только ночь хорошего сна. – Он остановился, улыбаясь, в дверном проеме. – Доброй ночи, мистер Леви! Доброй ночи.
Он смотрел, как скрылся аптекарь, как погас газовый свет. Мимо проехал какой-то всадник, лошадь грызла удила. Залман внезапно повернулся, словно звон металла разбудил его. И пошел вниз по Бридж-стрит.
К двери дома номер девять вели ступени. Залман позвонил и повернулся лицом к Темзе. «Не моя река», – подумал он. В воде отражалось пламя костров, разведенных на берегу бродягами. Мост Блэкфрайерс стоял пустым на каменных быках. В июньском воздухе еще слегка ощущался запах порохового дыма.
– Как доложить, кто пришел?
Он повернулся. Дверь открылась в иной мир, в коридор, залитый ярко-красным светом. Дворецкий, чисто выбритый в полночь, сгибался в полупоклоне. Издали доносились звуки пианино и смех. Залман отступил назад.
– Леви. Я работаю у мистера Ранделла.
Дворецкий повернулся, он ждал.
– Прошу вас в коридор, мистер Леви. В коридор. Входите, пожалуйста. Мистер Ранделл сейчас к вам выйдет.
Залман вошел, помаргивая. В коридоре все было красным: малиновый турецкий ковер, обои с тиснеными розовыми бутонами, газовые светильники под абажурами из богемского стекла. Он посмотрел на свои руки с обесцвеченной кожей. Пузырек краснел между большим и указательным пальцами.
– Доброе утро, мистер Леви!
Залман поднял взгляд. Эдмунд Ранделл спускался по лестнице, лиловато-синий в этом свете, лучащийся энергией. Дьявольской энергией.
– Так-так. Залман, если не ошибаюсь. Чем могу быть полезен в такую рань? Выпьем за конец фирмы «Ранделл и Бридж»?
– Нет. – Залман опустил руки, прижал их к бокам. – Спасибо, я здесь по делу.
– Что такое? Говорите громче. По делу? – Эдмунд остановился перед ним. Он держал в руке рюмку из-под ликера, перевернутую вверх дном, на краях ее дрожали капли. – Хе-хе. Больше дел в этом доме не будет. Пойдемте. Посмотрите, как я произношу еще один тост.
– Нет, я… – Его голос окреп. Он поднял глаза, вглядываясь в лицо старика. – Вы должны мне деньги, сэр. За три камня.
– Камня? – Эдмунд громко расхохотался. – Так! – Он утер рот, взгляд его стал трезветь. – И какие это могут быть камни?
– Сапфир. Бриллиант.
– Бриллиант, сэр? – Эдмунд облизнул губы. – То был не ваш камень. Я думал, это было сказано достаточно ясно.
Залман покачал головой. Лицо его в неестественном свете было ярко-красным.
– В таком случае сапфир, который в короне, рубин-балас. Ваш долг составляет четыреста пятьдесят фунтов. Вы должны были встретиться с нами сегодня. И не можете сказать…
Свежий Уксус подался к нему.
– Не смейте говорить мне, сэр, что я могу и чего не могу. Ни в этом доме, ни в каком бы то ни было.
Залман невольно попятился. Заговорил, заикаясь:
– Это дело между нами не…
Эдмунд перебил его.
– Сколько вам лет, мистер Леви? Нет, не отвечайте. Я по меньшей мере вчетверо старше, но разделаю вас под орех, сэр, если вы еще хоть раз произнесете здесь это слово. Я покончил с делами. – Он рычал, наступая на него, на его лице трепетали отсветы газового пламени. – Считаете, что для меня важны вы, молодой человек? Ошибаетесь. Важен сегодняшний день, когда под моим делом была подведена черта. Пришел конец фирме моего дяди Филипа, которую мир имел честь знать. Его время прошло. А мое – нет.
Ранделл подошел к Залману и стоял, возвышаясь над ним, голос его звучал сдавленно от ярости:
– Филип. Я веду речь о Филипе. Сегодня я пережил все созданное им. – Снаружи послышался далекий бой речного барабана. «Туман опускается», – подумал Залман. Высившийся над ним Эдмунд потряс головой. – Вам понятно хоть что-то из этого? Нет, конечно. Убирайтесь из моего дома, мистер Леви. Тут у вас дел нет.
Он собрался уйти, когда Залман схватил его за плечо, ощутив под великолепно сшитой одеждой мышцы рабочего. Раздался звук, не столько слово, сколько извержение воздуха, губы старика были усеяны брызгами слюны, когда он повернулся, и Залман разбил о его лицо пузырек.
Несколько секунд стояла полная тишина. Коридор заполнился едким запахом кислоты. Эдмунд согнулся, закрыл лицо ладонями. «Словно плачет», – подумал Залман, и под его взглядом что-то в самом деле стало сочиться сквозь пальцы ювелира. Он опустился подле старика на колени. Прислонился спиной к стене, не касаясь его, говоря почти шепотом:
– Вы отняли у меня все, что я любил, понимаете? Мы не такие уж разные, мистер Ранделл. Мы любим одно и то же.
Ювелир заскулил, и Залман увидел, как по его подбородку течет плоть. Он придвинулся ближе.
– Мы одинаковы, сэр. Всякий, кто способен любить драгоценный камень, способен обмануть любого, чтобы завладеть им. И вы обманом лишили меня всего. Мы братья шакалам и друзья страусам. Наша кожа почернела на нас, и кости наши сгорели от жара.
Эдмунд зашевелился, покачнулся. Сквозь зубы его вырвался какой-то похожий на смех звук. Залман прижался губами к уху ювелира, ничего не говоря, пока звук совершенно не утих.
От рук старика, прижатых к лицу, поднимался дым. Залман встал и открыл дверь. Вокруг него заклубился легкий туман, сияющий в свете фонаря над крыльцом. Он вышел в него и зашагал. На восток, к дюнам.
«Я разобьюсь, – подумал он. – Вот-вот разобьюсь, будто сосуд. И из меня хлынет ужас драгоценных камней».
Позади него вздымалось и вздымалось ввысь молчание Эдмунда.
Бред-стрит, рассвет. В дверном проеме дома номер восемь стоят, разговаривая, двое. Тот, что пониже, прижимается к стене, непокрытая голова его откинута назад. Покрытые язвами или ожогами руки сжимаются и разжимаются. Вид у него измученный, и он в самом деле смертельно измучен. Однако же в слезы ударяется, слушая его, другой. Он опускается на колени и горбится. В доме номер пять Адаме, торговец рыбой, поднимает взгляд. Сегодня пятница, самый лучший день. Потроша рыбу, он наблюдает, не случится ли чего.
Идущих на восток судов нет. Да и плавание на них оказалось бы братьям не по карману. Шхуна за все английские деньги, какие у них есть, доставит обоих в Лиссабон. Потом братьям придется отрабатывать проезд. У сильных, трудоспособных людей на это ушло бы по меньшей мере пять месяцев. У них уйдет одиннадцать – трудоспособен из двоих только старший.
Они стоят и ждут на пристани, судно должно отчалить в полдень. Проводить их не пришел никто. Кроме одежды, что на них, у братьев нет ничего. Они прожили пять лет в этом городе. Над ними раздаются пронзительные голодные крики чаек. Тот, что пониже, поднимает к ним пристальный взгляд. Лишь когда брат наклоняется к нему, он отворачивается. Судно готово к отплытию, но он не может увидеть того, что искал.
Букингемский дворец, время раннего ужина. Лецен одна сидит с графином мадеры в покоях Виктории Вельф, ребенка, которого некогда воспитывала, и вдруг замечает следы ног. Босых и черных от сажи. Следы пересекают покои королевы вдоль и поперек, словно какой-то маленький дьявол искал здесь грешников. Задолго до того, как обнаружится пропажа, стражники сбегаются на ее пронзительные вопли.
Марта уже давно в подвалах дворца. То, что она делает, дается ей легко, как обучение грамоте, ноги ее быстры, как разум. Стражники в красных фраках мешают ей чуть больше, чем она ожидала. Это похоже на игру. Ей три раза приходилось прятаться, прижимая ларец к тяжело дышащей груди. И она позже, чем хотела, добирается до огражденного веревками лестничного колодца, комнаты с каминами из красного железняка, коридора, где ковер свисает с половиц и гниет внизу.
Марта спускается в канализацию. Этим путем она ходила много раз: по нему несколько лет назад впервые пробралась во дворец. Вода сейчас быстро поднимется над лодыжками, а она знает приливы, знает, как они могут быть опасны. Даже в темноте она уверена, что времени терять нельзя.
Ее выдает плеск воды, он доносится до заброшенных комнат. Где-то под Хеймаркетом она осознает, что за ней следуют голоса, мужские, искаженные крошащейся кирпичной кладкой. Королевская канализация привлекает к себе крыс. Марта идет на восток, на северо-восток. Направляется к Флиту, большому устью Блэкфрайерса, речушке, заключенной в трубу. Она знает этот путь как свои пять пальцев, даже лучше.
Вода поднимается. Теперь у мужчин позади нее есть преимущество. Марта думает, что они пока не знают об этом. Она почти плывет, сжимая в одной руке ларец. Дыхание ее звучит так, словно она захлебывается. «Марта, ты там еще на плаву?» – вспоминает она и смеется. Мужчины позади нее идут медленно, им мерещатся чудовища.
Сбоку какой-то ход. Марта ощупывает босой ногой его устье, залитое водой на четверть, лезет в тесное отверстие, задерживая дыхание, стараясь не издавать шума. Теперь она ползет на четвереньках, не зная куда, но ползет. Стены прохода покрыты слизью. Он ведет ее вверх и делает поворот к сухому тупику.
Марта садится, прижимаясь спиной к стене. Прерывисто дышит, воздух причиняет боль, на глазах навертываются слезы. Мужские голоса еще слышны. В темноте не понять, приближаются они или удаляются. Легкие в груди ходят ходуном, и она выкашливает что-то противное, какой-то горький сгусток, на тыльную сторону ладони. Теплота сгустка приятна, и она не стирает его.
Марта открывает ларец. Внутри лежит драгоценность, украшение с тремя глазами. Девочка находит его красивым. Касается пальцем бриллианта. Он вспыхивает в темноте лишь раз, ловя фотоны рассеянного света. Рядом с украшением записка, которую она написала мистерам Леви. Марта думает о них. Об Иосифе и Марии. Их доброта, доброта незнакомцев, теперь стала для нее всем. Думает о том, как полюбила их за эту доброту.
Девочка моргает в темноте. Мужских голосов уже не слышно, но она не осознает этого. Протягивает руку к воде. Вода, теплая от фекалий, как ее кожа, подступает к талии. Проход, изгибаясь, уходит в воду. Если она задержит дыхание, то сможет выбраться, но сделать этого она уже не в состоянии. Прислушивается к хриплому звуку своего дыхания, ощущая собственную слабость.
Марта ощупывает драгоценность, ее контуры. Думает, как подарит эту вещь мистерам Леви, и улыбается. На зубы ей падают капли воды. Думает о том времени, когда им вернут деньги. О том, что их дело будет значительным, когда они развернутся. Тогда у нее будет много работы, до конца жизни. Маленький мистер Леви будет делать украшения, мистер Леви ее мистер Леви – продавать их.
Марта пытается сообразить, что станет делать она. Она будет писать письма. Вода у ее груди. Марта закрывает ларец. У горла. Она закрывает глаза.
Ларец покрыт цветочным узором. Ирисы, вьюнки, нарциссы стиснуты ее пальцами. Драгоценность неразлучна с ней, будто любимый. Прилив поднимается и опускается, шипя, как легкие при ее болезни, эмфиземе, которая убила бы ее к тридцати годам. По крайней мере она так и не узнала, что была покинута. Вода поднимается и опускается над ней в течение семи десятилетий. Проходит время человеческой жизни, пока не появляется мужчина, пробирающийся, насвистывая, сквозь тьму.
Свет его фонаря описывает дугу по кирпичной кладке. Падает на лицо Марты. Свист прекращается. Свет усиливается. Ларец зажат в костях ее руки.
Открываю глаза. Я одна в незнакомой комнате. Подо мной постель, рядом – низенький столик. На стенах изображения животных – процессии зебр, львов, слонов. Насколько мне известно, раньше я здесь не бывала ни разу. Ощущение это привычное.
Кажется, время уже позднее, но еще определенно не ночь. Сквозь ставни пробивается дневной свет. Чувствую запах татами, приятный, словно от сена. Голова моя пуста, как ракушка. Вскоре до меня доносится шум бурунов. Я вспоминаю их и то, что привело меня к ним.
Взгляд в сторону дается с усилием. На столе синяя чашка без ручки. Тянусь к ней. Наклоняю, чтобы заглянуть внутрь. На нос мне плещет вода, я проглатываю то, что удается.
В доме раздается какой-то шум. Скрипят ступени лестницы. Пытаюсь сесть, но это не получается. В груди что-то болит, похоже, сломано ребро. Боль на несколько секунд становится такой, что не могу дышать. Чашка опрокидывается, последняя вода выливается мне на лоб.
Открывается дверь, в проеме стоит рыбак. Видя, что я очнулась, он входит. Направляется к окнам и складывает ставни, заполняя комнату светом. Потом выходит, оставив дверь открытой.
Он снова входит.
– Который час?
Это кажется важным. Говорить больно, и я кашляю.
– Два часа.
– Кто вы? Хикари Мурасаки?
У него в руках миска. Он подходит и поднимает чашку. Ставит ее на стол.
– Вам нужно было бы отвезти меня в больницу.
– Возили.
Снова начинается кашель, сдерживаю его.
– Я была в больнице?
– У вас два перелома ребер, ушибы, ссадины. Была легкая контузия. Когда вы пришли в сознание, нам сказали, что оставаться вам там незачем. Больница здесь маленькая, переполненная. По словам врачей, вы нуждаетесь в покое. Я не знал, куда еще вас везти.
– Ничего не помню, – говорю. Словно этот человек может лгать, да он и может.
Он садится возле постели, забрасывает ногу на ногу и смотрит на меня. Мы смотрим друг на друга. В окнах ярко-белое небо, морская прозрачность воздуха. Вдали поднимает крик чайка. Я закрываю глаза, думаю о Панче и Джуди. Саутэнде, моле – дороге, ведущей в никуда.
– Долго я спала?
– Сто лет.
– Хочу это знать, – говорю, но когда поднимаю взгляд, его снова нет, он с чем-то возится. Возможно, его что-то беспокоит, хотя понять трудно, лицо у этого человека не из тех, что легко выдают эмоции незнакомцам. Начинает вертеться электрический вентилятор.
– Два дня, – отвечает он и разгибается.
– Почему вы не бросили меня?
Он подходит. Подает мне миску.
– Это суп из крабовых панцирей. Вам нужно чего-то поесть.
– Могли бы бросить. Прилив начался бы снова. Я лежала пластом. Крови на ваших руках не было бы.
Я отпиваю глоток супа. Ничего, кроме вкуса, можно сказать, не пища. Желудок начинает от него урчать. Внезапно ощущаю сильный голод. Опустошив миску, чувствую запах этого человека, запах перца и морской соли. Он все еще смотрит на меня.
– Вы доказываете необходимость собственной смерти?
– Нет. – Говорю с полным сладостью ртом. – Мне просто любопытно.
– Я никогда не убивал, – говорит он. Словно это объяснение. Берет миску и поднимается, собираясь уходить. Глаза у него темные, цвета запекшейся крови. Возле двери останавливается. – А вы?
– Не знаю, – говорю и закрываю глаза. Отворачиваюсь от этого человека и его слов.
Он ежедневно стряпает для меня. Теплый рис с бульоном, белый суп мисо. С каждым приемом пищи мне становится лучше. Мягкая рисовая лапша, вареные яйца с папоротником. Вкусная, укрепляющая еда. Нежные сырые креветки. Печеный лещ. Жаренные в собственных раковинах гребешки. Его кормление выводит меня из себя. Я смотрю на него и думаю, понимает ли он, что делает.
Звук захлопывающейся двери будит меня каждое утро, еще до рассвета. Из окна спальни я вижу этого человека, идущего по тропинке среди дюн к причалу.
Начинает работать мотор его лодки, и она выходит в море.
К семи часам он всегда снова дома, везет на мотоцикле детей в школу. Том хмурится, борясь со сном. Ирэн в коляске счастлива, как Будда. На пустой дороге их видно до самой Тосы.
В дом никто не приходит. Почтальон останавливается у почтового ящика на пристани. Иногда во время отлива на пляже появляется старуха. Тощая, сгорбленная, всегда одна, ищет съедобных моллюсков. Я наблюдаю за ней. В воде отражается ее спина.
В течение двух дней я еще не могу спускаться по лестнице. Заставляю себя двигаться по комнате под наблюдением слонов. Здесь все наблюдающее, выжидающее. Хозяин дома приносит мне пожитки, сумку, которую я в свое время здесь оставила. Видя, что я не открываю ее, приносит мне книги. На английском только три, остальные на японском, которого я почти не знаю. Сижу возле открытого окна, читаю Библию короля Иакова, энциклопедию Пирса 1892 года издания с доводами в пользу того, что земля плоская, стихами Роберта Луиса Стивенсона.
Мама, тише говори со мною, Что-то очень близко и большое, Что-то маленькое и вдали, Мне так страшно, что не объяснить…
Странные это вещи, книги на пустынном острове. Фамильные ценности с надписанными полузнакомыми именами. Хикари от дедушки Майкла. Мари в день ее свадьбы, 1946 г.
На левом бедре у меня тридцать швов. Я закрываю их ладонью, склоняясь, сидя на табурете в ванной. Самые темные синяки у меня под ребрами. Через неделю они начинают светлеть. Кровоизлияние превращается в лиловый пояс над левым бедром.
Уже конец ноября. Холоднее становится только ночами. Вечера я провожу внизу, довольная собой и теплом камина. Радиоприемник вещает по-японски и по-корейски. Дети угрюмые, злые от обиды, хотят, чтобы я убралась. По возможности избегаю их. Прислушиваюсь к их спорам и играм, приходам и уходам. Вдали постоянно слышен шум чаек и моря.
Разговариваем мы осторожно. Только о настоящем, избегая прошлого и будущего, того, почему я приехала и почему остаюсь. Не касаясь несчастных случаев.
– У вас много книг.
– Я люблю читать.
– Ни единой фотографии. Ни одного портрета членов вашей семьи.
– Я могу то же самое сказать о вас. Держите.
– Что это?
– Приспособление для убивания рыбы.
– А это?
– Тоже.
– Они, должно быть, уплывают за милю, завидя вас. Великий Белый Охотник восточного побережья. Что вы имеете против них?
– Ничего. Мне нужно кормиться. Они не уплывают.
– И все же, уверена, вы бы заставили их уплывать, если б могли. – Жду его улыбки, хочу ее. Могу себе в этом признаться. – А это что?
– Изделие Ирэн.
– Не может быть.
– Амулет на счастье. Для моей лодки. У нее умелые руки. Вам нравится?
– Особенно стекло. Похоже, вы можете убить этой штукой множество рыб. И, должно быть, гордитесь дочерью.
– Конечно. Всякий раз.
– Говорите вы не очень уверенно.
– Почему бы нам это не выяснить?
Он с широким разворотом направляет лодку из гавани. Мы держим курс на юго-восток, к Тосскому заливу. День прекрасный, небо и море такие голубые, что там, где они сходятся, линии горизонта почти не видно. Я оглядываюсь на мыс, он уже далеко. Над ним вздымается зеленый-зеленый остров.
Он смотрит в море, правя лодкой, окидывает взглядом рябь и гладкие поверхности, означающие течения и мели. В одном месте, неотличимом для меня от всех прочих, заглушает мотор. Мы сидим, пьем пиво «Саппоро» из холодильника, ловим морского окуня и черного леща.
– Приятное занятие.
– Рад, что вы так находите.
– И больше ничем не занимаетесь?
Он хмыкает.
– Езжу на рынок в Коти. Работаю на участке. Забочусь о детях.
– Вам никогда не хотелось заниматься чем-то другим?
– Нет.
Он пьет пиво, глаза его сощурены.
– У вас должны были быть какие-то цели. Стать пожирателем огня, международным плейбоем, премьер-министром Японии.
– Нет. – Потом более тихим голосом: – Я хотел быть учителем.
– Из вас получился бы неплохой.
Я не спрашиваю, почему он так и не попытался. Быть учителем значило бы жить среди людей. Жить среди людей – подвергать риску «Братьев». Я точно знаю, словно он сказал мне, как эта драгоценность способна разрушать жизни.
Клюет одна рыба, затем другая. Я с трудом вытаскиваю ставриду. Мужчина сидит на корточках подле меня, потрошит ее на палубе. Улыбается.
– Поздравляю.
В рубке есть искусственный лед.
– Где?
– Под сиденьем. Синий ящик. – Он кричит вслед мне: – Каори-чан…
Я останавливаюсь у двери рубки. Он все еще склоняется над рыбой, лицо его в тени. В радиомачте гудит ветер.
– Каори – это ваша жена?
И мы уже сблизились. Пересекли границу и вошли в некий тесный круг. Хикари Мурасаки качает головой. Встает и берет наши удочки.
– Нужно возвращаться, – говорит он. Сматываемые катушки поют в его руках. – Надвигается дождь.
Я думаю о нем. О его руках, покрытых рыбьей кровью. О том, как он всегда смотрит на меня. Высматривая что-то, словно ребенок с самолета, но не как ребенок.
Сон бежит от меня. Сижу до утра у окна, глядя на море. За дюнами волны надвигаются и надвигаются, не приближаясь.
Воскресенье. На рассвете он конопатит шлюпку возле гинкго. Я сижу на крыльце, пью кофе. На нас падают первые лучи солнца.
– Спасибо, что взяли меня на рыбалку.
Он кивает. Во рту у него гвозди. Над дюнами взлетает жаворонок.
– Вы всегда жили здесь?
Он вынимает гвозди.
– Не всегда. Вид у вас получше.
– Я чувствую себя лучше, – говорю, это действительно так. Даже ребра срастаются. – Я не спросила, чью комнату заняла.
– Тома. – Хикари достает из мешка паклю. – Он может пожить вместе с Ирэн, пока вы здесь.
– Мне долго оставаться здесь не нужно.
В его лице ничего не меняется. Осторожно, улыбаясь от усилий, он заколачивает паклю между досками.
– Куда вы отправитесь?
– Не знаю. – Обхватываю обеими руками чашку. – Они не хотят разговаривать со мной, Ирэн и Том.
– Да.
– Из-за собаки?
– Из-за Лиу.
Он распрямляется и идет к крыльцу. Садится и пьет мой кофе. От напитка в солнечном свете поднимается пар. На Хикари клетчатая рубашка с короткими рукавами, в ней он выглядит старше.
– Можно поговорить о нем?
Хикари поворачивается ко мне, обдумывает вопрос.
– Будь он жив, уже вернулся бы.
– Простите меня.
– Вы не виноваты. – Он по-прежнему смотрит на меня. Зрачки его сужены из-за моей близости. – Мне не нужно было посылать его за вами. Я не знал, что еще можно было сделать.
– Да.
Мы только второй раз говорим о том вечере. Кажется, что мы очень медленно поворачиваемся друг к другу. Незаметно, будто стрелки часов.
– Я объяснил это детям. Им легче винить вас.
– Что, если я поговорю с ними?
– Быстро бегать умеете?
– Быстрее, чем они ездят на велосипедах. Чем вооружены дети?
Хикари улыбается, слегка зловеще.
– Всем, что попадется под руку. Они сейчас на другой стороне мыса. Приведите их на завтрак.
Это дальше, чем я думала. В песке, где растет лишь чертополох и кустарник, ступни у меня вязнут по лодыжку. Через десять минут ноги начинают дрожать от усталости. Я останавливаюсь на вершине второй дюны. Между мной и берегом еще четыре – буруны, земля, отражающаяся в море.
Ветер меняется. Я слышу голоса детей, играющих в прятки на самой восточной точке своего самого восточного острова.
– Том! – Солнце уже высоко. Детей не видно, голоса их затихают. Над песчаным тростником порхает ласточка. – Ирэн!
– Уезжайте.
Я поворачиваюсь. Том в ярде позади меня. Я не слышала, как мальчик подошел. Он босой, без рубашки, в руке у него палка. Ветер треплет его вьющиеся волосы.
– Мне нужно поговорить с тобой.
– Мы не хотим видеть вас здесь.
– О собаке.
– Лиу. Вы убили его.
Лицо мальчика кривится. Непонятно, то ли от гнева, то ли от солнца, то ли от желания заплакать или от всего вместе. Выражение его лица трудно понять, как и отцовское.
– Я пришла сказать, что мне очень жаль.
За второй от нас дюной появляется Ирэн. Спешит, окликает брата: «Том-кан». Прося: подожди меня: «Матте. Матте».
Ноги у меня устали от подъема, и я осторожно сажусь на теплый песок.
– Сколько лет было Лиу?
– Не произносите его имени.
Голос его становится тонким. Я вижу, что в руке у него не палка – трезубая острога.
– Хорошо.
– Десять. – Мальчик оглядывается, ища сестру. – Он был хорошей собакой, но плохо спал.
– Он был похож на статуэтки, которые продаются в Коти. Где вы его взяли?
– Папа купил. Чтобы он защищал нас. – Я не спрашиваю, от чего. Мальчик смотрит на мои бедра. На кривую улыбку швов, шириной с его голову. – Он сильно вас покусал.
– Да.
– Раньше он никого не трогал.
– Я не знала.
– Должно быть, Лиу разозлился. Наверное, если б вы не дрались с ним, он покусал бы вас сильнее.
– Наверное.
Мальчик садится. Трава колышется вокруг нас.
– Он был крепким. Вы, должно быть, сильная.
– Том, мне очень жаль.
– Поможете нам вырыть ему могилу?
Хоронить нечего. Я копаю, мои ребра скрипят. Глубина ямы достигает трех футов, Ирэн спускается в нее, словно хочет обмерить. Том подает ей кол с черными молитвенными иероглифами. Я сыплю песок вокруг его основания. Ирэн оказывается по талию закопанной. Вытаскивать ее для меня немалое усилие. Она как будто бы ничего не имеет против. По пути к дому говорит о кошках.
Я поднимаюсь наверх, чтобы вымыться. Приземистая ванна в высоту и в ширину четыре фута, корыто из темных досок, заполняющее комнату запахом мокрого дерева. Складываться пополам внутри ее еще слишком больно. Сижу на табурете и смываю со ступней могильный песок водой из крана возле двери.
Об окно бьются мотыльки. Сумерки переходят в ночь. В это время сюда прилетают летучие мыши, более целеустремленные, чем морские птицы, и, насытясь, порхают над кромкой моря.
Я встаю и подставляю голову под струи душа. Боль в швах острая, как зубная. На лицо мне спадают волосы. Как-нибудь в ближайшие дни остригусь. Откидываю их назад и вижу его.
Он стоит под гинкго. Свет над крыльцом включен. Лицо его запрокинуто вверх и подсвечено снизу. На нем то самое выражение. Ощущаю свое тело под его взглядом, каждая часть его чувствует свое предназначение, пока он не отворачивается.
Меня будит стук генератора, ветер доносит от сарая его «пут-пут». Я сажусь, сознавая, что уже поздно, и удивляюсь, почему так долго спала.
На ночном столике хурма. Я тянусь к ней, и позади нее опрокидывается что-то неустойчивое. Беру упавшую вещицу двумя пальцами. Это статуэтка женщины, вырезанная из плавника, маленькая, как амулет. Работа простая, но тщательная. Мое выражение лица, слегка хмурое, схвачено верно. Крохотная суровая Кэтрин. Встаю возле окна и ем хурму. Ожидаю детей, чтобы помахать им.
– Скажите мне кое-что, только честно, – говорю, и он поднимает взгляд от моря с таким видом, словно услышал шутку. Мы удим с пристани. Накануне вечером здесь появились люди, приплыв сюда на прогулочном катере с ярмарочной площади. Несколько групп, они радуются простору. Белозубый человек что-то покупает в киоске.
– Я не всегда лгал.
– Знаю. – Я улыбаюсь в ответ. – Но все-таки скажите мне кое-что.
– Что же?
– Какой была ваша жена?
Рыба-попугай задевает стенку пристани. Вода прозрачна, как стекло. Хикари делает вдох.
– Молодой. Из Такамацу. Прожила здесь пятнадцать лет. А потом захотела вернуться. У нее была мечта открыть свою школу. По профессии она учительница.
– А вы не захотели уезжать.
Где-то звонко смеется ребенок.
– Она бросила меня сразу же после рождения Ирэн. Я не мог вести такую жизнь, какую ей хотелось. – К наживке поднимается окунь. Хикари смотрит на него. – Это моя вина. Не следовало мне жениться на ней.
– Вы еще любите ее?
– Конечно. – Что-то клюет. Хикари подсекает рыбу машинально, чуть ли не до того, как погрузился поплавок. Плавно вращая катушку спиннинга, вытаскивает маленький блестящий серебристый груз. – Кэтрин, почему вы искали эту вещь?
На швартовых тумбах сидит парочка, они едят жареного осьминога и пьют кока-колу.
Мимо проходят растолстевшие мужчина с собакой. Я жду, пока они не отойдут подальше.
– Потому что хотела ее. Я не лгала. Я ни на кого не работаю.
– Знаю. – Хикари легко снимает рыбу с крючка. Бросает в ведро. Я не спрашиваю, откуда он знает. Рылся ли он в моих вещах. Сейчас это так мало значит, что я была бы довольна, если б так оно и было. – Не много же доставила вам радости эта вещь.
– Должна признать, да. – Я сматываю леску. Забрасываю снова. – Может, она была проклята еще до того, как я стала ее искать.
– Нельзя ведь, в конце концов, заниматься этим вечно.
И он смотрит на меня, хмурясь от солнца, улыбаясь, пока я не улыбаюсь в ответ.
Он все утро читает. Я вижу его из кухонного окна, одного, там, где начинаются дюны. Наливаю в стакан виски, добавляю льда, выхожу и подсаживаюсь к нему.
– Что читаете?
– Одну историю.
Хикари сидит в траве, привалясь спиной к песчаному холмику, с книгой на коленях. Берет стакан, благодарно кивает. Виски японское, дешевое и обжигающее. Вода выявляет его сладость.
– Никогда не увлекалась историями.
– Почему?
– Не было на них времени.
– Ваша жизнь полна историй.
Я улыбаюсь, чуть сдержанно.
– И на них у меня нет времени.
Хикари закрывает книгу.
– Это история Гильгамеша. Она происходит в тех местах, откуда родом мой дедушка. Очень древняя, ей пять тысяч лет. Она уже была давней ко времени появления «Одиссеи». Древнее Библии.
Я беру у него книгу. Текст японский, множество вставок. Латинскими буквами, арабскими. Почти знакомые мне названия – Ниневия, Ур. Усаживаюсь. Вдали за бухтой вижу возвращающийся в Тосу прогулочный катер.
– И что там происходит?
– Царь Гильгамеш теряет ближайшего друга. Впервые испытывает страх смерти. И отправляется на поиски бессмертия.
– Это все?
– Нет. – Хикари улыбается. Ветер шевелит листы книги. – Он сражается со львами, спускается в подземный мир, встречается с умершими. Обычные похождения царя-героя.
Я жадно глотаю виски, оно движется по пищеводу к пустоте в желудке.








