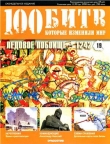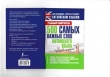Текст книги "Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусского языка для детей"
Автор книги: Татьяна Миронова
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
ПОБЕГ
Вдруг криком занялся Микулин двор. Путята вскочил на ноги и в два прыжка приблизился к стене. Пленники прислушались. Надрывно плакал ребенок, причитала женщина, где-то истошно кричали: "Иконы выносите! Иконы! " Дымом не пахло, но отчетливо слышался нарастающий треск горящего дерева. Пленники заметались. Прохор схватил в охапку Васю, подсадил его вверх к уже затянувшемуся смрадным дымком проему под крышей.
Пожар разом охватил Микулин двор, огненным кольцом полыхал частокол, вспыхнули дворовые амбары, занялся, видно, и дом, коли понесли из него иконы. Скоро огонь подберется и сюда, в дальний угол двора – к порубу.
Вася, забравшись на плечи Прохора, выцарапав между верхними бревнами слежавшийся мох, хорошо видел бедствующий двор, но дотянуться с Прохоровых плеч до заветной щели он не мог. Тогда цепкий маленький Путята, ссадив Васю, влез на сильные Прохоровы плечи, Митя передал Путяте Васю, и тот, подтолкнутый вверх Путятой, в одно мгновение исчез в дымящемся проеме. Следом парни выставили упирающегося Ваню, слезно глянувшего в последний раз на обреченных сгореть заживо пленников.
Протиснувшись сквозь щель, Ваня посмотрел вниз. Прижавшись спиной к неприступной стене поруба, стоял Вася и пугливо крутил головой. Шум пожара, треск, истошный вой погорельцев слышны были отовсюду, но поразительное безлюдье бросилось в глаза мальчишкам, сторожа, приставленные охранять пленников, кинулись спасать Микулино добро. Что же до поруба, то к нему уже подкрадывался, слизывая перестоявший сухой бурьян, огонь. Занялась от разбрызгиваемых всюду искр крыша. Ваня с Васей на мгновение замерли и тут же разом, словом не обмолвившись, кинулись к тесовой двери поруба. Только бы хватило сил сдвинуть кованый засов! Мальчики отчаянно вцепились в тяжелое витое замочное кольцо. Узорочье кольца сдирало кожу с ладоней, но они, не чувствуя боли, тянули и тянули неподдающийся засов.
Уже скрипела под жадным злым пламенем прочная тесовая крыша, из щелей между бревнами валил черный дым. Только бы успеть! Размазывая по лицу бегущие от бессилья слезы, Ваня вдруг заметил валяющийся в траве рядом с брошенными сторожами топориками железный прут, изогнутый на конце. Может, это ключ от поруба?!
В одно усилие, приладив прут к узорному кольцу, они выдернули засов из гнездовища в замке и рванули на себя легко поддавшуюся дверь. Из дымного проема, часто глотая воздух, вывалились пленники.
Митя и Прохор схватили мальчишек за руки и вслед за бесшумно поманившем их Путятой кинулись в выгоревшую дыру частокола.
В зарослях густого ивняка, ввиду полыхающей огнем Чудиновской слободы беглецы отдышались. Путята с заметно помягчевшим лицом похлопывал Ваню и Васю по плечам, приговаривал:
– Съведоми кмети будуть князю, како рече бо Вещiй Боянъ: "подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяни, коньцьмь копья въскормлени, пути имъ ведоми, яругы ими знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами скачють, акы серыи волци въ поле, ищучи себе чести, а князю славы".
Ваня, встав на цыпочки, шепнул Мите:
– Чего он толкует, не разберу. На что Митя, еще не веря спасению, радостный и запыхавшийся, обнял ребят:
– Это он вас с Васей хвалит. Будете "съведоми кмети" – знаменитые воины, такие, говорит Вещий Боян, "под трубами рождены, под шлемами взращены, концом копья вскормлены, пути им ведомы, овраги ими знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены, сами скачут, будто серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы".
– Красиво сказал этот Боян, – понравилось Ване. Он улыбнулся Путяте. А тот, доверившись наконец странным и неведомым галичанам, заговорил:
– Ныне слобожане много добра истеряють, не послушали ся бо добраго слова, яко не гоже летось жировати въ домъхъ, а жити по полю. Я, княжь гридь, измлада помьню, яко погорело Заречье въ Новъгороде. Бысть пожаръ золъ. Кто вбежалъ есть в камяны церкви съ именiимь, и ти вси изгорели суть съ добръмь своимь. Въ Варяжьскои божьнице съгорелъ есть весь товаръ немечьскыхъ купець, церкви изгорели суть пять на десяте деревяныихъ. Плачь великъ бысть. – Путята вздохнул. Прохор толкнул локтем Митю:
– Это он говорит об известном по Новгородской летописи пожаре в Заречье 1217 года.
В перелеске раздалось тревожное ржание. Это искали пристанища распуганные пожаром чудиновские лошади. Путята, подав спутникам знак подождать, скрылся в зарослях ивняка. Через минуту он появился, ведя под уздцы невысокого гнедого коня, следом послушно тянулись еще две лошадки.
– Поедемъ ко князю въ станъ – сказал Путята.
– Зачем? – Прохор положил руку на шею Путятиного коня. – Сначала надо разыскать грамоту.
Прохор хитрил. Его как магнитом тянуло в княжеский стан, но прежде он хотел отправить ребят домой. Там, на полянке, мог представиться случай незаметно втолкнуть их в заросшую травой дыру подземного хода. И мальчишки будут спасены.
Путята непонимающе глянул на Прохора:
– Не розумею, – пробормотал он, дивясь про себя странной непохожести речи его знакомцев на его собственную речь. Митя, угадав Прохоров маневр, стал терпеливо объяснять:
– Друже Путято, первее наидемъ грамотицю ту да дело управимъ. А управлячи дело, ко князю поидемъ.
Путята согласился и повернул гнедого к лесной просеке, что вела к заветной круглой полянке.
Ехали верхом. Впереди Путята, за ним Прохор, который усадил перед собой Ваню, а Вася сел позади Мити, обхватив его руками за пояс. Кони ступали тихо. Путята, не торопясь, выведывал путь, боялся наткнуться на слобожан. Вася, которому страшновато было ехать замыкающим, стал допытывать Митю:
– А почему это Путята говорит " на дорозе" вместо " на дороге"?
Митя похвалил заметливого мальчишку:
– Это ты молодец, что такие вещи подмечаешь. Видишь ли, отроче Василiе, в разные времена один и тот же язык подчиняется разным законам, они-то и диктуют говорить: " собака", но " о собаце"; " другъ", но " друже". Дело в том, что согласные к, г, х были в древнерусском языке всегда твердыми, и вот когда после этих согласных следовал какой – либо из гласных звуков Ь, или Е, или И, или Е, или Я, которые обязательно смягчают соседние согласные, то к, г, х твердыми уже оставаться не могут, но и нетвердыми они быть не могут, что им делать? Приходится на время искать замену, для этого случая каждый из них имел собственного мягкого заместителя. Если выражаться грамотно, то замена твердых согласных к, г, х мягкими согласными звуками перед гласными Ь, Е, И, Е, Яназывается смягчением. Остатки древних смягчений есть и в нашем русском языке. Вспомните-ка: рука – ручка; бег – бежать; тихо-тишина. Это Г, К, Хнашли себе в замену мягкие шипящие согласные, каждый – своего: К – Ч'; Г – Ж'; Х – Ш'. А вот в случае, который тебя заинтересовал, " дорога – на дорозе", твердый согласный Гнашел себе в замену мягкий свистящий звук З'. Мягкие свистящие согласные тоже могут заменять К, Г, X; и здесь у каждого твердого звука свой мягкий заместитель: К – Ц': ученикъ – ученици; Г – З': другъ – друзи; Х – С': муха – о мусе.
– Ну, как, отроче Василiе? – спросил Митя и оглянулся на озадаченного Васю, – Не запутался? Тот засопел за Митиной спиной.
– Значит, я – "отроче Василiе"...
– Нет, не так, – перебил его Митя. – Сказать " Я отроче Василiе" нельзя, как нельзя сказать " Отроче Василiе пошелъ есть въ лесъ". «Отроче Василiе»в именительном падеже вообще не используется, это форма особого звательного падежа, форма обращения. Запомни хорошенько!
– Значит, обращаясь ко мне, говорят " отроче Василiе", – поправился Вася, – а говоря обо мне: " объ отроце Василiи"?
– Хорошо, молодец! – от души порадовался Митя.
– Запутаешься, – вздохнул польщенный похвалой Вася, – хорошо, что эта путаница до нашего времени не дошла.
– Кое – что дошло, – засмеялся Митя. – Мы просто этого не замечаем и принимаем как должное: луг – лужок, друг – друзья, крик – кричит, мох – мшистый.
С полчаса ехали молча. Вася пережевывал услышанное, старался накрепко запомнить: дорога, но на дорозе, собака, но о собаце. Понимал мальчишка, что тут учеба не ради утехи или оценки, а ради жизни, без языка они точно пропадут.
– Митя, а Митя, – тихо окликнул Вася своего учителя. – Ты сказал, что К, Г, Хуступали свое место мягким согласным, да разве Жи Ш– мягкие? Разве Ц– мягкий звук?
Митя оглянулся и с уважением посмотрел на Васю.
– В древнерусском языке эти звуки были только мягкими. Ты заметил, наверное, как пришептывает, мягчит эти звуки Путята. " Вижю" – говорит он, а не " вижу". Так до четырнадцатого века говорили все русичи. Потом лишь начнется отвердение звуков Ши Ж. А звук Цстал твердым только в XVI веке.
Прохор тем временем неторопливо объяснял Ване, сидевшему впереди него на лошади:
– В страшное время попали мы на Русь, друг Ванюша. По нашим с Митей догадкам, это середина тринадцатого века, точнее, если верить цифрам на крышке подземного хода, – 1240 год. Русь на части раздирают враги. Немцы и шведы подступают с запада, с востока грозят монголо-татарские орды. Да и в своем дому не все ладно у русичей. Каждый удел, каждая земля имеют своего князя, своего правителя. Князья между собой ссорятся, а пахарям – беда. Видишь, у слобожан с князем "разлюбье". Слобожане платят князю "истужники" – дань по силе, кто сколько сможет, да, видно, мало стало князю той дани.
– А сюда, в Новгород, Батый приходил? – с тревогой спросил Ваня.
– Летопись говорит, что ста верст не дошел Батый до Новгорода. Дело ведь как было. В декабре 1237 года на реке Воронеже, притоке Дона, появились войска Батыя. По льду ставших рек, как по гладкой наезженной дороге, они двинулись на Русь. Первой на их пути оказалась Рязанская земля. Посольство Батыя потребовало с рязанцев дани – десятины со всего, с князей, с простых людей, с копей. Рязанский князь Юрий Игоревич в ответ на это сказал: "Когда никого из нас не будет, тогда все будет ваше". И вышло русское войско город оборонять. Названия деревень по сей день хранят память о тех событиях. Неподалеку от Рязани есть село Засечье. Чуть выше – деревня Добрый Сот, на высокой горе – деревня Иконино. Подалее – села Шатрище и Исады. Засечье – это лесной завал на пути ордынской конницы, в местечке Добрый Сот когда-то стояла засада рязанцев. У Шатрища раскинул Батый свои шатры, обложив Рязань, там, где ныне пристань Исады, Батый высадился на берег Оки. На высокой горе у деревни Иконино могла стоять дружина князя, выставив иконы и древнерусские знамена, хоругви. Разбив русское войско в поле, шесть дней и ночей осаждал Батый Рязань и взял ее приступом. Рязанский князь, его семья, дружина, многие жители Рязани погибли. Рязанский боярин Евпатий Коловрат крикнул клич ударить на супостатов, отомстить за убиенных и растерзанных жен и детей. Сохранилась древнерусская повесть о разорении Рязани Батыем. В этой повести про Евпатия сказано: "И собра мало дружины – тысячу семьсот человекъ, которых Богь съблюде, быша вне" града и вънезапу нападоша на станы Батыевы и начата сечи безъ милости. И смятоша ся вся полкы татарскыя..."
Прохор замолчал. Молчал и Ваня, да долго не выдержал, поторопил:
– А дальше что?
– Дальше-то, – вздохнул Прохор. – Да не хватило у русичей сил для обороны. Стремительное и жестокое войско Батыя в четыре дня взяло штурмом Владимир, уничтожило Суздаль. В марте на реке Сить татары разгромили ополчение владимирского князя Юрия Всеволодовича. Сам князь был убит. И вот затем Батый устремился к Новгороду. Но здесь, как пишет летописец, не доходя 100 верст до Новгорода, "они безбожници вспятиша", повернули, значит, вспять, "осташа бо ся новгородьци отъ Батыя не воеваны и не пленены". А двинулись татары на Козельск, штурмовали его семь недель, ибо ратные люди Козельска оставались в городе, не выходили в поле. Летописец рассказывает, будто бы Батый потерял под Козельском около четырех тысяч воинов, за то запретил даже имени Козельска упоминать, а звать стали Козельск татары "злым городом".
Вот мне, друг Ванюша, и удивительна нынешняя тишина в Новгородской земле, будто бы нет кругом ни татар, ни шведов с немцами. Знай себе князь со слобожанами не мирятся. Чудно! Потому и важно нам точно с нынешним годом определиться. С 1236 года в Новгороде княжил Александр Ярославич. Во дни Батыева нашествия он стоял во главе новгородских и псковских подкоп, готовил оборону Новгорода. Узнав о вторжении шведов, он не стал ждать их под Новгородом, а с дружиной и новгородскими полками поспешил навстречу врагам и 15 июля 1240 года в битве на Неве разгромил шведского герцога Биргера, за что и наречен был Александр Ярославич Невским.
– Я про это читал и кино видел, – без хвастовства сказал Ваня, – только никогда не думал, какая фамилия у князя Александра Ярославича была до того, как его Невским назвали.
– А фамилий в Древней Руси, Ваня, вообще не было, ни фамилий, ни отчеств.
– Как не было фамилий? – изумился Ваня. – Тот Иван и этот Иван, да одних Иванов небось тысячи на Руси было, как же их отличить?
– А это мы сейчас Митю спросим, он толковее объяснит, на то он и филолог. Слышишь, Митя, – окликнул Прохор, – мы тут с Иваном в Иванах запутались.
– Что, Ваня, трудно поверить, как люди без фамилий жили? – Митя с Васей подъехали ближе.
– И мне трудно, – признался Вася. – У нас в классе двадцать восемь человек, и четыре Ивана, и четыре Алены, как тут без фамилий разберешься.
– Иванов действительно на Руси всегда было много, недаром говорится, на Иванах Русь держится, только Иван Ивану рознь. Каждый Иван прозвище имел, а для верности еще и добавлял – "Иван Федоров сын". От прозвищ да прозваний по отцу и пошли нынешние фамилии. Самые-то простые из них от отцовских имен образованы. От имени Павел, например, целый ворох фамилий: Павлов, Паншин, Панаев, Панютин, Пашутин, Павлищев, Палин. А теперь скажите – ка, от какого слова фамилии Коняев, Конов, Кононов, Конаков, Коншин, Конашев?
– От слова "конь", – усмехнулся простоте вопроса Вася.
– Вот и нет, – засмеялся Митя, – если б от слова "конь", я бы и не спрашивал. А произошли они от имени Конон, было такое имя в Древней Руси. Забытые ныне имена много фамилий дали: и Кирсанов, и Зотов, и Протасов, и Сазонов, и Меркулов, и Уваров. Но еще занимательней разгадывать фамилии, рожденные прозвищами. Прозвища на Руси давали по разным случаям. Посмеялись соседи над Степановым толстым брюхом – вот и стал Степан прозываться Брюханом, а дети и внуки его Брюхановыми. Белобрысого кликали Беляком, беззубого – Щербаком, а рябого – Шадрой. Их потомки – Беляковы, Щербаковы, Шадрины так и несут в своих фамилиях поминание о щербатом или рябом предке.
– Интересно как! – воскликнул Ваня.
– А если интересно, то вот вам загадка: что за прозвища такие, если от них пошли фамилии Глазунов, Ушаков, Голованов, Хлудов, Росляков, Коротыгин, Карташов, Беспалов?
– Глазуном звали глазастого, – уверенно начал Ваня. – Ушаком – ушастого.
– С оттопыренными ушами, – вставил Вася. – У нас такой в классе тоже есть. Мы его Чебурашкой зовем.
– Голован, видно, имел большую голову, – продолжил Ваня, – Росляк был длинным, а Коротыга – низеньким.
– А Хлуд, Карташ и Беспал, – напомнил Митя и, не дождавшись ответа, оглянулся на Васю. – Помогай своему другу.
– Нету таких слов в русском языке, – пожал плечами Вася. – Разве что Карташ – это который картавит...
– Правильно, – кивнул Митя, – а Хлуд – шибко худой, а Беспал – где-то палец потерял.
– А моего предка как прозывали? – нетерпеливо выглядывая из – под руки Прохора, спросил Ваня.
– Для начала хорошо бы знать, как тебя прозывают? – засмеялся Прохор.
– Базанов.
– Звали твоего прапрадеда Базаном, видать, крикливым был в детстве, – объяснил Митя.
– Да и праправнучек у пего не очень-то смирный, весь в дедушку пошел, – не удержался Вася, высунувшись из-за Митиной спины.
Ваня решил в долгу не оставаться:
– А фамилия Сухотин от чего?
– Сухота – недужный. Болезненный, видно, был человек, иссушенный болезнью, – ответил Митя и услышал за спиной обиженное сопение, не очень-то обрадовался Вася сведениям о своем предке.
Кони мерно ступали но лесной дороге. В тишине, наполнявшей лес, слышно было, как похрустывают под копытами тонкие опавшие ветки, скрипит тяжелая сырая хвоя. День клонился к закату. И хотя солнце стояло еще довольно высоко, ощущалась собирающаяся в лесных болотистых низинках зябкая вечерняя влага.
Полянка открылась неожиданно, она оказалась за редеющим на краю дороги ольховником.
– Ваня, Вася, – тихо и строго сказал Прохор, как только слезли с лошадей, и Митя с Путятой тут же принялись за поиски грамоты. – Подземный ход приметили? – Он глазами указал на желтеющие головки зверобоя. – Как только я дам знак, ныряйте в лаз и ходу домой.
– А вы? – в один голос жалобно проговорили Ваня и Вася.
– Мы уйдем позже, надо у князя в стане побывать, раз уж случилось чудо попасть сюда.
Глядя в молящие глаза мальчишек, Прохор добавил:
– Домой, и немедленно. Поймите, ребятки, без вас мы выберемся, а с вами точно пропадем.
Последние Прохоровы слова прозвучали как приказ. Мальчишки молча уселись на краю ноляны, где от спасительного хода их отделяла лишь поросль зверобоя, но близость дома не радовала...
Митя и Путята тем временем разглядели в траве жестяной бок нагретого на солнце – точь-в-точь как на Путяте – воинского шлема, под которым и сыскалась наконец скоробившаяся ленточка вытряхнутой утром из мешка второй половинки берестяной грамоты.
Путята торопливо разгладил ленточку.
– Слышали есте? – Путята прочел грамоту вслух.
– Цокает, ну, точно как моя бабушка, – заметил Вася. – Она тоже вот так говорит: "Цто, Васенька, хоцешь на завтрак? "
– Угу, – согласился с ним Митя, принимая от Путяты берестяную полоску, – цоканье в новгородских говорах сохранилось с древности. Цоканье – это когда люди не делают разницы между звуками Ц'и Ч', произносят их одинаково как мягкий Ц':
цисто, цясто, нацяло, цело.
Ну-ка, отгадайте, что я сказал? – подбодрил он настроившихся на разлуку и потому поникших ребят.
– Чисто, часто, начало, цело, – уныло ответил Ваня.
– А вот и не угадал, неестественно оживленно обрадовался Митя. Ему тоже было жаль расставаться с ребятами. – Я сказал "чело'", по-древнерусски это значит "лоб".
– И в княжеском войске есть "чело", – добавил Прохор, разглядывавший грамотку через Митино плечо. – Так называется передовой полк, принимающий на себя первый удар противника.
И рассматривая грамоту, и обдумывая сказанное в ней, Прохор между тем внимательно следил за Путятой, который, убедившись, что драгоценное послание уцелело, не попало в руки недруга, с тревогой осматривал найденный ими шлем.
– Митяя есть шеломъ, – скорбно проговорил Путята. – Погыблъ есть нашъ, Митяи. – Путята снял с себя шлем, склонил голову и перекрестился. Помолчали. Вздохнув, гридь махнул рукой в сторону перелеска, где паслись лошади, и, не оглядываясь больше на ребят, направился туда.
Прохор, схватив за руки мальчишек, тотчас метнулся к подземному ходу, быстро обнял и расцеловал их.
– Ну, ребятки, с Богом! – торопливо напутство вал Прохор.
Черный зев подземелья дохнул на них памятной еще с утра холодной сыростью.
ОШИБКА
После яркого солнца густая темнота каменного коридора ослепила ребят, они долго стояли молча, прислушиваясь и присматриваясь к темноте. Изредка слышно было, как разбивались о камни срывавшиеся с потолка капли воды, и снова в глухую титину погружалось подземелье. Ребята двинулись вперед, помнили, что где-то здесь неподалеку Митя с Прохором оставили привязанный к веревке зажженный фонарик, и старательно вглядывались в темноту, надеясь уловить отблески света. Некоторое время они пробирались молча, потом Ваня заговорил:
– Вась, ты понял, о чем в грамоте было написано? Шведы пришли на Неву, и князь Александр собирает войско. Невская битва скоро! Эх, в какое время они нас домой отправили!
– Тебе же Прохор русским языком сказал, что с нами они пропадут, – отвечал Вася, но и он жалел о возвращении домой.
– Не гухой, тоже небось слышал, сердито заворчал Ваня. Только уж не такие мы маленькие, чтоб из-за нас пропадать. Языка не знаем, так выучили бы, небось не безголовые.
Но долго сердиться он не умел и уже скоро, окончательно смирившись с мыслью о возвращении домой, Ваня, как бы извиняясь перед Васей за то, что еще минуту назад был рассержен на него, первым вступил в прерванный разговор:
– Слушай, друже Василий, а чего это князь у монастыря просит оружие?
– Не только оружие, но и жито, – уточнил Вася.
– Жито – это понятно, во всех монастырях и хлеб растили, и скот разводили, а вот оружия столько откуда у монастыря?
– Оружия? – переспросил Вася и тут же охнул, наскочив на большой камень. – У – у – ух! – застонал он, схватившись обеими руками за ушибленное колено. – Ты лучше скажи, откуда тут этот чертов валун взялся?
Действительно, откуда? Тут было над чем подумать, да подумать им было уже некогда, впереди пробивался свет, и тотчас, забыв обо всем, ребята припустили бегом, тут же и поняв за крутым поворотом, что не фонарик осветил им путь. Впереди, шагах в тридцати от них, там, где свод подземного хода круто падал вниз, заставив ребят невольно пригнуть головы, была приоткрыта маленькая, толстая, кованым железом обитая дверь, которая легко и мягко отворилась от Ваниного толчка, не скрипнув, выпустила ребят из подземелья.
Настороженно и с любопытством кладоискатели наши огляделись. Но правую и левую руку от них вздымались высокие крепостные стены, а прямо перед ними в розовых лучах закатного солнца стояла нарядная вся ("как именинница", – ахнул Ваня, "ишь ты! " – выдохнул Вася), величавая церковь о трех маковках. Белокаменная, стройная, она тянулась ввысь, к небесам. Несущие золоченые кресты, высокие главы ее, напоминавшие формой воинские шлемы, в закатном свете казались зажженным трехсвечником. Сошел со звонницы долгий мелодичный звон колокола, – от неожиданности наши ребята вздрогнули, – и поплыл над лугом, на котором стояла дивная церковь, над деревянными с узкими прорезями окон домами, что лепились к крепостным защитным стенам. И вслед за первым колокольным звоном, вслед ему, нагоняя, зазвучал колокольный перезвон – благовест, сливаясь в торжественный, сердце сжимающий колокольный оркестр. На дорожках, ведущих в храм, появились люди в длинных темных одеждах.
– Монахи! Да много! – прошептал пораженный Вася.
Ваня кивнул ему в ответ. Говорить он не мог. Большой шершавый ком застрял в горле, на глаза навернулись слезы. Они были в Юрьевом монастыре! Ваня сразу это понял, но не в том Юрьевом, куда они с бабушкой, Верой Васильевной, и Васей третьего дня ходили на экскурсию, где давно уже, много лет как музей. Они были в Юрьевом монастыре, куда не доехал пропавший Митяй с грамотой от князя, где готовили жито и оружие для предстоящей битвы с Биргером. Они но ошибке, пройдя другим коридором подземелья, так и не сумели покинуть тревожный тринадцатый век, но остались здесь теперь уже без Мити и Прохора, а, значит, без языка и малейшей надежды на возвращение отсюда. Ваня крепко сжал Васино плечо, тот повернулся, и Ваня увидел две светлые дорожки, пробежавшие от глаз к подбородку друга, и понял Ваня, что и Вася все понял. Не сговариваясь, словом не обмолвившись, крутнулись друзья на месте, чтобы метнуться к спасительному подземному ходу, но дорогу им заступил высокий худой человек с реденькой русой бородкой. Как и все на этом монастырском дворе, он был в темной одежде.
– Отколе сде отрока два? – прогудел он громогласно. Подождал ответа, с удивлением взирая на немо застывших перед ним ребят. Взял их за руки. – Поидета къ игумену отьвечати. Что им оставалось делать? Пришлось идти, и по пути Ваня все оглядывался, все усиленно соображал, что предпринять. Понятно было – надо бежать. Но куда? К подземному ходу дорога отрезана, на толстые стены монастыря им с Васькой не взобраться. Поймают. Может быть, притвориться немыми? А может, честно признаться, что они пришельцы из двадцатого века? Вот ведь и одежда на них сильно отличается от здешней. Ваня глянул на свои джинсы и обмер. В пылу бегства из поруба, когда они не разбирая дороги, продирались сквозь лесные заросли, Ваня не заметил, как в клочья разодрал и джинсы, и синюю в клеточку рубашку. А потом в подземном лабиринте разодранная и прожженная одежда покрылась глинистым рыжим налетом. Васины серые штаны и майка с красным спасательным кругом на груди были не в лучшем виде. Попробуй теперь докажи, что это одежда будущего. Так что же делать? Все кончилось для них. Ничего сделать они уже но могли.
Монах подвел мальчиков к высокому крыльцу деревянного дома, легонько подтолкнул их "перед и вслед за ними пошел в чистую горницу с приземистой глиняной печью, лавками и большим столом, застеленным белой вышитой скатертью. Монах с поклоном перекрестился на иконы. Ваня и Вася неловко повторили вслед за ним.
Возле окна стоял и глядел во двор седобородый человек в такой же темной, как у их монаха, одежде, и был крест на его груди, да не простой, с грубой медной зернью, а богатый, украшенный витой серебряной нитью.
Приведший их монах почтительно, но сдержанно поклонился:
– Прiими, отче игумене, отрока два, яже обретохъ я у ходьбища на Чудиновьскую слободу. Да роспроси отрока, молю тя, отче.
Ясные спокойные глаза игумена с минуту пристально рассматривали незадачливых беглецов. Мягко и напевно игумен спросил:
– Отколе пришла еста отрочата?
Вася, пригнув голову, спрятался за Ванину спину. Ваня заморгал глазами, соображая, что ответить, и вдруг выпалил затверженное совсем недавно:
– Иванка кузнеца есве сыны, – он запнулся, по тут же добавил: – Чудиновьской слободы кузнеца сыны.
– Како звати тя? – продолжал расспросы игумен.
– Иванъ, – с готовностью ответил Ваня. Он напрягся, чувствуя, что больше сказать по – древнерусски ни слова не может.
– А тебе, отроче, како звати? – обратился игумен к Васе.
Вася, опомнившись и испуганнно глянув на игумена, пробормотал:
– Василiи, отче. – И вдруг, собравшись с духом и с мыслями, зачастил: – Изгорела есть слобода и домы изгорели суть и именiе все.
Он остановился, лихорадочно припоминая Путятины слова, и вновь пустился в объяснения:
– Ныне слобожане много добра истеряли суть, не послушали бо добраго слова, яко не гоже летось жировати въ домехъ, а жити по полю. Плачь великъ бысть. – Вася судорожно вобрал в себя воздух, и, понимая, что это все, что они могли сказать, всхлипнул от бессилия: – А я съ братомь бежалъ изъ пожара, да въ монастырь, отче, пришелъ.
В горнице воцарилось молчание. Игумен продолжал испытующе рассматривать оборванных, вымазанных копотью и глиной мальчишек.
– А кто есть вамъ ходьбище показалъ?
– Митя, – растерявшись от непредвиденного вопроса, нечаянно обронил Ваня.
– Митяи? – быстро и встревоженно переспросил игумен и наклонился к детям. – Кде ныне, есть Митяи? Везеть ли мне грамоту оть князя?
– Погыблъ есть Митяи, – вспомнил последнюю речь Путяты Ваня и добавил, старательно подбирая слова: – А грамоту истерялъ есть.
Игумен перекрестился, тяжело вздохнул:
– Ведаета ли словеса сее грамоты?
Ваня поспешно кивнул, затараторил врезавшиеся ему в память слова грамоты:
– Поклонъ игумену Арсенiю отъ Вышаты. Пришли книгы князю съ Митяемь. Князь идеть брати дань въ слободу. Буди ти весто, яко приде на Неву Бирьгеръ ратью и хоцеть воевати Новгородъ. А князь Олександръ събираеть войско. А тебе, отче игумене, просить: пришли подъводы съ житомь и меци и кольцюгы.
Ваня оторопело замолчал, он сам не верил, что смог вспомнить грамоту слово в слово.
Игумен помолчал, еще раз горестно вздохнул, положил ребятам руки на головы:
– Отче Феодосiе, накорми отрочата и одежю дай. Да веди къ брату Сергiю.
В узкой комнатке, куда привел ребят отец Феодосии, которая по-монастырски называлась кельей, стояли две широкие лавки, застеленные чистым рядном, да маленький столик, притиснутый к углу. Над столиком висела икона с горящей лампадкой.
– Омоита ся. Облацета ся въ одежю нову. Худою одежею не гоже одъвати ся, – проговорил монах и указал на кувшин с водой, стоявший на полу у двери, здесь же лежали чистые холщовые порты и рубахи.
Ополоснувшись, сняв с себя изодранную одежду, мальчики облачились во все чистое, проглотили по куску ржаного хлеба, запили его холодным молоком и, свернувшись калачиком па лавках, тотчас уснули. Тревоги этого удивительного дня наконец отступили от них.