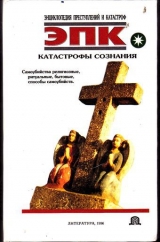
Текст книги "Катастрофы сознания"
Автор книги: Татьяна Ревяко
Соавторы: Николай Трус
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Человеко-торпеды
Отряды «Кайтен» состояли из человеко-торпед. Готовили их на небольшом острове.
Для поднятия духа среди курсантов командование усилило идеологическую обработку. Примером для подражания стал самурай Масасигэ Кусуноки, который в XIV в. помог японскому императору Годайго II захватить власть у военно-феодальных правителей.
Для курсантов ввели специальные белые повязки (хатимаки), которые носили несколько столетий назад 40 японских самураев-ронинов, охранявших императорский дворец. Для убывающих на боевое задание был выработан специальный церемониал посвящения: вручение шашки под звуки марша императорского военно-морского флота. Торжественный ужин с множеством редких для того времени продуктов, сакэ (водка) и катикури (каштаны). После ужина посвященные упаковывали личные вещи, и посылки с надписью «Предан Его Величеству навечно» или «Япония – навечно страна богов» отправлялись родственникам.
К 1945 г. было сформировано десять групп человеко-торпед. Тактика использования торпед «кайтен» сводилась к следующему: обнаружив корабль противника, лодка-носитель занимала определенное положение на пути его следования, водители садились в торпеды. Ориентируясь через перископ, командир лодки выпускал одну или несколько торпед, предварительно задав водителям курс. Пройдя определенное расстояние, водитель торпеды всплывал под перископ и быстро осматривал поверхность моря. Этот маневр рассчитывался так, чтобы торпеда оказалась на носовых курсовых углах корабля противника и на дистанции 400–500 метров от него. При таком положении корабль практически не мог уклониться от торпеды, даже обнаружив ее.
Но опыт показал, что подводные лодки-носители практически не могли беспрепятственно доставлять «кайтен» к хорошо охраняемым американским стоянкам и базам. В связи с этим японцы изменили тактику использования человеко-торпед и стали нападать на корабли и суда противника в открытом море во время перехода. Однако из-за сильной противолодочной обороны действия «Кайтен», как правило, успеха не имели.
Пловцы-смертники
Японцы применяли также отряды пловцов-смертников. Первое их подразделение были создано в начале 1994 г. Отряды эти назывались «фукуруй» (драконы счастья). Снаряжение подводных смертников включало специальный костюм, ласты, дыхательный аппарат с двумя баллонами сжатого кислорода. Пузырьки использованного воздуха не бурлили в воде за пловцом, так как циркуляция воздуха была замкнутой, что обеспечивало скрытность передвижений подводного диверсанта. Тренированный пловец в таком снаряжении мог плыть на глубине до 60 м со скоростью 2 км в час. Задачей диверсантов-смертников было доставить к вражескому кораблю бомбу или другой заряд большой мощности. Пловцы транспортировали примитивные мины на обычной палке; чтобы тяжелые боеприпасы не тонули и не тянули на дно пловца, к ним стали привязывать надутый воздухом свиной пузырь.
Тактика была следующей: фукуруй подносил ко дну корабля и вспарывал свиной пузырь. Тяжесть бомбы тянула его вниз, он подплывал под судно и бил взрывателем по дну корабля. Большинство из фукуруй пропали бесследно; им так и не удалось потревожить океан страшными взрывами. Однако в ряде случаев фукуруй все же добивались своего; известны факты гибели или повреждения американских кораблей, которым не было найдено разумного объяснения в рамках обычных представлений о вооруженной борьбе на море. Уже после войны американские военные, исследовавшие японские документы, пришли к предположению, что странная гибель кораблей – дело рук японских боевых пловцов.
Часть III. Самоубийства знаменитых людей
Акутагава Рюноскэ
Акутагава Рюноскэ (1892–1927) можно назвать последним классиком новой японской литературы, понимая под этим литературу от последнего десятилетия XIX в. (от Фтабатэя) до начала второй мировой войны, то есть того рубежа, за которым началась литература современная.
Когда Акутагава не было и года, у его матери началось психическое заболевание, и ребенка, еще при жизни отца, усыновил его дядя, чью фамилию он и принял. Эта старая интеллигентная семья имела в числе своих предков писателей и ученых периода Эдо (эпох военно-феодальной диктатуры Токугава, XVII–XIX вв.) и хранила культурные традиции тех времен. В семье господствовало увлечение средневековой поэзией и старинными школами живописи, строго соблюдался старинный уклад, требовавший беспрекословного повиновения главе дома.
Жизнь Акутагава бедна внешними событиями. В 1916 г. он окончил отделение английской литературы и языка филологического факультета Токийского императорского университета, где его сокурсниками были будущие писатели Кумэ, Macao, Кикути Хироси (Кан), Ямамото Юдзо и другие. Из университета Акутагава вынес знание европейской литературы, которое он расширял и углублял до конца жизни, и дружеские связи, имевшие некоторое значение в первые годы его литературной жизни. Окончив университет, Акутагава в течение трех лет работал преподавателем английского языка в Морском механическом училище в городе Камакура. В 1919 г. он оставил службу и переехал в Токио. Недолго проработав в редакции газеты «Осака майнити», Акутагава всецело отдался писательской деятельности. Первые его рассказы были опубликованы еще в студенческие годы и привлекли внимание крупнейшего писателя тех лет, Нацумэ Сосэки. В последние годы жизни Нацумэ (он умер в 1916 г.) Акутагава сблизился с ним и находился под его сильным моральным и психологическим влиянием. Он быстро выдвинулся в литературном мире и оставался в первых рядах писателей до конца своей недолгой жизни.
Акутагава вступил в литературу в 1916 г… Акутагава сам сказал: «По моему мнению, девяностые годы XIX в. были временем высшего расцвета искусства. И я сложился как человек в художественной атмосфере этого десятилетия. Мне не легко было освободиться от этих влияний юношеских лет. И по мере моего роста я чувствовал это все острей». Вот в несоответствии всего комплекса идей и подхода к жизни, восходящих к искусству «конца века» – минувшего, и окружающей действительности начала века – нынешнего в остром осознании этого несоответствия и тщетных попытках преодолеть его и состоит трагедия Акутагава как человека и художника.
В самом начале литературной деятельности Акутагава совместно с писателями Кумэ и Кикути образовал группу, которая резко противопоставила себя натурализму и выступила глашатаем нового течения, подчеркивавшего ценность литературы прежде всего как искусства. В противовес бытописательству и нарочитой безыскусственности изложения, к чему стремилась натуралистическая литература, эта группа, именовавшая себя «Сингикоха» («Школа нового мастерства»), заявила права на литературную выдумку, на отчетливо выраженную фабулярность, требовала разнообразия и красочности материала, ценила яркость образа и выразительность языка. Все это нашло воплощение в творчестве Акутагава, которого можно назвать лучшим мастером сюжетной новеллы в японской литературе.
Акутагава начинал свою литературную деятельность под сильным влиянием эстетизма. Он сам вполне ясно сказал об этом в «Жизни идиота», хотя бы в первой ее миниатюре: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера».
Через все творчество Акутагава проходит одна основная тема: моральный облик человека. В первые годы своей писательской деятельности Акутагава не ставит в своем творчестве социально-политических проблем, нет у него и ярких картин современного быта. Его интересует психология и взаимоотношения людей в плане нравственном. Именно поэтому он так легко переносил действие своих рассказов в условную старину.
Следует заметить, что не духовная жизнь конкретного человека, а чувство само по себе, психологический конфликт сам по себе является объектом творчества писателя, и такой психологизм носит несколько абстрактный характер. Японская критика отметила это, говоря об интеллектуализме творчества Акутагава. Надо, однако, подчеркнуть, что Акутагава не бесстрастен и тем более не исходит из нигилистического отрицания добра и зла, а наоборот – из высоких этических требований. Не цинизм, а скепсис и пессимизм характеризуют его отношение к человеку, скепсис, часто окрашенный душевной болью.
Но не только отрицание – скепсис – составляет окраску новелл Акутагава. Им владеет тоска по не существующей в действительности нравственной чистоте и высоким и цельным чувствам.
Именно в этой тоске, видимо, коренится его интерес к христианству. Мотивы христианства занимают в творчестве Акутагава заметное место. Его «христианские» рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения – иронии, направленной на объективную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего. Всякую сверхчувственную реальность Акутагава всецело отрицал. «Мой материализм не мог не отвергнуть всякую мистику» («Зубчатые колеса»). Но сама по себе религиозность, сила веры и душевная ясность верующих на некоторое время представали перед ним как этически высокие и неподдельные чувства, составлявшие в его глазах подлинную духовную ценность.
В начале двадцатых годов характер творчества писателя несколько меняется.
Новые тенденции в творчестве Акутагава можно коротко характеризовать как отчетливое стремление вырваться из пут абстрактного психологизирования, стремление приблизиться к современности, показывать «живых людей, как они есть», не прибегая при этом к искусственной сюжетной напряженности, которая для рассказа о «сегодняшней, этой Японии», ощущалась им как нечто неестественное, «литературное, слишком литературное». После одного из своих полуфантастических-полуисторических рассказов «Дракон» Акутагава писал: «В искусстве нет застоя. Не идти вперед – это значит идти назад. Когда художник идет назад, всегда начинается известный процесс автоматизации, это означает, что как художник он стоит на краю смерти. И я, написав „Дракона“, явно подошел к порогу такой смерти» (заметки «Искусство и прочее»).
С 1924 г. стали появляться рассказы, называемые по имени их героя Хорикава Ясукити – «Ясукити-моно», в которых герой отождествляется с самим писателем. Однако их все же еще нельзя ставить в ряд с «ватаку-сисесэцу» («романом о себе»). Один из основных исследователей творчества Акутагава Хсида Сэйити тонко замечает, что самый стиль этих рассказов отдаляет читателя от рассказчика. Затем последовал ряд рассказов, где повествование ведется от первого лица.
В последние годы жизни Акутагава его рассказы, и раньше невеселые, приобрели мрачную окраску. Многие из них представляют собой как бы объектизацию в образах душевной подавленности самого автора и потому проникнуты удивительным лиризмом. Такова уже «Осень» с ее тоном примиренной, безнадежной грусти о неудавшейся жизни. Таков «Сад», повествующий о том, как распадается семья, одно за другим умирают три поколения и глохнет, гибнет старый сад, символизируя этим конец целой эпохи.
Эту мрачную окраску вызвал переживавшийся писателем тяжелый душевный кризис.
Акутагава оказался в общественной и идейной изоляции, в «аду одиночества». «Ад одиночества… внезапно появляется среди пиков гор, на широких полях, в просторе небес, в тени деревьев – всюду. Словно видимый мир сразу так, как он есть, являет мучение ада. И вот уже два-три года, как я низринут в этот ад… Я вижу – и все время мечусь из одного мира в другой. Но, конечно, из ада мне все же не уйти» («Ад одиночества»).
Акутагава не смог уйти из своего ада, не смог вырваться из-под власти своего дьявола – того «демона конца века», о котором с почти суеверным ужасом он пишет в «Жизни идиота». Он подлинно зашел в тупик.
Тогда Акутагава оглянулся на свою жизнь, на свое искусство и стал судить себя суровым судом. Таково содержание написанных им в последние месяцы жизни и опубликованных только посмертно вещей: «Зубчатые колеса», «Диалог во тьме» и «Жизнь идиота». Нельзя не почувствовать в этих предсмертных вещах еще и пронизывающего их страдания. «Зубчатые колеса» – это поистине крик боли. «Жить в таком душевном состоянии – невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю».
Страх перед наследственным безумием, конечно, сыграл свою роль в тяжелом душевном состоянии Акутагава. В новелле «Зубчатые колеса», в которой появляются признаки начинающейся психической болезни автора, он в то же время предстает во всеоружии своих творческих сил и мысли. Именно здесь он дает беспощадную оценку своему искусству, сравнивая его с бесполезным уменьем одного юноши сдирать шкуру с дракона, о чем говорится в рассказе-притче древнего китайского философа и поэта Чжуан-цзы, и вспоминая о проклятье, висевшем над апологетом верховенства искусства над жизнью, художником Хсихидэ («Муки ада»). Здесь пишет он о своей мечте: наполнить свое искусства общественно значимым содержанием, написать роман. «Героем его должен был быть народ во все периоды своей истории.» Народу посвятил он последние три записки в своих лирико-философских раздумьях «Слова пигмея», законченных в декабре 1926 г. (и тоже опубликованных посмертно). Придя к мысли, что «избранное меньшинство – это другое название для идиотов и негодяев» («Диалог во тьме»), он понял, что творцом самого для него дорогого – искусства – является народ. Первая запись под названием «Народ»: «Шекспир, Гете, Ли Тайбо, Тикамацу Мондзаэмон погибнут. Но искусство оставит имена в народе». В «Диалоге во тьме» Акутагава уточняет слова, углубляет мысль: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно – великий народ – не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась форма, родится из его недр». Вторая запись: «О том же. Слушайте ритм ударов молота! Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Третья запись: «О том же. Разумеется, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст еще кого-нибудь. Гибель одного дерева не более чем частное явление. Пока существует несущая в себе бесчисленные семена великая земля». В «Диалоге во тьме» Акутагава изменяет выражение этой мысли, снимая даже столь дорогое интеллигенту представление о неповторимости своей личности: «Голос. Ты, пожалуй, погибнешь. Я. Но то, что меня создало, создаст второго меня».
Еще ранее (в «Зубчатых колесах») Акутагава писал: «Такой, каким я был теперь, я в глазах всех, несомненно, был юношей из Шоулин». Акутагава имеет в виду одну из притч Чжуан-цзы. Некий юноша из города Шоулин хотел дойти до города блаженных. С этой целью он стал учиться ходить так, как ходят там, но научиться не смог. Все-таки он отправился в город блаженных, но с полпути ползком вернулся обратно, поскольку разучился ходить даже так, как ходят в его родном городе. Акутагава не захотел оставаться в воем Шоулине, но, почувствовав себя не в силах идти вперед, не захотел и возвращаться. Оценив свое бессилие как поражение, казня себя за него как за вину, в июле 1927 г. он покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала.
В «Жизни идиота» с лаконичностью, характерной для японской поэзии, в удивительно емких, выразительных образах Акутагава запечатлел трагедию своей жизни, своих исканий, трагедию интеллигента, не сумевшего встать вровень со своим временем, слиться с живыми силами действительности, «евнуха жизни» («Жизнь идиота»).
Психологический анализ самоубийства Акутагава делает Дзюнъитиро Танидзаки в эссе «Понемногу о многом» (кн. «Мать Сигэмото». М., 1984).
Сейчас уже прошло десять с лишним лет с тех пор, как г-н Акутагава сказал следующие слова: «Бывало ли у вас когда-нибудь, что в процессе создания какой-нибудь вещи вам невольно приходило в голову: а стоит ли она таких мучений? И для чего вы вообще делаете эту работу? Сенкевич как-то заметил, что, когда вас „посещает подобное настроение, считайте, что это проделки дьявола“.
Не помню, что я ответил тогда, но нельзя сказать, что я не испытал подобного состояния. Во всяком случае, я ответил в том духе, что настроение, которое возникает в тот момент, когда слабеет творческий пыл, безусловно крайне опасное время для художника, и о нем помнит каждый, кто хоть однажды испытал его.
Может быть, г-н Акутагава как раз попал в ловушку „дьявола“, о котором говорил Сенкевич. Но мне все кажется, что человек не может уйти их жизни только потому, что у него угас творческий пыл. Г-н Акутагава говорит в своих записках, что у него пропали аппетит и чувственное влечение. Что же стало с его любовью к чтению, которым он был буквально одержим? Неужели даже любимые книги стали ему неинтересны? Или, может быть, этого недостаточно, чтобы привязать человека к жизни?
Не знаю, послужили ли толчком к самоубийству исключительно философские раздумья г-на Акутагава; во всяком случае, читая его записки, к такому выводу прийти трудно. Пишет ли г-н Акутагава о нервном истощении, вызвавшем у него смертельный холод, или о мутно тревоге, он просто говорит о своем самочувствии. Конечно, покойный Акутагава, оставляя эти записки, не ставил перед собой задачи сообщить людям о своем намерении, да и вряд ли такая необходимость была, поэтому не будем делать поспешных выводов, основываясь лишь на той или иной записи. И все же вызывает недоумение, почему г-ну Акутагава с его тонким умом не удалось более определенно объяснить, что означает эта смутная тревога. И сам собой напрашивается вопрос: а действительно ли покойный хотел сообщить людям правду?
„Не приставайте ко мне с мелочами. Молчите, дайте человеку спокойно умереть“. – Возможно, сейчас под землей он говорит нечто подобное.
Уход г-на Акутагава из жизни мне представляется прозой, лишенной сюжета. Нельзя сказать, что большинству писателей в работе постоянно сопутствует творческое горение. Скорее оно лишь периодически появляется, да и то прерывисто. В наш век журнализма профессиональные писатели в большинстве своем пишут не потому, что они действительно не могут не писать, а потому, что их подхлестывают издатели газет и журналов, и все-таки даже при такого рода опеке если пишущий не испытывает творческого горения, то, как он ни старается, он не в состоянии выжать из себя ни строчки. Я не имею здесь в виду людей, которые готовы на любые унижения в своей жажде денег; я говорю о тех, кто честно работает в искусстве. Как тут быть? Ничего не остается, как терпеливо ждать когда пишущего вновь посетит вдохновение. Бывает, что оно возвращается разу, а бывает, что ждешь по несколько лет, а оно и не думает возвращаться. По существу, все в руках Музы, и сам писатель ничего не может поделать, и то, что он пытается этой профессией жить, содержать семью, – занятие, похожее, если можно так выразиться, на рискованнейшую переправу.
Нет сомнения, что г-н Акутагава, который не в состоянии был даже помыслить писать ради денег, всю рискованность этой профессии необыкновенно остро чувствовал, гораздо острее, чем кто-либо другой. Когда г-н Кикути Кан ушел с поста почетного члена редакции „Осака Майнити“, г-н Акутагава один остался в этом издательстве, и как-то он сказал: „Мне неловко перед издательством из-за того, что, почти совсем не тревожусь, когда не имею ежемесячного заработка, хотя бы самого незначительного“. Впечатлительный покойный, видимо, очень боялся, что однажды он может стать жертвой „дьявола“ Сенкевича. И в самом деле, в его творческой манере очень рано наметилась своего рода болезненность, которая легко могла стать добычей „дьявола“. Конечно, так называемая болезнь не всегда и не во всех произведениях есть изъян, бывает, что она привносит своеобразие в то или иное сочинение, и у г-на Акутагава есть прекрасные образцы в этом роде. Но если бы г-н Акутагава решительно расправился со своей болезнью и хотел во то бы то ни стало сохранить данный ему от природы дар, ему следовало бы уменьшить количество своих произведений, хотя в сравнении с большинством нынешних писателей он отнюдь не был плодовит. Но лучше было бы, если бы г-н Акутагава, еще больше сокращая объем написанного, стремился бы, насколько это возможно, накапливать творческую энергию.
И поскольку он знал за собой такую слабость лучше, чем кто бы то ни было другой, не владело ли им, с другой стороны, нечто похожее на навязчивую идею, не боялся ли он, что если он не будет постоянно писать, то он совсем утратит эту способность? Когда представишь, что это действительно было так и как он при этом мучился, нельзя не испытывать к нему безграничную жалость и сострадание. Если это состояние назвать более определенным словом „неврастения“, тогда, как говорится, расставлены все точки, но нельзя все списывать на счет болезни, она лишь часть его психофизической природы, и потому не годится обращаться с г-ном Акутагава как с безусловно больным человеком.
По возвращении с похорон г-на Акутагава несколько писателей – Идзуми, Сатоми, Минаками, Кубота и я – все мы вместе собрались в парке Кайраку на реке Коисигава и предались воспоминаниям. И вот что сказал тогда г-н Сатоми Тон: „В последнее время г-н Кутагава беспрерывно жаловался, говоря, что писать прозу действительно тяжко, трудно. Я об этом узнал со стороны и передал ему через знакомых, что нельзя быть таким малодушным; писание, конечно же, трудное занятие, о чем каждый пишущий прекрасно знает уже в начале пути, и потому по возможности не стоит падать духом, а, напрягая все силы, нужно доводить работу до конца. И, кажется, в ответ на это он меня очень благодарил“. Интересно, что в этом эпизоде отчетливо проявляется несколько характеров г-на Сатоми и г-на Акутагава. Пример, который привел г-н Минаками, был весьма красноречив: „В произведениях г-на Акутагава еще с ранних пор видна была усталость. Однажды мне случилось прямо сказать ему: „Простите, но вы по-моему, подустали“. – „К сожалению, это правда, и я сам хорошо это понимаю“, – ответил он“. Так говорил г-н Минаками и продолжал: „По существу, я думаю, г-н Акутагава не владел искусством прозы. Он был талантливым человеком, но не был прозаиком. Когда я попытался сказать об этом во всеуслышание перед труппой театра Санда, мне было заявлено, что я говорю возмутительные вещи“. Что имели в виду люди, критиковавшие г-на Минаками, не знаю, но я во всех отношениях согласен с ним. „Г-н Акутагава и в самом деле не был прозаиком, – сказал я тогда, – он не был рожден для того, чтобы писать прозу. Если бы он, скажем, родился в эпоху Токугава и жил в атмосфере изящных и утонченных вкусов, он сумел бы поддерживать свое существование в качестве художника школы бундзин (школы интеллектуалов) и, вероятно, смог бы сколько душе угодно проявлять свои способности. Если бы он много раньше появился на свет, он, наверное, был бы выдающимся человеком“. На это г-н Минаками возразил: „Да ну что вы, хоть он и не стал художником школы бундзи, и в нынешних условиях он мог бы найти более подходящую сферу деятельности. Например, что было бы, если бы этот человек стал эссеистом, если бы не попал в тягостный литературный мир, а, став профессором университета, написал бы тракт о Нацумэ Сосэки? Уверен, он бы очень просветил нас. Он вел бы лет до сорока жизнь ученого. И если бы затем он начал писать, он сумел бы, вероятно, вырасти в более самобытного художника и, может быть, долго жил“. И с этим я был совершенно согласен. Нередко несчастья обрушиваются на тех, кто нарушает законы житейской мудрости. Я хочу сказать, что г-н Акутагава был проницательным человеком, но, может, оттого, что первые шаги он сделал не по тому пути и, вопреки своей природе, впрягся в лямку литературного мира, все так и случилось – на мгновение я поверил в это. Но когда я еще раз все обдумал, мне показалось, что, по всей вероятности, покойный Акутагава был таким человеком, который в силу своей нервозности чувствовал постоянную скованность. И сейчас я сомневаюсь, что, даже став эссеистом, он смог бы высказывать без церемоний все, во что он верил. Если, сказав лишь самую малость нелицеприятного о г-не Мори Огай, он не находил себе места от беспокойства, то как бы он сумел написать трактат о Нацумэ Сосэки, с которым был в гораздо более тесных отношениях? Но если все-таки допустить, что он написал бы его, то при чтении наверняка это вызвало бы неприятное впечатление неясности, недоговоренности. Ему не хватало ни проницательности эссеита, ни эрудиции, ни критического чутья, скорее ему недоставало мужества высказаться до конца. При жизни, в тех случаях, когда г-на Акутагава был со мной доверителен, он высказывал достаточно откровенно свои мнения по разным поводам, и я всегда до глубины души поражался, каким точным, превосходным был его взгляд на вещи, сколь широки были его интересы, сколь разносторонни были его научные знания и сколь подробные сведения он имел о мировом искусстве, старом и новом, восточном и западном. Во всем, что касалось описания человеческих характеров, г-ну Акутагава нельзя было отказать в способности иронического воспитания жизни. И даже когда мы просто разговаривали с ним за чаем, в этих беседах было много поучительного, и мне не раз приходило в голову, что если бы этот человек написал большой критический труд, то какую пользу это, очевидно, принесло бы нашей литературе. Человеку, не обладающему ни критическим чутьем, ни самостоятельностью суждений, не нужно мужество, но как быть тому, кто, имея блестящие мысли, к которым стоило прислушаться, не обладает при этом мужеством? Вот, по-моему, в чем действительно была прискорбная слабость г-на Акутагава.
Может, и в самом деле литературный мир тягостен? Но, я думаю, в нашем мире, где бы человек ни находился, редко где ему бывает легко и покойно. Например, как себя чувствует человек в мире политиков, чиновников, деловых людей?
Не знаю, как в обществе деловых людей, но в сравнении с миром политиков и чиновников литературная среда мне кажется гораздо более приятной и чистой. Конечно, преследования из зависти, клевета инсинуации есть во всех слоях общества. Однако литераторы в целом отличаются порядочностью и прямодушием. Среди них, безусловно, нет людей, которые, даже ненавидя партнеров, отважатся на жестокие поступки, находя удовольствие в том, чтобы поймать человека в ловушку с помощью ложных обвинений или хитрых уловок или подвергнуть невинного критике, после которой тот не в состоянии встать. Даже если антагонизм и есть, то существует он до тех пор, пока открыто не выплескивается, а потом быстро сходит на нет. А если даже антагонизм и таится в глубине души того или иного человека, никогда не доходит до того, чтобы он нападал на своего противника первым, и обычно дело ограничивается только ворчанием. Есть, вероятно, и в литературной среде люди, способные на вероломные поступки, но если сравнивать их поступки с гнусными махинациями политиков и актеров, то это просто озорство, похожее скорее на невинную детскую забаву. Наши воспитатели и полицейское управление обычно нападают на художников: мол, те ведут богемную жизнь со всеми вытекающими отсюда дурными последствиями. Блюстители порядка и нравов считают, что опасные мысли и дурные поступки являются пороком всего литературного мира. В действительности же, я думаю, нравственный уровень литературной среды гораздо выше, чем других слоев общества. Среди людей литературного мира не найдется ни одного, который, подобно политикам или актерам, способен бесстыдно провозглашать публично заведомую ложь. Литераторы не обладают ни такой смелостью, ни таким бесстыдством. Это не значит, что литераторы не совершают дурных поступков. Совершают подчас и преступления, и это не остается незамеченным, и они сами, если понимают, что содеяли дурное, как и подобает мужчинам и честным людям, принимают вину на себя и, принося извинения обществу, несут ответственность за свои проступки. Они никогда не позволят себе, подобно политику из некоей страны, ложь и дурные поступки которого были недавно разоблачены, вести себя после этого как ни в чем не бывало, выдавая черное за белое, никого не стыдясь, только бы любой ценой охранить свое лицо, как высокомерно позволяют себе поступать в высших слоях общества. Даже если бы в литературной среде возникло такое же судебное разбирательство, как в случае с Мацусима Такэси, так и обвиняемый и свидетели не очень расходились бы в своих показаниях, и действительные обстоятельства дела безо всякого труда стали бы очевидными, и сразу же докопались бы до истины и узнали бы, кто виноват. Да, возможно, все, как один, участники процесса заявили бы: „И я до некоторой степени виновен“. Вот ровно настолько все мы обладаем, должно быть, сознательностью. Что касается писателей и их личной жизни, то сложность заключается в том, что публика наблюдает за нами с неистощимым любопытством, и невозможно скрыть даже то, в чем нет нужды исповедоваться. Прошу простить меня за то, что я ссылаюсь на этот факт, но семейная драма г-на Мусякодзи, то ли с целью обвинения, то ли для того, чтобы позубоскалить, не раз становилась материалом для газет, тем более что г-н Мусякодзи такой человек, к которому стоит только обратиться, как он тут же выложит все как есть. Можно не сомневаться в том, что если бы на его месте был политик, то он под любым предлогом уклонился бы от разговора из-за боязни, что его могут разоблачить. Может быть, в таком положении вещей есть также и дурные стороны, но, так или иначе, в литературном мире не процветают ложь и лицемерие и атмосфера его более ясная и чистая.
Кстати, когда-то я говорил об этом с г-ном Акутагава, и он разделял эту точку зрения. „Да, это действительно так. Литературная среда еще более или менее невинна. На днях я слышал о сильнейших трениях в среде университетской профессуры, и, узнав, какими способами, как коварно, по-женски, они действовали, до каких гнусностей они доходили, я действительно был потрясен. Ученые – это нечто ужасное. Да, я-то уж не смог бы находиться среди них“.
Но тогда г-н Акутагава, даже если бы он стал университетским профессором, сбежал бы от них гораздо скорее, чем Нацумэ-сэнсэй. А сам он не вытерпел жизни даже в литературной среде, которую считал наиболее приемлемой. Какой несчастный человек!
Искусство, созданное г-ном Акутагава, его проза, когда читаешь ее, пожалуй, именно как проза не удовлетворяет. Но когда знаешь историю страданий одинокой души, историю г-на Акутагава, одаренного ясным умом и самыми разнообразными талантами, но для жизни в этом мире имевшего совсем неподходящие склонности и темперамент, понимаешь подлинные достоинства его прозы. Его агонию никак нельзя сравнивать с тяжелым, отдающимся в ушах стоном, как у раненого зверя. Едва заметное, затрудненное дыхание, словно у человека, больного астмой, слышно во многих его произведениях. В те времена, когда г-н Акутагава был начинающим писателем, нередко могли настаивать на необходимости формального совершенства прозы, но это все не имело существенного значения для его произведений. Думаю, что покойный в последние годы своей жизни, вероятно, мог согласиться с некоторыми из моих суждений.








