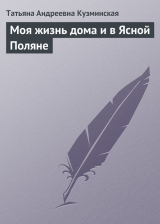
Текст книги "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне"
Автор книги: Татьяна Кузминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
– Смотрите, смотрите, – кричала я смеясь, глядя на эту пару.
Проходя мимо двери залы, у которой стоял Кузминский, я сказала ему:
– Вот Митенька гораздо добрее тебя, и я люблю его, а ты злой и капризный.
– Ну, не сердись, не сердись, – догоняя меня, говорил он, – я больше не буду; хочешь, пойдем танцевать мазурку, – и он взял меня за руку.
Я согласилась, и мир был заключен. Когда впоследствии Лев Николаевич узнал про свадьбу Мими, он сказал мне:
– Отчего вы меня не позвали. Это нехорошо. Мне все Варенька рассказала про эту свадьбу.
Молодая жизнь наша, полная любви, поэзии и какого-то беззаботного веселья, царила в нашем доме.
Мы все были понемногу влюблены. И эта любовь, такая детская и, может быть, даже смешная в глазах взрослых людей, понимающих жизнь, будила в наших сердцах так много хорошего. Она вызывала сострадание, нежность, желание видеть всех добрыми и счастливыми.
Одна Лиза оставалась верна своей прежней серьезной жизни. Она с таким же увлечением продолжала учиться по-английски, много читала и немного выезжала. Правильные черты ее лица, серьезные выразительные глаза и высокий рост делали ее красивой девушкой, но она как-то не умела пользоваться жизнью, не умела быть юной, в ней не было той «изюминки», по определению Льва Николаевича, той жизненной энергии, что он находил в нас с Соней.
Поливанов чаще стал бывать у нас, он проводил в корпусе последний год. Я замечала, что уже давно он был неравнодушен к Соне. Любовь эта была вызвана ее участливостью к нему. Он был одинок, наш дом был для него как бы родным. Соня участливо относилась к нему, когда его постигло горе. Одна сестра его умерла. Другая 18-ти лет пошла в монастырь. Соня утешала его, как умела, беседовала с ним, играла ему его любимые арии из опер и сочувствовала ему, когда у него бывали неприятности по корпусу.
Поливанов сильно привязался к ней.
Я стала замечать, что как будто и Соня стала к нему неравнодушна. Она часто заговаривала о нем со мной. Бывало, посидит молча, призадумается и с улыбкой скажет мне:
– Ты знаешь, Таня, что он мне сказал: «У вас удивительное сердце. Когда я с вами, я делаюсь совершенно другой. Вы всегда имеете на меня хорошее влияние»… И еще многое он говорил мне… – вспоминала Соня.
Ее выражение лица делалось то задумчиво-серьезно, то задорно-весело.
– Соня, – говорила я, – ты ведь сама влюблена в него. Я это давно заметила, да молчала.
Соня не отвечала мне.
Мы, сестры, жили внизу в большой комнате. Кровати наши с Соней стояли вдоль стены рядом, а Лиза спала в другом конце комнаты за ширмами. У меня под подушкой всегда лежала книга «Евгений Онегин». Я перечитывала ее несколько раз и многое знала наизусть.
В ногах нередко лежал серый котенок, принадлежавший Трифоновне. Я любила этого котенка, наряжала его и возилась с ним так же, как с куклой Мими, игравшей большую роль в нашей семье.
Василий Иванович, в память этих двух любимцев, написал мне в альбом стихи:
Я помню, когда-то беспечный ребенок
С замасленной куклой Мимишкой играл.
Года миновались, и серый котенок
С Евгеньем Онегиным в честь вдруг попал.
И бросить игрушки придется нескоро,
Онегина, котика вам заменят
Другие, – они будут лучше, без спора,
Но долго придется еще вам ими играть.
1860 г. 26 июля. Летучая пышь.
Подпись эта произошла оттого, что однажды Василий Иванович неожиданно влетел к нам в столовую с какой-то новостью. Его волосы, как щетина от ветра, развевались во все стороны, его глаза без очков смотрели непривычно, дико, и я сравнивала его с летучей мышью. Это прозвище осталось за ним.
В большой семье всегда существуют прозвища. Няня наша тоже окрестила нас, трех сестер, именами: Лизу – «профессоршей», Соню – «графиней Армонд» (вероятно, она вычитала это имя в одном из переводных старинных романов), меня – «саратовской помещицей», из-за девочки Федоры.
Наша Федора стала теперь уже молоденькой девушкой, когда в 1861 году вышла вольная, Федора осталась у нас на жалованьи 3 рубля. Она больше всех любила Соню, меня и няню. Мы узнали от нее, что у нее не было отца, а был вотчим, что у матери еще двое детей, и что они очень бедны. По вечерам, когда мы ложились спать, она нередко рассказывала нам про свою деревню.
Мы должны были ложиться в десять с половиной часов и тушить свечку в одиннадцать, но оживленные разговоры с Соней обыкновенно начинались позднее.
– Тушите свечку, – говорила Лиза. Но мы не тушили.
– Я завтра мама скажу, что вы болтаете вздор и не слушаетесь ее.
– Говори, мы не боимся, – отвечала Соня, – тебе не о чем говорить, ты и спи.
Лиза, поворчав немного, оставляла нас в покое.
Соня теперь уже поверяла мне свое увлечение Поливановым. Она говорила, что субботы стали для нее полны значения и содержания и что он намекнул ей на днях, что он давно уже любит ее.
Все это чрезвычайно нравилось мне, я тоже не хотела отставать от нее и говорила ей о своем увлечении к cousin Кузминскому.
– Ты знаешь, Соня, мы ведь объяснились с ним.
– Когда? – спросила Соня.
– А помнишь, на Рождестве после танцев, когда еще ты мазурку с Поливановым не танцевала, обещала другому, а он обиделся.
– Да, да, помню, – сказала Соня. – А как же вы объяснились?
– Мама послала меня принести накидку, и мы побежали с Сашей Кузминским в спальню за перегородку; было темно, и только свету, что лампада горела.
Я отворила шкап, а там в углу сидит моя Мими. Мама припрятала ее. Я взяла ее и поцеловала, а он засмеялся.
– Бедная Мими, – сказала я, – я теперь мало играю с ней, а ей головку переменили, старая разбилась. Я с ней прощаюсь, а ты вот венчался с ней и не прощаешься. Простись сейчас же.
И я подставила ему куклу.
– Поцелуй ее.
А он отстранил ее. Я взяла ее руки, обвила ими его шею и молчу, и он молчит и смотрит на меня.
– Ну целуй ее, – говорила я.
А он через голову Мими нагнулся ко мне близко, близко и поцеловал меня, а не Мими. И нам обоим стало очень неловко. Он помолчал и говорит:
– Через четыре года я кончаю училище, и тогда…
– Мы женимся? – перебила я его.
– Да, но теперь «этого» делать не надо.
– Мне будет тогда 17 лет, – сказала я, – а тебе 20. Хорошо. Так наверное?
– Да, наверное, – ответил он.
– Соня, только смотри, не говори никому, что он поцеловал меня, а про то, что мы женимся, я сказала мама.
– Ну, а мама что?
– Она сказала: «Вздор не говори, тебе рано об этом думать».
– А что ж такое, что вы поцеловались? Вы же двоюродные, и когда он уезжает в Петербург, вы же всегда целуетесь на прощание, и мама позволяет, – сказала Соня.
– Ну, это совсем другое. Там можно, а тут нельзя, и он сказал, что это в последний раз.
Эта сцена была описана сестрою в ее повести, о которой буду говорить позднее.
Когда Кузминский уезжал в Петербург, мама разрешила нам переписываться, но только по-французски, вероятно, для практики французского языка.
Я старательно писала брульоны и давала их читать Лизе, чтобы она поправляла орфографические ошибки. Лиза добросовестно и терпеливо исполняла мою просьбу.
Когда же я случайно видела в окно почтальона, звонившего у нашего крыльца, я летела в переднюю смотреть, нет ли мне письма из Петербурга, и когда получала его, с нетерпением распечатывала его. Письмо всегда почти начиналось так:
Votre amabilite, tres chere cousine, m'a vraiment touchee, je me suis empresse de vous repondre…[3]3
Ваша любезность, милая кузина, меня очень тронула, спешу ответить вам… (фр.)
[Закрыть]
Я перелистывала письмо дальше, желая найти в письме что-либо, чего бы я не могла показать мама или Лизе, но затем шло описание препровождения времени, иногда была пущена философия насчет прочитанной книги, как, например: «Quand la vie exterieure est bien reglee – la vie interieure se rectifie et s'epure»[4]4
Когда внешняя жизнь идет правильно, внутренняя восстанавливается и очищается (фр.)
[Закрыть].
Затем следовала подпись: Je vous embrasse bien tendrement. Votre cousin devoue…[5]5
Нежно целую вас. Ваш преданный вам брат (фр.)
[Закрыть] и т. д.
Недаром мать разрешила мне эту переписку. Все письма его дышали приличием и элегантным французским языком.
Но и эти письма доставляли мне удовольствие, потому что я чувствовала себя как бы взрослой.
XIII. Лев Николаевич в нашем доме
Наш дом стал посещать Лев Николаевич всякий раз, как он приезжал в Москву. Никто не придавал значения его посещениям. Он приходил, когда ему вздумается, и днем, и вечером, и к обеду, как многие другие. Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился равно.
С Лизой он говорил о литературе, даже привлек ее к своему журналу «Ясная Поляна». Он задал ей написать для своих учеников два рассказа: «О Лютере» и «О Магомете». Она прекрасно написала их, и они полностью были напечатаны в двух отдельных книжках, в числе других приложений.
С Соней он играл в четыре руки, в шахматы, часто рассказывал ей о своей школе и даже обещал привести своих двух любимых учеников.
Со мной он школьничал, как с подросткам. Сажал к себе на спину и катал по всем комнатам. Заставлял говорить стихи и задавал задачи.
Он часто собирал нас к роялю и учил петь:
С тобой вдвоем коль счастлив я,
Поешь ты лучше соловья.
И ключ по камешкам течет,
К уединенью нас влечет.
«Херувимскую» Бортнянского и многое другое.
Все это пели хором; но, выделив мой голос, он привозил мне ноты, часто сам аккомпанировал, иногда подпевал и называл меня «мадам Виардо» (известная певица того времени) или «Праздничной».
Помню, как он однажды перед обедом сочинил нам оперу, как он выразился. Это была просто маленькая сцена с пением. Сюжет был следующий. Муж ревнует свою безвинную жену к молодому рыцарю. Рыцарь объясняется в любви Клотильде, она отвергает его любовь. У мужа с рыцарем происходит дуэль, и муж убивает рыцаря.
Аккомпанировать нам должен был Лев Николаевич. Мотивы, известные нам, мы выбрали заранее.
– А слова, – сказал нам Лев Николаевич, – придумывайте сами, чтобы носили итальянский характер, а главное, чтобы никто не понимал их.
Когда роли были распределены, устроена сцена и публика сидела на местах, Лев Николаевич сел за рояль и блестяще сыграл что-то вроде увертюры.
Представление началось.
Первый вышел на сцену брат Саша в роли рыцаря в наскоро придуманном костюме.
Он пропел о своей любви к Клотильде на голос арии из оперы «Марта».
У брата был прекрасный слух и небольшой голос. Он прикладывал то одну, то другую руку к сердцу, подражая артистам.
Затем вышел хор: Соня, Клавдия, дочь няни, Поливанов и меньшие братья.
Клавдия была воспитана в приюте, куда поместил ее мой отец. Ей было тогда 16 лет, у нее был хороший контральто, и она часто пела с нами.
Хор вели старшие; малыши скорее мешали, но наполняли собой сцену.
Лев Николаевич старательно придумывал подходящую под известные роли музыку и подлаживал нам очень удачно.
Выход был за мной в роли Клотильды, в средневековом, наскоро импровизированном костюме. Я немного приготовила себе слова из романсов, мне знакомых.
Я робела. Мы вышли вдвоем с Клавдией – она в качестве моей подруги. Пропели дуэт, известный нам на голос романса:
Люди добрые, внемлите Печали сердца моего…
Я должна была жаловаться на свою судьбу. Подруга ушла, и я, по импровизации Льва Николаевича, одна уже перешла в allegro, причем старалась жестами подражать моей учительнице пения, Лаборд, московской кантатриссе.
Вошел рыцарь. Он объяснился Клотильде в любви. Она отвергла его любовь речитативом. Он встал перед ней на колени. Все шло своим чередом. Но вдруг Лев Николаевич шумно и громко заиграл в басу.
Дверь отворилась, и появился грозный муж в лице фрейлен Бёзэ. Одета она была в охотничьи шаровары, с красной мантией через плечо, с приклеенными волосяными подкладками в виде бак.
Она грозно пела басом, подбирая немецкие слова: Trommel, Kummer, Kuche, Liebe[6]6
Барабан, горе, кухня, любовь (нем.)
[Закрыть], причем грозно наступала на рыцаря. Ее маленькие черные глаза сверкали гневом. На голове была надета большая круглая шляпа с длинным пером, брови были подрисованы, и ее невозможно было узнать.
Все это было так неожиданно и комично, что послышался неудержимый хохот Льва Николаевича. Я взглянула на него. Он весь трясся от смеха, перегибаясь в бок к роялю, выделывая при этом в басу громкие рулады.
Его смех заразил всех. Я закрылась платком, как бы плача, и под музыку звала подругу свою: Клара! Клара!
Публика громко дружно смеялась. Но рыцарь и грозный муж не изменили своей роли. Вызвав на дуэль рыцаря, фрейлейн Бёзэ замахала саблей и сразила соперника.
Тем представление и окончилось.
– Ох, Боже мой, давно так не смеялся, – говорил Лев Николаевич, доигрывая свой финал.
В другой раз принес он нам книгу «Первая любовь» Тургенева, чтобы прочесть нам ее вслух. Мама сказала, что мне эту повесть слушать нельзя, но я так умоляла, чтобы мне позволили слушать, просили и сестры, и Лев Николаевич, и мама согласилась, сказав: «Хорошо, но с тем условием, что когда будет „это“ место, где нельзя ей слушать, чтобы она ушла», и мама что-то тихо сказала Льву Николаевичу, но что, я не слышала.
Чтение началось. Лев Николаевич, как и всегда, читал превосходно. Мы все слушали и восхищались и чтением, и повестью.
Не зная, где встретится это запрещенное место, я заблаговременно притворилась спящей, и меня оставили в покое, так что я прослушала всю повесть и не могла понять, где же это место, которое нельзя слушать. Когда окончили чтение и пошли пересуды, Лев Николаевич сказал:
– Любовь 16-летнего сына, юноши, и была настоящей сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца – это мерзость и разврат.
Эти слова запали мне в душу, и я вспомнила о любви нашей с Кузминским и Сони с Поливановым. «Стало быть, наша любовь настоящая», – думала я с некоторой гордостью.
В другой раз приходил к нам Лев Николаевич и затевал какую-нибудь большую прогулку: осматривать Кремль, стены его вокруг, соборы и пр. И так бывало заморит нас, что ног под собой не чувствуешь.
Посещения его стали вызывать в нас, молодых, особый интерес. Он не был, как другие, и не походил на обыкновенного гостя. Его не надо было занимать в гостиной. Он был как бы всюду. И этот интерес, и участливость проявлял он и старому, и малому, и даже нашим домашним людям.
Не раз беседовал он с нашей няней Верой Ивановной и старой Трифоновной, и все уходили от него довольные и умиленные. Где находился он, там бывало оживленно и содержательно. Все в нашем доме любили его. Даже апатичный денщик наш хохол Прокофий говорил про него:
– Как граф приедут, всех оживлят.
Те строки, которые вписал Лев Николаевич в молодости своей в своем дневнике, вполне определяют его. Вот они: «Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».
И он ловил их и заражал своим внутренним священным огнем. Он понял, что в жизни есть один рычаг – любовь.
Частые посещения Льва Николаевича вызывали в Москве толки, что он женится на старшей сестре Лизе. Пошли намеки, сплетни, которые доходили и до нее.
Мать была очень недовольна; отец оставался к этому вполне равнодушен. Эти сплетни разносили две гувернантки: бывшая наша, Сарра Ивановна, и сестра ее Мария Ивановна. Они по очереди напевали старшей сестре, что граф увлечен ею.
Произошло это вследствие слов, сказанных Львом Николаевичем сестре его: «Машенька, семья Берс мне особенно симпатична, и, если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье».
Мария Николаевна отнеслась к его словам очень одобрительно, указывая на Лизу.
«Прекрасная жена будет, такая солидная, серьезная, и как хорошо воспитана», – говорила она.
Пишу эти строки со слов самой Марии Николаевны: она впоследствии многое рассказывала нам.
Обе наши немки подхватили слова Льва Николаевича и Марии Николаевны и стали напевать Лизе о том, как она нравится Льву Николаевичу.
Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням, но понемногу и в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто и сердце, в ней пробудилось что-то новое, неизведанное. Она стала оживленнее, добрее, обращала на свой туалет больше внимания, чем прежде. Она подолгу просиживала у зеркала, как бы спрашивала его: «Какая я? Какое произвожу впечатление?» Она меняла прическу, ее серьезные глаза иногда мечтательно глядели вдаль.
Казалось, что ее разбудили от продолжительного сна, что ей внушили, навеяли эту любовь и что она любила не самого Льва Николаевича, а любила свою 18-летнюю любовь к нему.
Соня заметила в ней эту перемену и подсмеивалась. Писала на нее шуточные стихи и говорила:
– А Лиза наша пустилась в нежности. А уж как ей не к лицу.
И я приставала к Лизе:
– Лиза, скажи, и ты влюблена? Зачем ты вперед косу положила, прическу переменила? А я знаю, для кого, только не скажу.
Лиза добродушно смеялась, обращая в шутку мои слова.
– Таня, а идет мне эта прическа с косой? – спросит она меня.
– Да, ничего, – скажу я, принимая почему-то снисходительный тон.
XIV. Великий пост
Шел великий пост 1862 года. Лев Николаевич захандрил. Он чувствовал себя плохо, кашлял и хирел, воображая себе, что у него чахотка, как у его двух покойных братьев. Мы настолько сблизились с ним, что его дурное расположение духа повлияло и на нас. Нам стало грустно за него. Он ехал в Ясную Поляну, еще ничего не предпринимая для своего здоровья, хотя доктора и посылали его на кумыс.
– Поеду я к тетеньке и посоветуюсь с ней, – говорил Лев Николаевич. Отец успокаивал его, утверждая, что у него нет чахотки, нет ничего серьезного, но что кумыс будет ему вообще полезен.
Лев Николаевич уехал.
И для нас наступило грустное время. Поливанов кончил корпус и уехал в Петербург для поступления в академию. После своего отъезда он оставил в семье нашей пустое место, и, когда приезжал из корпуса один брат, у меня щемило сердце. Соня втихомолку плакала о нем, скрывая свое чувство к нему, хотя, конечно, все в доме знали об их обоюдном увлечении и смотрели на это, как на самое обыкновенное дело. Няня Вера Ивановна говорила:
– Известно, дело молодое, матушка, время пройдет, и как вода стечет.
Няня как будто предрекла эту воду своим старым чутьем.
Я сочувствовала Сониным слезам, мне было жаль ее, и я сказала ей, что буду переписываться с Поливановым, и она будет все знать о нем. Старшим же сестрам переписка с «молодым человеком» была запрещена. Поливанов превратился вдруг в «молодого человека», чего я никак не могла понять.
Мама даже запретила его называть по фамилии, как мы это делали до сих пор, и велела звать по имени и отчеству.
– Мама, я не могу его так называть, – говорила я, – какой же он Мнтрофан Андреевич. Он и не похож на Митрофана. Если бы еще его звали Сергей, Алексей, Владимир, а то Митрофан.
– Как же ты будешь его называть, если он Митрофан? – улыбаясь спросила мать.
– Я подумаю…
– Вот глупая, – смеясь сказала Лиза, – она теперь уж что-нибудь да придумает свое.
– Да вот я и вспомнила, как он мирился со мной и пел:
Предмет любви моей несчастной,
Сжальтесь вы хоть надо мной.
Всюду образ ваш прекрасный
Тревожит сон мой и покой.
– Вот я и буду звать его «предметом моей дружбы». Буду писать ему письма. Ведь можно, мама?
– Ты еще ребенок, тебе-то можно, а вот вам, – обращаясь к сестрам, добавила мать, – вам уже неловко переписываться с ним и называть по фамилии. Теперь ведь пошла такая мода. Ее усвоили нигилисты, которых, к сожалению, развелось очень много после романа Тургенева «Отцы и дети». Вот Василий Иванович наш уговаривал же Соню обстричь себе косы, да Сонечка благоразумна, она только посмеялась над ним.
– Ну, мама, – сказала Соня, – разве я его буду слушать!
– Стали проповедовать теперь о свободе женщины, – продолжала мать.
– Какая свобода? В чем она состоит? – спросила я.
– В неповиновении родителям. Замуж выходят за кого хотят, не спросясь родителей.
– Что ж, это хорошо! – сказала я. – Кого я люблю, за того и выйду!
Сестры засмеялись.
– Хорошего тут мало, – сказала мать. – Родители всегда лучше детей знают, что им лучше. По улицам молодые девушки одни ходят, – продолжала мать, – жмут им руки мужчины, так что пальцам больно.
– Видите, мама, а вы нам запрещаете руку мужчинам подавать, а велите реверанс делать. А намедни Лиза и Соня Головину на прощание руку подали, – говорила я.
– Да, я знаю, – сказала со вздохом мать, – теперь, к сожалению, эти интимности уже приняты и в нашем обществе.
– Мама, да что же тут такого? И Ольга и все наши подруги подают теперь руку, – сказала Соня.
Мама не отвечала, она продолжала свое. – Да еще хотят теперь девушек в университет пустить, какие-то курсы устроить.
– А я с удовольствием поступила бы в университет, – сказала Лиза. – Разве один Василий Иванович может дать образование?
– А на что оно? Оно и не нужно, – сказала мать, – назначение женщины – семья.
Лиза чувствовала, что воззрение матери в первый раз в ее жизни расходится с ее воззрением, что оно раздвоилось и пошло куда-то вперед. Лиза жаждала образования, но, конечно, не той мнимой свободы, о которой говорила мать, в этом она была согласна с ней, но расходилась с ней в том, что мать отвергала пользу образования для женщины и признавала только семью.
Лиза всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки, все это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку.
Соня, напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах.
Поразительно, как во всем эти две сестры были различны. Соня была женственна как внешностью, так и в душе своей, и это была ее самая привлекательная сторона. Эту весну она как-то расцвела, похорошела, ей шел 18-й год; молодость брала свое, к ней вернулась ее обычная веселость, несмотря на отъезд Поливанова. Она как будто говорила себе:
– Если судьба разлучила нас, то горевать не надо; на то воля Божья, что будет – то будет.
Последние слова она вообще любила часто повторять, полагаясь на судьбу.
С наступлением весны я чувствовала в себе какой-то душевный подъем. Что-то новое, молодое просыпалось во мне. Мне пошел 16-й год. Несбыточные мечты волновали меня и уносили в далекое будущее. То безотчетная тоска овладевала мной и жажда чего-то неудовлетворенного томила меня.
Меня влекло вон из города. Переехать в Покровское мы еще не могли и иногда по моей же просьбе ехали куда-либо за город.
На вольном воздухе весна живила меня. Я вдыхала в себя свежий пахучий воздух и с меньшим братом Петей бегала «по мягкому», как я выражалась, после каменистой мостовой, но, вернувшись домой и войдя снова в душные, неосвещенные комнаты, я нигде не находила себе места. Сестры уходили к себе. Мама была у отца в кабинете, а я оставалась одна.
Знакомая, сладостно-мучительная тоска овладевала мной. Мне хотелось, чтобы меня кто-нибудь пожалел, хотелось высказать все то, что безотчетно мучило меня, а что – я сама не отдавала себе отчета.
«Вот если бы Кузминский был здесь», думала я, он понял бы меня. Как хорошо мы говорили с ним на Святой, вернувшись из Нескучного, о том, как мы будем жить вместе, когда мы женимся, и это наверное будет, потому он пишет мне: «L'idee settle, que tu deviendra un jour promise d'un autre, me fait frissonner»[7]7
Одна мысль, что ты можешь сделаться невестой другого, приводит меня в содрогание (фр.)
[Закрыть].
Переписка наша за этот год изменилась. Мы писали и по-русски, и, по привычке, иногда по-французски. Лиза уже не помогала мне, я писала одна, и я могла найти в его письмах, чего не хотела бы показать кому бы то ни было. Бывало, когда взгрустнется, пойдешь к няне, – она всегда успокоительно действовала на меня. Она имела на меня хорошее влияние и первая заставила меня верить в силу молитвы.
Уложив детей, Вера Ивановна сидит, бывало, в углу комнаты и читает вполголоса святцы. Перед ней на столе горит сальная свеча. Строгое лицо ее с длинным, прямым носом, освещенное сверху светом лампады, кажется неподвижным.
Сядешь против нее и начнешь говорить о том, что мучит и тревожит.
– Няня, папа нездоров, мама не в духе, в доме скучно, тоскливо, и письма давно нет…
– Это от губернатора-то? – спросит няня.
Я засмеюсь, что она так называет Кузминского. Няня рада, что насмешила меня.
– Напишет, чего тут горевать. Вам стыдно на жизнь жаловаться. Вам ли плохо живется. Все вас любят, балуют.
– Да, я знаю, – перебиваю я ее, – но…
– А вот вы намедни, – перебивает меня няня строгим голосом, – обедня еще не отошла, а вы на весь дом песни поете. Нешто это можно, это грех! Мало молитесь.
– Да, да, няня, это правда.
– Вот теперь великий пост, пойдемте завтра к ранней обедне.
– А дети как же? – спрошу я.
– Федору посадим. Мамаша меня пустили.
И я вставала в 5 часов и шла с няней в собор. Молитвенное настроение в соборе охватывало меня сразу. Несомненная горячая вера в Бога загоралась в душе, как неугасимый огонек. Становилось и легко, и радостно.
Придя домой, я тихонько сзади подкрадывалась к матери, обвивала ее шею руками и говорила: – Мама, я ходила с няней к ранней обедне, я вам не говорила, вы уже спали… Ничего?
И я здоровалась с ней, целовала ее, заглядывая ей в глаза.
– Только бы ты не простудилась, – говорила мать, с улыбкой глядя на меня.
И я чувствовала, как мы любили друг друга, и моему размягченному сердцу все казались добрыми и дружными: и папа, и Лиза, и Трифоновна, несшая в столовую на решете сухари к утреннему чаю.








