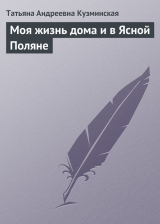
Текст книги "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне"
Автор книги: Татьяна Кузминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Да, я почувствовала и стыд и раскаяние. Я не помню, что было дальше. Мне давали противоядие. Боли начались нестерпимые. Приехали два доктора. Отца не было дома, он приехал только к обеду. Я не знаю, как он принял мою болезнь. Страдания были настолько сильные, что меня уже ничего не интересовало. Я узнала, когда мне стало легче, что Кузминский остался у нас по случаю моей болезни. Я позвала его к себе, чтобы поговорить с ним. Он сказал мне, что назначен в Киев чиновником особых поручений при Черткове, и что он заедет к нам на обратном пути. О причине моей болезни ни он, ни я ни слова не сказали. Мы расстались друзьями. Знал ли он про мой поступок или нет? Не знаю.
На третий день после отъезда Кузминского приехали Толстые, но Сергей Николаевич не приехал. Сохранилось письмо Сергея Николаевича к брату, где он пишет, почему не мог приехать. Приведу отрывки писем его – их было два: одно фальшивое, где он пишет Льву Николаевичу, что не может приехать, потому что Маша и ребенок больны, и это письмо он просит показать мне. В другом он пишет:
«Я лгу в письме, которое пишу вам, что Маша и ребенок болен. Приехать же я не могу оттого, что Анисья Ивановна[121]121
Цыганка – мать Марии Михайловны.
[Закрыть], узнав, что я женюсь на Татьяне Андреевне, вышла из себя, говорит, что она будет жаловаться, что я живу с ее дочерью, что меня заставят на ней жениться, что она докажет, что я прижил от нее детей, что она пойдет и объявит архиерею, что я хочу жениться тайно на сестре жены брата, и чтобы он это запретил. Одним словом, я не знаю, что делать и как тут все устроить. Она говорит, что она, если я поеду в Ясную, пойдет тоже туда пешком. Она способна на все. Ты не можешь себе представить, в каком она исступленьи. Я боюсь, чтобы она не пришла в Ясную и не сделала бы там гадкой сцены. Поэтому мне необходимо остаться здесь, чтобы ее разуверить как-нибудь и успокоить. Она может сделать много вреда. Отец тоже действует в том же духе и, к несчастью, пьян. Письмо это не показывай никому, особливо Татьяне Андреевне. Я боюсь, что эта история, а особливо мое отсутствие, наделают вам хлопот, но успокойте ее как-нибудь. Ты сумеешь что-нибудь придумать для этого, покуда мне можно будет приехать.
Ей кто-то уже написал жалобу, которую она хочет на меня подавать, не знаю, куда».
Мне не показали этого письма, я ничего о нем не знала. Но, по-моему, Анисья Ивановна была права, Сожалею, что от меня скрыли истину.
Не знаю и не помню, как принял отец и Толстые мой поступок. Я была слишком сильно больна и почти ничего не сознавала. Заботливый уход дал мне возможность понемногу поправляться, хотя я была совершенно равнодушна к этому и скорее даже сожалела, что поправляюсь. Лев Николаевич и Соня говорили мне, что он очень желал приехать и, если не приехал, то причина, конечно, важная.
VI. Первые отзывы о «Войне и Мире»
Начало «Войны и мира» впервые было напечатано в январской и февральской книгах «Русского вестника» за 1865 г.
12 февраля 1865 г. я пишу Льву Николаевичу: «Теперь папа взял читать твой роман, а мне все его еще не дают, нарасхват у нас пошел». Отец в этом же письме пишет:
«Вестник вышел. Я посылал к Любимову за оттисками, и он прислал мне третьего дня один экземпляр, который я с жадностью стал читать, но вчера же отняла у меня Лиза и так смеялась, читая твое сочинение, что Тане спать не дала. Суждений я никаких еще не слыхал, знаю только, что Любимов ужасно расхваливает и это сочинение ставит гораздо выше „Казаков“. Лиза говорит, que c'est un chef d'oeuvre[122]122
что это образцовое произведение (фр.)
[Закрыть], что оно должно быть гораздо выше всех прочих твоих сочинений. А по мне, я ничего выше не признаю из твоих сочинений, как „Детство“. Это мог написать только человек с высокой нравственностью и таким чувствительным и добрым сердцем, как твое. Известно ли тебе, что Екатерина Егоровна переводит твое „Детство“ на немецкий язык и не нахвалится мягкостью и легкостью слога, не говоря уже о самой сущности этого высокого произведения…»
После выхода первой части «1805 год» я получила от Поливанова письмо (от 2 марта 1865 г.).
«Верно вы прочли „1805 год“. Много вы нашли знакомого там? Нашли и себя: Наташа как ведь напоминает вас? А в Борисе есть кусочек меня; в графине Вере – кусочек Елизаветы Андреевны, и Софьи Андре евны есть кусочек, и Пети есть кусочек. Всех по кусочку. А свадьба-то моя с Мимишкой тоже не забыта. Я с удовольствием прочел все, но особенно сцену, когда дети вбегают в гостиную. Тут очень много знакомого мне. А поцелуй Наташи не взят ли Львом Николаевичем из действительности тоже? Вы, вероятно, рассказали ему, как когда-то лобызнули кузена вашего. Уж не с этого ли взял он? Вам верно знакомы все личности, с которых списывал Лев Николаевич, или у которых он брал какую-нибудь черту для характеров своих героев. Если знаете что-нибудь в этом роде, то не откажитесь черкнуть нам грешным…»
Я пишу ему ответ (26 марта):
«Милый мой предмет, давно уже получила я ваше милое письмо, а вы верно мое, только не знаю, насколько оно мило… Вы мне писали про роман Левочки. Правда, есть ваш кусочек, Лизин, а Сони нет, это он описывает тетеньку Татьяну Александровну в молодости. Марья Дмитриевна существовала в самом деле; из мужчин никого не знаю. Наташа – он прямо говорил, что я у него не даром живу, что он меня списывает. Мне его роман очень нравится и жду с нетерпением окончания Всем, большей части читателям, от которых я слышала суждения, или не нравится, или не понимают Pierre. Я бы желала знать ваше суждение поподробнее. Напишите, если не трудно. Потом еще, предмет, вы думаете, что поцелуй Наташи взят из учителя, нет, это из времен Саши Кузминского.
Завтра вербная суббота, и мы нынче вспоминали все эту субботу, когда были кадетство, как шумно и весело было…»
Мне рассказывал брат, что Лев Николаевич, как вышел февральский «Русский вестник», поутру, еще не встававши, посылал его за газетой, где должна была быть, не помню чья, критика. Он с волнением ожидал ее и когда брат замешкался, Лев Николаевич торопил, говоря:
– Ты ведь хочешь быть генералом от инфантерии? Да? А я хочу быть генералом от литературы! Беги скорее и принеси газету!
Теперь об этом смешно вспомнить, зная то равнодушие, с которым он относился в последние годы к критикам своих произведений.
Помню, как я гораздо уже позднее, по поручению одной дамы, просила его разрешения переделать «Смерть Ивана Ильича» в комедию или драму, и он ответил:
– Пожалуйста, хоть в балет!
А в другой раз, когда вышла «Война и мир», я тоже по поручению одной дамы просила разрешения на перевод на французский язык. Тогда еще существовала конвенция, и он разрешил. Когда эта дама перевела известную часть романа, она прислала на суд ко Льву Николаевичу. Он читал добросовестно ее перевод, но когда дошел до сцены, где солдаты поют «Ах вы, сени мои, сени!» и французский перевод ее: «vestibules, mes vestibules», – он пришел в отчаяние. Но последствия этого отчаяния не помню.
– Хотя вольный перевод и верен, но в переводе выходила бессмыслица, недопускаемая людьми с чутьем, – говорил Лев Николаевич.
Лев Николаевич позднее вошел в сношение с типографией Риса и наладил печатать роман сам. Хотя я и мало принимала участие в их жизни в эти две недели, все же я видела, как лихорадочно относился он к своему решению печатать самому.
Рис был очень аккуратный не то немец, не то эстонец. Он приезжал несколько раз в Ясную, где я его видала. Запомнила я тоже, как он учил меня и Соню варить малиновое варенье. Ломаным русским языком объяснял он:
– Малину, сахар бухайте все за раз в таз. Воды – kein и kochen[123]123
никакой и варить (нем.)
[Закрыть]. И все.
– И хорошо будет? – спрашивали мы.
– Очень хорошо.
Мы варили, и правда было хорошо. И это варенье называлось «малина Риса» во всю нашу жизнь.
Помню, что когда мне стало лучше, и я больше могла видеться с Толстыми, я заметила в Льве Николаевиче какое-то особенное настроение умственного оживления. В нем как бы с новой силой проснулась энергия и дух творчества, интерес к роману и к успеху его. Он как бы отдохнул и ожил после своей болезни.
Еще из Ясной 23 января 1865 г. он пишет Фету в Москву:
«А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я – литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я выростаю большой, мне дорого – Тургенева. Он поиметь.
Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и op[us'ом] черн[овым]; печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет – бяда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстроивают…»
Как смешно читать теперь, что «Война и мир» может пройти незаметно. По этому видно, как Лев Николаевич не знал себе цены. Но должна сказать, что ни одно свое произведение Лев Николаевич не писал с такой любовью, с таким упорным постоянством и волнением, как роман «Война и мир». Это был расцвет его творческой силы. В конце письма он пишет Фету, как будто шутя: «Я рад очень, что вы любите мою жену; хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, – жена».
Если бы меня спросили, «кто написал это?» – конечно, Лев Николаевич, до того слова эти похожи на него.
Первая критическая статья, к тому же хвалебная, вышла в газете «Инвалид» в феврале. Фамилия не подписана. Эта статья доставила удовольствие и даже большое Льву Николаевичу. Автор статьи начинает словами: «Первая часть этого замечательного произведения явилась в январской и февральской книжке, а вторая значит будет через год. Слишком поздно, конечно, но зато типы, выводимые графом Толстым, имеют не временное значение – они глубоко запечатлеваются в памяти, и о них вспомнишь и не через год только».
Эта статья особенно восхваляет военные сцены, целиком выписывая их.
– И кто бы это мог написать? – говорил Лев Николаевич. – Наверно, военный или бывший военный.
Отец отвечает на письмо сестры, где Соня пишет: «Левочка очень волнуется, что взял на себя издание своего романа. Но я надеюсь, что это все обойдется
Напиши, как здоровье Тани?»
В начале письма 25 января 1867 г. отец пишет, как меня надо лечить, и прибавляет:
«Беда только та, что с ней очень трудно ладить. Она верит только одному доктору в мире: это – графу Л. Н. Толстому, который совершенно ее избаловал, а сам, бедный, измучался с своим романом.
Напиши мне, голубушка, прочел ли он о себе статью в „Отечественных записках“?
Я вполне понимаю его: он не будет до тех пор покоен, пока не кончит его. Все ждут его с нетерпением, да как и может быть это иначе? Произведение, написанное мастерским пером, верное исторически, почерпнутое из самой интересной эпохи и в высшей степени занимательное своими эпизодами».
14 января 1867 г.
«На днях обещали мне дать книгу „Отечественных записок“, в которой напечатана великолепная статья о тебе каким-то г-н Страховым».
Мне смешно читать теперь выражение: «каким-то» об известном Страхове в литературном мире.
Так как самое яркое, сильное и правдивое мнение о «Войне и мире» было мнение Страхова, на которое Лев Николаевич больше всего обратил внимание, то я приведу несколько выписок из его статей. Я слышала от Льва Николаевича прямо восхищение на то, как Николай Николаевич понял его.
«В 1868 году появилось одно из лучших произведений нашей литературы, „Война и мир“. Успех его был необыкновенный… Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключениями… ни изображением страшных душевных мук, ни, наконец, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденциями… Ничего не может быть проще множества событий, описанных в „Войне и мире“. Все случаи обыкновенной, семейной жизни, разговоры между братом и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свидание родных, охота, святки, мазурка, игра в карты и пр., – все это с такою же любовью возведено в перл создания, как и Бородинская битва… Правда, рядом с этим гр. Л. Н. Толстой выводит на сцену великие события и лица огромного исторического значения».
– Это место в критике прелестно своей простотой суждения, – говорил Лев Николаевич. И еще понравилось ему, где говорится об этих лицах:
«Автор ничего не рассказывает от себя: он прямо выводит лица и заставляет их говорить, чувствовать и действовать, причем каждое слово и каждое движение верно до изумительной точности‹…› Как будто имеешь дело с живыми людьми‹…› Когда он раз вывел их на сцену, он уже не вмешивается в их дела, не помогает им, предоставляя каждому из них вести себя сообразно со своею натурой» и т. д.
Его разбор дышит тонким благородством, верностью, что и оценил Лев Николаевич… Страхов, живя в Петербурге, не видавши никогда Льва Николаевича, пишет в своей статье то самое мнение о русском солдате, которое я слышала от Льва Николаевича.
В другом месте Страхов пишет:
«Многие чувствительные души не могут, напр., переварить мысли об увлечении Наташи Курагиным; не будь этого, – какой вышел бы прекрасный образ, нарисованный с изумительной правдивостью; но поэт-реалист беспощаден».
Лев Николаевич заметил тонкое понимание Страховым различий отношений Курагина к Наташе и к ней же отношения Пьера… Мнение Страхова о Николае и княжне Марье удивительно верно и хорошо. Люди эти ничем не блестят, ничем не выдаются, а между тем они – идущие по самым простым жизненным путям, очевидно – существа прекрасные, никому не уступающие душевной красотой, составляют одну из самых мастерских сторон «Войны и мира».
Льву Николаевичу этот разбор был тем приятнее, что княжна Марья была идеалом его матери, а Николай Ростов напоминал типом своим отца.
– Это – единственный человек, который, никогда не видевши меня, так тонко понял меня. Еще прежняя статья его в «Отечественных записках» мне доказала это.
Лев Николаевич, еще до знакомства с Страховым, говорив:
– Страхов своей критикой придал «Войне и миру» то высокое значение, которое получил мой роман и на нем остановился навсегда.
Из критики Страхова я выписала каплю в море, именно те места, которые отмечал при мне Лев Николаевич, насколько я помню. Но, очевидно, его восхищение не остановилось только на том, что я выписала.
Приведу мнение Тургенева о начале «Войны и мира», переданное мне отцом, когда вышли лишь два номера «1805 года» в январе и феврале в «Русском вестнике». Я лично не видала Тургенева в 1865 году; когда он был у нас, я была уже в Ясной.
На вопрос отца, читал ли он «1805 год» и как нашел начало этого романа, Тургенев ответил нехотя:
– Да судить еще трудно, мало выяснено, да и генеральчики его мало напоминают Кутузова и Багратиона, настоящих генералов! Увидим, что будет дальше. Но описания его, сравнения – художественны. На это он мастер.
Тургенев больше ничего не сказал. Видимо, он стеснялся высказать свое мнение отцу.
По просьбе Льва Николаевича Фет прочел ему в двух письмах Ивана Сергеевича его мнение о романе. Тургенев пишет в 1866 году:
«Вторая часть „1805 года“ тоже слаба: как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том – трус, мол, ли я или нет – вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи – где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена – но она была бы хороша, как узор на фоне – а фона-то и нет».
Позднее уже, когда «Война и мир» подвинулась вперед, Тургенев пишет Фету:
«Я только что кончил 4-й том „Войны и мира“. Есть вещи невыносимые – и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано – никем ‹…›»
Не знаю, насколько первое мнение Тургенева огорчило Льва Николаевича, и насколько последнее было ему приятно. Я была у Дьяковых. Думаю, что он сначала затушил в себе критику Ивана Сергеевича. Сестра говорила мне, что Лев Николаевич спокойно отнесся к этому, говоря:
– Важно то, что будет дальше. А пока полезно и это.
Наконец, не могу не привести комичный, желчный отзыв о «Войне и мире» М. Е. Салтыкова. В 1866 – 67 гг. Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей «1805 года». Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему – не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил:
– Эти военные сцены – одна ложь и суета. Багратион и Кутузов – кукольные генералы. А вообще – болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо прохватил…
При последних словах слышался желчный смех Салтыкова.
Мне казалось, что это был человек, который никогда не имел душевного спокойствия. Он постоянно был одержим непримиримой злобой к кому-нибудь или к чему-нибудь, а скорее всего ко всем.
VII. Возрождение
В феврале уехали Толстые. Я поправлялась здоровьем, но не духом. Равнодушие к жизни и тоска угнетали меня. Отец пишет Толстым:
«Не знаю, что делать мне с Таней? С тех пор, как она приехала из Ясной, я не видал на ней улыбки. Вы совсем испортили ее: только и одушевляется ее разговор, как скоро она заговорит об деревенской жизни, об охоте и вообще об житье своем в Ясной Поляне. Наши поехали сегодня в театр, а она осталась дома и ушла к себе в комнату. Все мои увещевания остаются бесполезными. Авось, со временем последует с ней какая-нибудь перемена, а теперь наводит она на меня ужасную хандру, к которой я и без этого очень наклонен».
Наступила ранняя весна, сырой дождливый март. Ручейки беспрепятственно, журча, бегут вдоль московских тротуаров. Мальчишки, пуская самодельные кораблики, весело бегут за ними. Грязные, неметеные улицы, с неровной изрытой мостовой, затрудняли езду и ломали экипажи. В те времена починка улиц считалась роскошью, и ремонт полагался лишь изредка, например, перед приездом государя или после сломанного экипажа генерал-губернатора. Но солнце, весеннее солнце, ни от кого не зависящее и потому всегда верное, выкупало все. Оно грело, утешало и предвещало весну! А с весной – что-то безотчетно радостное…
Помню, как 9 марта, в день сорока мучеников, поэтичную историю коих мне рассказала няня Вера Ивановна, я проснулась рано утром и по обыкновению подбежала к окну, отдернула штору, чтобы взглянуть, какая погода. Погода была чудная. Солице было уже весеннее, теплое и заливало весь наш двор и цветы, стоящие у меня на окне. Я вспоминала стихотворение Фета на 9 марта, написанное в 1863 году:
Повеет раем над цветами.
Воскресну я и запою,
И сорок мучеников сами
Мне позавидуют в раю!
«Как хорошо!» – подумала я. И мне вдруг повеяло чем-то отрадным, далеким, пережитым мною. «Пускай и мне позавидуют эти сорок мучеников», – весело подумала я. «Левочка правду пишет: „И ты не перестанешь жить“. И я хочу и буду жить снова!» – говорила я себе. Безотчетная радость вместе с весенним лучом проникли в мою душу и согрели мое сердце.
«Пора, пора, милая Таня, – приписывал мне Лев Николаевич в письме сестры (от 28 февраля 1865 г.). – Уж 3-й огурец – осталось 4-е. Спасибо за известие от Галицына. Мне все интересно. Но теперь не пишется, слишком много думается, и музыка слишком сильно действует. Весна приближается. Что твой голос?
Соня огорчила меня своим письмом. Она захандрила. Она пишет в том же письме, где Лев Николаевич: „Милая Таня, получили мы твое письмо, которое ты писала, когда была „очень умна“. Левочка прочтя сказал: „Какая славная девочка, со всех сторон, куда ни поверни, все хорошо ‹…›“
А я теперь, Таня, все эти дни такая не славная ‹…› Я хочу тебе рассказывать все, что у меня на душе, и какая я теперь гадкая. Все не в духе, все мне дурно. Вчера я Левочку так обидела, просто ни за что, что теперь вспомнить страшно ‹…› Мне все скучно, я ровно ничего не делаю… Левочка более чем когда-либо нравственно хорош. Пишет, и такой он мудрец! Никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен и так и чувствуешь, что он – вся поддержка моя и что только с ним я могу быть счастлива…
Дети мои здравы и милы. Сережа ‹…› бегает, пляшет. Левочка к нему стал очень нежен ‹…› На Таню он даже никогда не глядит, мне и обидно, и странно ‹…› Соня“.
Мое письмо к Поливанову от 20 апреля 1865 года.
„Где я? отгадайте, откуда вам пишу. Догадаться нетрудно, милый мой предмет, я в давно желаемой Ясной. Приехала я сюда в субботу 17-го числа одна с дамами в Анненской карете. В Туле встретил меня Левочка, в Ясной – все ясенские милые. Все я нашла у них благополучно. Соня пополнела, похорошела и поздоровела, дети – премилые. Опять у меня моя маленькая комната, самая девичья, вся белая, с занавесками и розанами. Вот где поэзия-то, предмет! Одно нехорошо – погода прегадкая, и я кашляю, меня никуда не выпускают, и Соня все дома сидит. Каково, это: я третье лето у них провожу. Буду верхом ездить с Соней. С нетерпением жду этого. Я говорю, предмет, что значит родительский дом: я все время желала в Ясную, вы сами это знаете, и до потолка прыгнула, когда мне принесли место в карете, а при прощании у меня защекотало в носу и защемило в сердце. Давно мы друг другу не писали, и о вас ничего не знаю. Как думаете лето провести и где? наши все в Покровском. Я-то как довольна. Сейчас пришел Левочка с охоты и говорит: „Ты у нас совсем, как дома“. Я засмеялась, говорю: „да“, а он сказал: „Как это хорошо“. И, действительно, в Петербурге, помните, какая я чуждая была…
Нынешняя святая была так себе, не то, что бывало.
Теперь мы сидим с Соней или болтаем и шьем, или с детьми возимся, и проходит так время незаметно в дурную погоду. Я опять начала здесь писать журнал, этот будет интересный и веселый. Прощайте, предмет, напишите мне опять уж сюда скорее, мы идем чай пить. Опять скоро напишу.
Таня“».
Этот будет «веселый», пишу я про свой журнал, ничего не предвидя вперед. Переломив свои мысли, свою грусть, даже свою любовь, я хотела начать новую жизнь, полную деятельной энергии. Но опять и опять мы, как слепые кроты, ничего не предвидим вперед.
Мы ездили на тягу. Я не пропустила, как боялась, весенний расцвет. Липовые аллеи сада зеленели медленно, но прочно, распускался дуб, закуковали кукушки, прилетели певчие птицы, лишь один соловей еще молчал. Как Фет красиво выразился о соловье:
Едва лишь в полдень солнце греет.
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.
Эту весну вокруг дома было все чисто вычищено. Садовник Кузьма сажал цветы и зорко наблюдал за грунтовыми сараями – персиковым и вишневым. Соня и милая тетенька были довольны.
– Хорошо у нас таперича, – по-прежнему, жуя табак, говорила Наталья Петровна. – Чисто, а с цветами и авантажно будет! Только женихов принимать, – смеясь продолжала она. – А ты, я слышала, какой грех над собой-то сделала, – вздыхая и охая, говорила Наталья Петровна: – Уж тетенька-то молилась за тебя, Агафья Михайловна свечку поставила.
– Ничего не говорите мне об этом. Никогда! – становила я Наталью Петровну.
Но я не сердилась на нее – она так добродушно, любовно относилась ко мне. Алексей, Дуняша, няня – все были прежние, на своих местах, уже близкие мне люди. Они всё знали про меня, жалели и бережно относились ко мне. Агафья Михайловна приходила здороваться со мной и осведомляться о моей матери.
Лев Николаевич, как мне казалось, был не совсем здоров. Он жаловался на головную боль, на желудок и потому не имел той бодрости, к какой я привыкла. Он бывал иногда не в духе, иногда как будто хандрил.
Но с наступлением хорошей погоды, я заметила, что у Льва Николаевича возвращалась бодрость, головная боль и вообще жалобы на нездоровье прекратились Лев Николаевич ездил на тягу, ездил в другое свое имение, Никольское, был деятелен, хотя писал он немного и уже меньше занимался хозяйством.
В начале мая в Ясную приехала Мария Николаевна с девочками. Это была для меня большая радость. Мы с Варей снова, сидя в липовой аллее, долго говорили обо всем пережитом. Она рассказала мне, что было с ее матерью в декабре, когда они гостили в Ясной Поляне.
– Мама стояла у стола, – говорила Варя, – в тетенькиной комнате. Она держала в руках работу и что-то наскоро зашивала. Соня, Лиза, тетенька, я, Наталья Петровна, все мы были в комнате. Мама стояла к нам спиной. Вдруг она обернулась к нам и сказала сердитым голосом:
– Кто это ударил меня по плечу, терпеть не могу лих шуток.
Мы все переглянулись с удивлением и говорим:
– Никто и не подходил к тебе. Мамаша как будто не поверила.
– Да нет же, я же чувствовала, даже содрогнулась.
– Это странно, Машенька, – сказала тетенька.
– Ведь я же тут была, – говорила Соня, – никто тебя не касался.
Тетенька записала все происшедшее в свою записную книжку, отметив час, день и месяц. Через несколько дней, рассказывала Варя, мамаша получила письмо из Покровского с известием, что скончался отец наш, и число и час его смерти совпали с записью тетеньки.
– Что же вы удивились этому предзнаменованию? – спросила я.
– Нет, Таня, я верю, что есть мир, неведомый нам, – ответила Варя.
– И я тоже верю, но я боюсь его. Ты знаешь, я боюсь темноты, боюсь одна спать, а особенно после дурного поступка своего.
– Ничего, Танюша, Бог простит тебя, – утешала меня Варя, – только молись.
Столько веры, раскаяния и любви было в наших молодых душах.
Несколько минут длилось молчание. Я глядела на Вареньку. Она задумалась. «Как она переменилась за это время, с тех пор как мы не виделись», – думала я. «Как она мила!» Пятнадцатилетний возраст вступил в свои права, и неуклюжая девочка уже пускала ростки красивой юности.
– Пойдем к Агафье Михайловне, – сказала я. – Мне грустно сидеть в саду. Эти липы, этот тенистый чудный сад так напоминают мне прошлое.
Мы застали Агафью Михайловну в хлопотах. Дора, любимый сеттер Льва Николаевича, лежала на подушке с четырьмя прелестными щенятами. При виде нас она сначала как будто испугалась, а потом устремила на нас свои умные глаза и приветливо замахала хвостом. Я подошла и погладила ее.
– Варя, ты знаешь, где она ощенилась? – спросила я, смеясь, вспомнив мой ужас.
– Где?
– До вашего приезда я как-то ездила верхом с Левочкой, и так как он ждал меня, я наскоро сбросила свое розовое платье и свой розовый пояс на постель, чтобы переодеть амазонку и, ничего не убрав, ушла. Вернувшись домой, я вижу… о, ужас! Бедная Дора лежит на моей постели и на моем платье с четырьмя щенками и виноватыми и страдальческими глазами глядит на меня, слабо виляя хвостом, как бы прося прощения. Варенька ужаснулась.
– А вы ее простили, матушка? – спросила, хитро улыбаясь, Агафья Михайловна.
– Простила, ведь она так мила, умна, – отвечала я. Агафья Михайловна, как всегда, была рада нам и очень радушно приняла нас.
Комната Агафьи Михайловны была поразительно грязна. По углам в паутине кучками лежали мертвые мухи. По стенам ползали красные тараканы. Она кормила тараканов и не позволяла выводить их, как я уже писала. У подушки, на которой лежала Дора, было пролито молоко и видны были мышиные следы; мышей тоже кормила Агафья Михайловна. Образ Николая чудотворца, висевший в углу, был перевернут лицом к стене. Варенька, заметив это, взяла молча табуретку и хотела поправить его, думая, что это случилось как-нибудь невзначай.
– Не трогайте, не трогайте, матушка, это я нарочно! – закричала Агафья Михайловна.
– Как нарочно? – спросили мы.
– Да так, матушка. Молилась, молилась ему – хоть бы что. Я его и обернула, и пущай так висит!
Мы невольно засмеялись.
– Когда же вы его простите? – спросила Варя.
– Вот когда время придет, – серьезно отвечала Агафья Михайловна, – тогда и прощу.
Ясенская милая тихая жизнь шла своим чередом. Купанье, прогулки, верховая езда и возня с детьми наполняли наш день. Изредка приезжали гости: Дьяков и Дмитрий Оболенский, с которым я познакомилась на балу. Это был очень милый, развитой юноша, светски воспитанный матерью. Помню и визит Горчаковых, родственниц Льва Николаевича. Приезжали две княжны лет 25–30 с строгой деспотичной, как мне говорили тогда, старой матерью их. Варя, Лиза и я, боясь ее строгой критики, не выходили в гостиную и сидели в комнате тетеньки.
– Чего сидите, идите в Гостиную, – говорила Наталья Петровна. – Лев Николаевич вас там представит княгине вот таким манером.
И Наталья Петровна, приставив локоть правой руки к груди, вывернув ладонь, указывала по очереди на нас трех, приговаривая:
«Племянницы, свояченица, гости…»
При слове «гости», не отнимая руки, она обводила круг. Мы все засмеялись.
– Какие же там еще гости? – не переставая смеяться, спросила Варенька.
– Чего хохочешь? – говорила Наталья Петровна. – Вот ты небось знакомить-то не умеешь. Намедни приехала акушерки дочь, Констанция с матерью, а ты меня с ней и не познакомила, а одна ты в комнате была.
– Как, Наталья Петровна, я называла вас, – говорила Варя.
– «Называла…» – передразнила ее Наталья Петровна. – Нешто так знакомят? Надо толком говорить: кто такая, да как кому приходишься, а то «называла».
Мы весело смеялись, когда нас позвали в гостиную, и нам пришлось идти.
Подойдя к старой княгине, мы присели ей. Она не подала нам руки, а, кивнув головой и глядя на нас в лорнет, проговорила:
– Bonjour, mesdemoiselles[124]124
Здравствуйте, барышни (фр.)
[Закрыть].
Но потом ко всякой из нас обратилась с вопросом по-французски. Княжны были очень милы, и с ними нам было легко. По указанию Сони, мы предложили им идти в сад. Гости пробыли у нас до вечера.
Приезжал к нам и Фет, выражая радость, что мы будем жить в Никольском, в соседстве с ними.
– Ведь это еще не решено, – сказала Соня. – Там дом очень тесный, хотя Левочка обещает всех устроить.
Фет настаивал на нашем приезде.
– Ваши друзья Дьяковы будут соседями. А как жене будет приятно, – говорил Афанасий Афанасьевич. – Я надеюсь, что мы тоже чаще будем видеться.
Я слушала их разговор и с грустью думала: «Далеко уедем от Пирогова… А на что оно? – тут же спрашивала я себя. – Чем дальше, тем лучше».
Помню, как завязался литературный разговор. Афанасий Афанасьевич вспоминал с любовью о поэте Тютчеве.
– И перед смертью его я в последний раз видал его. Ведь это было в январе, – говорил Фет, – он вызвал меня к себе.
Этот разговор заинтересовал меня. Я любила стихотворения Тютчева, списывала их и учила наизусть.
– А вы хорошо знали его? – спросила я Фета.
– Он был моим другом, если я смею его так назвать. Это был исключительный лирический талант, – обращаясь более ко Льву Николаевичу, чем ко мне (что меня немного обидело), сказал он, – и исключительный человек по своей скромности. Когда его талант хвалили ему в глаза, он корчился, как от чего-то постыдного.








