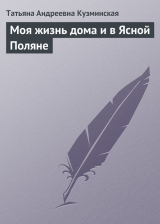
Текст книги "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне"
Автор книги: Татьяна Кузминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
XXIII. Свадьба Лизы
В начале октября мы переехали на Старую Дворянскую, в дом Хрущева.
Все было устроено. Все стояло на месте. Я сделала несколько необходимых визитов. И должна сказать, что под влиянием взглядов Льва Николаевича, что в свете жить не нужно, я сначала как-то избегала выездов, тем более, что муж тоже не стремился в свет, и мы продолжали домашнюю, патриархальную жизнь.
Я получила письмо от Вари Толстой уже из Москвы, куда они переехали. Она писала [28 октября 1867 г.], что брат ее Николенька, окончил свой пансион, приехал жить к ним, и что мамаша еще не решила, куда определить его. Но что они, сестры, так рады ему, что не расстаются с ним и хотят вместе с ним учиться, так как он плохо знает по-русски.
«…Мы приехали благополучно до Серпухова, но чуть не потонули в болоте между Серпуховом и станцией железной дороги. Правда, бабушка говорила, что это адская дорога. Вообрази себе, что мы ехали по воде в высоком закрытом тарантасе, и что вода была почти до окон тарантаса, а мамаша ехала особенно в пролетке, и потому должна была выбрать другую дорогу, где лошади тонули по колено в глине, и колеса почти не вертелись. В утешение нам попалась карета, брошенная и до половины завязшая в грязи, так что мы имели в виду также завязнуть в болоте. Как мы ни спешили, а все-таки ехали так тихо, что опоздали к 8-часовому поезду и должны были ждать до следующего утра, потому что мамаша была слишком измучена, чтобы ехать вечером. С самой зимы не помню я такого дня: мамаша больна, на дворе скверно, а впереди перспектива остаться еще целый день на станции. Все это было так грустно, что я сначала расплакалась от тоски и нетерпения, а потом проспала со скуки до вечера. Лиза и Николя сделали то же. На другой день мы поехали-таки в Москву; на железной дороге было очень весело. Это напоминало нам заграницу; все было благополучно. Только раз мы почувствовали сильный толчок и после уже узнали, что поезд переехал через живую лошадь, которая испугалась свистка и со страху бросилась на рельсы. Воображаю положение этой несчастной лошади! Вот тебе вкратцах описание нашего путешествия.
Теперь я расскажу, как мы увидались с Берсами. Первый к нам явился Петя в гостиницу Кокорева. Мы встретились с ним, как старые друзья. Он все так же мил, и мы ему очень обрадовались. Он приехал совершенно по-городскому, на „несколько минут“, и объявил, что вечером приедет Любовь Александровна. Николя уехал с ним обедать и вечером влетел к нам с докладом, как настоящий швейцар, что приехали т-г и т-те Берс. Любовь Александровну я знаю, но твой папа меня очень смутил: у меня и сердце перестало биться, и руки похолодели от страха, и все это пока я не видала Андрея Евстафьевича. Я никогда не думала, чтобы он мне так понравился! Он такой добрый, милый и нестрашный старичок, что просто прелесть; он сейчас взял нас с Лизой за головы и поцеловал в макушку, так что мой страх совсем прошел, как будто его никогда не было. На другой день мы все поехали в Кремль. Мы вошли на лестницу в одно время с Верой Александровной Шидловской, которая приехала с двумя дочерьми, с Ольгой и Надеждой Вячеславовной. С Надей мы тотчас же познакомились. Она очень мила, но как-то странно мне подумать, что у Александра Михайловича такая маленькая сестра. Как только мы приехали, то сейчас прибежала Лиза. Она расцеловала нас и поставила рядом, чтобы рассмотреть. Правда, что я была предубеждена против Лизы и почему-то представляла ее в своем уме холодной, серьезной, красивой девушкой и к большому удивлению нашла ее, хотя красивой, но веселой и ласковой. Правда, что мы ее видели очень мало, но она мне так понравилась, что очень горько было бы разочароваться в ней. Теперь, милая моя Таня, я тебе скажу о мальчиках. Они были еще в гимназии, когда мы приехали, но скоро явились. Мы были внизу у Пети, когда прибежал Степа. Он сначала поцеловался с Лизой, потом со мной. Ведь он не может помнить нас, а нам так обрадовался, как старым знакомым или родным, и мамаше тоже он бросился в объятия и с радости назвал ее даже Машенькой. С Володей и даже с Славочкой мы встретились церемонно, как с новыми знакомыми. Из мальчиков, кроме Пети, мне больше всех понравился Степа. По-моему, он натуральнее Володи, который как-то слишком тих для своих лет. Может, я и ошибаюсь. Володя симпатичный, кажется, болезненный мальчик. Он для меня какой-то трогательный, но как-то слишком молчалив и тих, а Степа мне тем более мил, что он напоминает немного тебя. Ты верно скажешь: „глупости“, но, право, интонация голоса, смех и даже немного верхняя часть лица ужасно напоминают тебя. Особенно я люблю, когда он говорит – это точно ты»…
Лиза пишет 29 октября 1867 г. вечером: «…Ах, Таня, какая прелесть твоя мама, я не могу налюбоваться ею! Больше всего она меня поразила, это когда она к нам приехала в белом капоре, который так шел к ее черным глазам и бровям. Я тут же подумала, что если бы я была мужчина, я бы непременно бы в нее влюбилась. Она с нами очень ласкова и очень хлопочет, чтобы нас поскорее одели, за что я ей очень благодарна, потому что нас никуда не пускают, и нам действительно не в чем…
Сергей Михайлович очень любезен, почти каждый день к нам ходит и говорит мамаше комплименты насчет ее игры на фортепьянах. Он говорит: qu'elle а le bon Dieu dans les doigts[156]156
что сам бог в ее пальцах (фр.)
[Закрыть]. Я даже поступила очень подло и не могла удержаться от смеха, когда он это сказал; он на меня очень строго покосился И ничего не сказал…»
На седьмое января 1868 г. назначена была свадьба Лизы.
Как прошли праздники Рождества, я не помню. Помню только, что у меня было довольно смешное чувство: мне недоставало прежнего Кузминского, той безумно юной радости, когда он приезжал на рождество.
– Ну, а как же теперь? – спрашивала я себя, – ведь этого уже никогда не будет? Это ужасно! Уезжай куда-нибудь и приезжай, – говорила я ему, смеясь.
В начале января Соня совсем уже поправилась. Она ехала со мной в Москву на свадьбу Лизы. Я должна была быть посаженной матерью Лизы, по ее просьбе, что для меня было немного неловко по отношению к Соне.
Два мужа провожали двух жен 5 января на Тульском вокзале. Мы ехали в I классе. Помня высказанное как-то мнение Льва Николаевича насчет дорожного туалета дамы, я, как бы шутя, точь-в-точь исполнила его программу и захватила с собой роман Теккерея. Он говорил: «В дороге надо быть порядочной женщине одетой в темное или черное платье – „costume tailleur“[157]157
строгий фасон, сшитый портным; кофта почти мужского сокроя.
[Закрыть], такая же шляпа, перчатки и французский или английский роман с собой».
В Москве нас встретил брат Петя с каретой. Какая радость была нам приехать снова в Кремль! Но отец произвел на нас очень тяжелое впечатление. Я нашла в нем большую перемену. Он очень ослаб и лежал в постели. Лиза имела вид праздничный и довольный, и родители всячески старались не омрачать ее время невесты.
На другой день приехал Поливанов. Он вошел совершенно неожиданно, и я видела, как смутилась Соня.
Она в первые минуты хотела уехать обратно, но я и мать напали на нее, и она осталась.
На свадьбе были лишь близкие; Поливанов и братья были шафера. Я очень обрадовалась брату Саше. Он говорил, что служит теперь в Петербурге преображением и очень хорошо себя чувствует, что дом дяди Александра Евстафьевича ему самый родной.
Свадьба была скромная. Чай и прочее все было устроено в квартире друга отца – коменданта Корнилова. Дочь же Корнилова была подругой Лизы.
Павленко был очень параден со своим ростом и гусарским красивым мундиром.
После венца молодые уехали. Отец, прощаясь с Лизой, прослезился, я не могла этого видеть и тоже заплакала. С Лизой, я знала, что еще увижусь летом, но отца мне было ужасно жалко.
Соня уехала в Ясную. Я осталась еще в Москве. Муж должен был приехать за мной.
В родном доме в Москве мне было хорошо. День я проводила дома, а вечер – в Конюшках (квартал, где жили Дьяковы и Толстые). Я ездила к ним с братьями.
Дьяковы устроились очень приятно и симпатично. Девочки учились все вместе, выезжали вместе, и эта дружба осталась и на всю их жизнь. Николай Толстой был малый 15–16 лет, наивный, рассеянный, говоривший по-русски с иностранным акцентом и, очевидно, не знавший, что делать из себя, очутившись в России. Братья мои очень полюбили его. Брат Петя тоже поступал в Преображенский полк и уговаривал Николая Толстого готовиться к военному экзамену.
Отцу была предписана полная тишина, и в 8 часов вечера весь наш дом замирал. Я часто видела и чувствовала, с какой грустью мама глядела на будущее. Я не видела на лице ее улыбки, а слезы – много раз.
К нам ездил Башилов. Он просил меня позировать несколько сеансов. Он хотел написать мой портрет масляными красками. Но тут как раз приехал муж и торопил ехать домой.
Башилов имел неосторожность сказать мужу: «Мне заказаны картинки для „Войны и мира“, и Лев Николаевич пишет мне: „Для Наташи держитесь типа Тани“».
Этого было вполне достаточно, чтоб не оставаться в Москве лишние дни: муж без того уже не терпел, когда кто-либо заикался об этом сходстве.
На меня напала безотчетная грусть, и я думала: «Странно складывается жизнь моя: постоянная разлука. С моей дорогой Долли – навеки. С Толстыми, Дьяковыми, а теперь с Лизой – ведь я люблю ее. С девочками, с моими единственными подругами, и с ними теперь я разлучена надолго. Я должна буду засесть дома». Про отца и мать я боялась думать. Я не знала, что эта была последняя ночь, которую я провожу в кремлевском доме, где я родилась. И вдруг я почувствовала, как все грустные размышления мои куда-то отлетели, сердце мое наполнилось радостью… Я почувствовала жизнь будущего близкого и дорогого мне существа.
XXIV. Наша жизнь в Туле
Когда мы вернулись домой, я узнала, что у детей Толстых скарлатина. Мы были разлучены на шесть недель и боялись заразы, не бывши больны этой болезнью. Я получала иногда записки о ходе болезни и исполняла данные мне поручения в Туле. Писал всегда Лев Николаевич, так как меньше бывал в детской.
Жизнь наша дома складывалась, между прочим, совсем иначе, чем мы предполагали ее, и как говорил мне муж, еще бывши женихом. Вихрь судьбы нес нас сам по себе, помимо рассуждений, правил и убеждений Льва Николаевича. Жизнь наша сложилась и приятно и спокойно. Мы не сидели отшельниками у себя в углу и не пустились в вихрь света. У нас было и то и другое.
В провинции общество чиновников меняется каждые 3–4 года. Так как железная дорога только еще первый год ходила в Москву, то помещики по привычке еще жили в Туле в своих собственных домах и принимали. Чиновничье общество ясно разделялось на два разряда: светские и домоседы. Мы, конечно, попали в разряд светских. Оно иначе и быть не могло. Муж был по воспитанию своему тип светского человека, а я, привыкшая дома к разнообразному многолюдью и у Толстых к особенному оживлению, нисколько не чуждалась общества, а, напротив, ездила всюду с мужем, который для меня выезжал в Туле.
На наше счастье, эти три года, что мы провели в Туле, состав общества был прекрасный. Лишь семья губернатора Шидловского (не родня нашим) была неприязненна и обособлена от всех.
Принимали тульские помещики Кислинские, Андрей Николаевич и премилая жена его, Наталья Александровна. Он служил в Туле, но где? Я никогда ни про кого не могла сказать этого; даже с трудом запоминала место службы своего мужа. У них было двое детей, которые впоследствии и играли роль в Ясной Поляне, когда Сережа и Таня подросли. Сошлась я с семьей вице-губернатора Быкова. Там были три барышни – моложе меня и моих лет. Это был очень приятный дом. Почти все вечера, какие были свободны от балов и концертов, проводили у Быковых. У них был сын, бывший правовед и товарищ мужа, впоследствии губернатор города Баку. У Быковых я познакомилась со всем обществом. В Туле у меня было два друга: Надежда Александровна Быкова и Нина Александровна Арсеньева. Ее муж служил в Туле. Тогда только что выходило окончание романа «Война и мир», и меня обступали вопросами «кого описал?», «чем кончится?», «как он пишет?», «как живет?», «что думает?», «какая ваша сестра?» и пр. Нина Александровна Арсеньева писала мне:
«Дорого бы я дала за возможность поговорить о нем с вами. Какая Вы счастливая, именно счастливая, что у вас такой beau-frere[158]158
зять (фр.)
[Закрыть], что вы с ним разговариваете, слышите его суждения, мнения, когда они еще совсем свежие, новые…»
Общество в Туле было довольно большое. Дом генерала Тулубьева, Головачевы (не родня нашим), Полонские, Львовы, Мосоловы, – все эти дома принимали, и все относились к нам удивительно приветливо.
Странно, что начало нашей светской жизни положил тульский мужской клуб.
Многие члены клуба заезжали за мужем, приглашая его ехать играть в карты, но, конечно, не в азартные игры, а просто в модный тогда преферанс.
Оставаясь иногда одна и еще не бывши знакомой с тульским обществом, я говорила себе:
– Быть клубной женой я не согласна. Мы должны выезжать вместе. А вечно сидеть дома – вредно.
Я сделала несколько официальных визитов, а затем пошли приглашения, и вскоре я познакомилась со всем обществом и стала принимать у себя.
У нас была своя лошадь. Муж купил у Толстых вороного Могучего, нашего кремлевского, и сани с медвежьей полостью, боясь извозчиков в моем положении.
Помню один вечер у Тулубьевых. Карантин скарлатины окончился. Соня еще не ездила к нам, но Лев Николаевич бывал у нас. Однажды он приехал к нам и остался ночевать. Мы были приглашены на вечер к Тулубьевым.
– Поедем с нами, – говорила я, – ты ведь знаком с генералом, а Луиза Карловна – одна прелесть: образована, чудная музыкантша и премилая женщина.
– Ты так расхвалила, что поедем, – сказал он.
У Тулубьевых мы застали довольно большое общество. Лев Николаевич знал многих: Федора Федоровича Мосолова, известного коннозаводчика и богатого помещика, кн. Львова, бывавшего в Ясной, и других.
Мы сидели за изящно убранным чайным столом. Светский улей уже зажужжал; я сожалела, что не было Арсеньевых, когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру.
Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.
– Кто это? – спросил он, подходя ко мне.
– М-те Гартунг, дочь поэта Пушкина.
– Да-а, – протянул он, – теперь я понимаю… Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.
Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью.
Он сам признавал это.
Когда мы приехали домой, нам было весело. Мы разбирали всех и все, и я шутя сказала ему:
– Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя к Гартунг.
– А ты бы Сашу приревновала?
– Непременно.
– Ну, так и Соня, – смеясь ответил он.
На другое утро он ехал куда-то дальше; я забыла, куда.
В конце февраля Толстые уехали с детьми в Москву на шесть недель. В Москве был нанят дом на Кисловке. Так как я не была в Москве, то ничего не могу сказать об их пребывании. Уцелело лишь одно письмо Сони. Приведу из него несколько отрывков. «1868 г. 7 марта.
Милая Таня, сама не знаю, что со мною сделалось, что до сих пор не писала тебе… Так тут суетно, Таня, и невесело. Я все еще как в тумане и все еще суечусь. Мне кажется, я здесь и своих мало вижу, и дом не так веду и хозяйничаю дорого. В Конюшки тоже ездим редко, обедала только у них раз, раза три вечером была. Сделала я кое-кому визиты, и мне их отдали, и вновь познакомилась только с Урусовыми. Благочестивое семейство с единственной 15-летней хорошенькой дочерью. Мать лет 40, маленькая, нервная, бледная, худая, немного насмешлива и, кажется, умна. Сам князь почти наружностью портрет Николая Сергеевича[159]159
Воейкова.
[Закрыть]. И смех такой же, но Урусову лет за 40. Левочке ан ужасно нравится. И действительно: умен, очень образован, очень при этом наивен и добродушен. В воскресенье я в первый раз свожу девочек с княжной. Не знаю, что выйдет, боюсь, что скука.
О наших не знаю, что сказать тебе. Папа все так же недвижим, и ему не лучше, не хуже. Мама и Петя все также, бедные, устают, и я им ничем не могу помогать… Я даже во сне вижу твоего ребенка, мальчика, а наяву думаю о девочке…
Квартира наша и вообще все устройство довольно хорошо…
Так хотелось бы повидаться с вами. Папа меня всякий день встречает словами: „А я нынче все Таню ждал“.
Ты, кажется, веселишься в Туле. Я рада за вас, что вы познакомились со всеми…
Я была в концерте филармонического общества, и там все также модно, нарядно и парадно. Пела Лавровская, чудесное контральто, песнь из „Руслана и Людмилы“, чудо, как хорошо. Молодой, верный и огромный голос. Но эта песнь чудо, как хороша. Знаешь, „Чудный сон живой любви“. Вот, Таня, выучись, ты чудесно споешь, я уверена.
Прощай, душенька, целую тебя и Сашу. Левочка и дети здоровы».
Пришла весна, но я не пользовалась ею. В Ясную Поляну я уже не ездила с апреля месяца и вообще уже никуда не выезжала.
Толстые вернулись из Москвы, и Соня говорила мне, что Ясная Поляна с фиалками, свежей зеленью показалась ей и детям раем после Москвы.
13 мая у меня родилась дочь. Я просила назвать ее в память Дарьи Александровны Дьяковой Дашей. Я желала девочку и радовалась ей. На 4 или 5 день я заболела, и боялись горячки. Соня с самого первого дня была со мной, но ездила и в Ясную. Проездом к отцу из какого-то имения дядя Александр Евстафьевич заезжал и к нам. К счастью, он сразу пресек мое опасное положение, и я, хотя и пролежала довольно долго, но все же поправилась. У дяди я все выспрашивала о состоянии отца и чувствовала, что от меня что-то скрывают. Когда мне стало лучше, приехал и Лев Николаевич. Он показал мне столько участий в моей болезни и радости, что родилась здоровая и хорошая девочка, что тронул меня. Я спросила и его насчет здоровья отца, но и он ответил мне как-то неопределенно.
Я была суеверна, и меня еще смущала и иногда даже мучила мысль, что ребенок родился 13-го. «Дурное число, и не будет жив», – думала я.
В начале июня мы переехали в Ясную, но уже не к Толстым, а в другой флигель. У нас была детская, спальня, столовая и кабинет. Спальня была в той же комнате, где мы с Варенькой, сидя на окне в лунную майскую ночь, рассуждали о Сергее Николаевиче, и жалобно кричал филин. И теперь я услышала тот же крик филина, но он смешался с криком ребенка, и я мгновенно уже бежала в детскую и кормила сама. Няня Анна Антоновна, рекомендованная Н. А. Кислинской, была лет 45–50, опытная и прекрасного характера. Вера и Андриан уехали на родину, и у меня была горничная Поля, молодая девушка из Тулы, живая и услужливая. Когда я звала ее: «Поля!», она бегом бежала ко мне, останавливалась и произносила: «А вот Поля», что меня смешило. Повар был из Тулы.
Мой последний приезд в Ясную Поляну
Последняя моя поездка в Ясную Поляну произвела на меня такое сильное впечатление, а самая смерть Льва Николаевича настолько потрясла миллионы людей, что я решилась поделиться тем, что видела и прочувствовала за это время. Тридцатого октября я узнала из газет, что Лев Николаевич навсегда покинул Ясную Поляну, оставив письмо жене своей.
Я была не только удивлена, но поражена этим известием. Еще накануне получила я от сестры письмо, от 27 октября. Она поздравляла меня с днем рождения. Письмо спокойное, самое обыкновенное, где ничего не говорилось и ничего не подозревалось об его уходе. Тогда как летом я не раз получала письма от сестры очень грустные и тревожные.
Зачем? Куда ушел он? И что заставило его покинуть дорогую ему Яоную Поляну? Всю милую привычную ему обстановку и близких людей? Я терялась в догадках, и на все эти вопросы я не находила ответа.
А только отдаленное воспоминание сказанных им слов приходило мне на ум:
«Уйти от всего, уйти от роскоши, от этой жизни, обличающей нас на каждом шагу. Не решаюсь… Ломать что-либо и причинять этой ломкой горе другим – не могу. Надо всегда делать то – где больше самоотречения».
Он еще два года назад говорил это мне. А теперь? Видно, созрело это зерно, глубоко запавшее в его сердце.
Меня тянуло в Ясную Поляну, где сестра, где горе, где я разберусь с своими сомнениями.
Полубольная, я собралась ехать и вечером уже сидела в вагоне.
Дорогой я только и слышала разговор об уходе Льва Николаевича. Говорили о Нобелевской премии, о предполагаемом миллионе за сочинения, и много еще других несправедливых глупостей я наслушалась, сидя в углу вагона.
Поздно вечером я была в Засеке. На станции я совершенно неожиданно узнала, что дома никого нет и что вся семья уехала в Астапово, узнав о болезни Льва Николаевича. Это очень огорчило меня.
На станции меня ожидала коляска. Была светлая, лунная ночь, мы ехали по широкой, проселочной, знакомой дороге.
– Андриан, неужели никого нет дома? – спросила я кучера.
– Никого, Татьяна Андреевна, и Андрей Львович, и Михаил Львович как есть все уехали; только одна Марья Александровна дома осталась.
Как я была довольна услышать, что эта милая Марья Александровна Шмидт, которую я уже знала много лет, находится в Ясной Поляне. Мы ехали по очень плохой дороге, местами колеса вязли в колеях.
– Андриан, – начала опять, – ты возил графа на станцию?
– Я, – рано поутру сами пришли на конюшню, торопят запрягать и подсоблять стали, а у меня со сна и руки не слушаются.
– А как уехал граф, почему? – спрашивала я.
– Не ужились, – коротко ответил он, – говорят, давно уйти замышляли.
Подъезжая к дому, я заметила слабый свет в окнах зала, остальные же окна все были темные. А бывало, весь дом, как фонарь, горел, жизнь уже издали чувствовалась в нем.
В первый раз подъезжала я к крыльцу яснополянского дома с тяжелым сердцем. В первый раз не было той радушной шумной встречи, к которой я так привыкла в Ясной Поляне. Вокруг была тишина, и лишь прежний лакей Илья вышел на крыльцо высаживать меня из экипажа.
– Вам письмо оставлено, Татьяна Андреевна, – говорил он, – оно у Марьи Александровны.
Я пошла наверх, в комнату, где уже легла спать Марья Александровна. Мы обнялись с ней, она рассказала мне о внезапном отъезде Толстых на экстренном поезде и передала мне письмо. В письме меня просили отнюдь не уезжать в Петербург и дождаться их возвращения, если я не захочу ехать в Астапово. Я решила остаться и ожидать их в Ясной. Я прошла в зал. В тускло освещенном зале стоял накрытый стол и одиноко шипел самовар.
Все стояло на прежних местах: и большое вольтеровское кресло, где обыкновенно сидел и слушал музыку Лев Николаевич, и столы, заваленные книгами и журналами. Фамильные портреты, казавшиеся еще больше и темнее при тусклом освещении лампы, глядели на меня из своих золотых рам при угнетенной тишине; белый гипсовый бюст Льва Николаевича сурово смотрел из-под ветвей растений.
Как непривычно и печально было сидеть одной за этим длинным, большим столом, где всегда бывало так людно, приятно и содержательно. Два старинные зеркала отражали эту печальную картину.
Я выпила чашку чаю, взяла свечку и пошла через гостиную в комнату Льва Николаевича. И тут царили мрак и тишина. Впечатление получалось какого-то заколдованного замка, где внезапно застыла жизнь. Я поставила свечу на письменный стол Льва Николаевича и внимательно вглядывалась в эту знакомую простую обстановку. Никто, по-видимому, после ухода Льва Николаевича не решался убрать комнаты, ни переставить мебели, и все лежало и стояло так, как будто он сейчас только вышел из своего кабинета.
На письменном столе были разбросаны перья, карандаши, перочинный ножичек, палка, с которой он гулял обыкновенно, была зацеплена за стол…
Все фотографии альбома Орлова «Русская жизнь», висевшие в его кабинете, напоминали мне, как он подводил меня к ним и рассказывал сюжет всякой картины, прибавляя при этом: «Прелестно сделано».
Я прошла в его спальню, где также сильно чувствовался его внезапный уход. Все так живо напоминало его присутствие, все дышало им в этих комнатах, где так еще недавно он думал, скорбел, работал и радовался жизнью…
– Ушел! – говорила я себе, с ужасом сознавая, что он навсегда покинул свое родное гнездо. Чувство умиления и тоски охватило меня, и я заплакала.
Я оплакивала невозвратное прошлое, оплакивала его уход, горе сестры и сознание, что никогда его больше не увижу. Воспоминания, как волны, заливали мое воображение.
Вспомнились мне его молодые годы, когда в полной силе творчества из-под его пера росло великое произведение «Война и мир». Еще 16-летней девочкой жила я в этом самом доме и как сейчас вижу его, как он с ясным, веселым выражением лица выходил из кабинета после удачно написанной сцены; как он в этой же самой комнате раскладывал пасьянс, загадывая, написать ли задуманное?
Надо было удивляться, как мог вместить в себя один человек столько разнообразных сторон. Что за ширина мысли и чувств, что недостатков и качеств соединял в себе Лев Николаевич! Но одна была белая нить, прочно тянулась во всю его жизнь, – это чувство религиозное, оно росло и крепло в нем год от году.
Он любил жизнь, природу и как никто умел ими пользоваться. Любовь его к природе видна в письме к моей сестре, написанном в девятисотых годах весною, в деревне, в самом начале мая. Письмо начиналось:
«…Необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух – и все это вдруг, не вовремя, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и всё – главное, маханье берез прешпекта такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту».
Как живо чувствовал он эту чудную весну, как наслаждался ею, живя в деревне. Много незабвенного и дорогого оставила во мне жизнь в Ясной Поляне, а в особенности сам Лев Николаевич. Всюду, где бывал он, дышало теплой участливостью, чувствовалась несокрушимая, нравственная сила его, соединенная почти с детским заразительным весельем. Там, где бывал он, освещалось лучезарным светом, согревающим душу.
И те строки, которые он написал в молодости в дневнике своем, вполне определяют его. Вот они:
«Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».
И он ловил всех и заражал своим внутренним, священным огнем. Он понимал, что в жизни есть один рычаг – любовь.
* * *
Мы прожили с Марьей Александровной до 6 ноября. Получив из Астапова телеграмму о том, что неизвестно, когда вернется сестра домой и что положение Льва Николаевича очень серьезно, я собралась 7-го рано утром в Астапово, а Марья Александровна к себе домой. Мы поехали на станцию Засека, но там нам передали депешу о кончине Льва Николаевича.
Смерть его меня меньше поразила, чем весть об его уходе, мы ежедневно ожидали этого печального известия.
Мы вернулись в Ясную Поляну. Мысль о сестре не покидала меня ни на минуту.
Понемногу стали съезжаться родные. Ясенский дом снова наполнился, но как уныло выглядели все мы, в черных платьях, с заплаканными глазами. Бесцельно бродили мы по комнатам или же сидели по своим углам, полушепотом разговаривая между собой.
9 ноября мы все, в шестом часу утра, в нескольких экипажах отправились на станцию Засека встречать поезд, в котором везли тело Льва Николаевича.
Погода была тихая и теплая. Дорогой в темноте мы различали тысячную толпу, которая шла и стояла по дороге и у опушки леса. На станции мы еле-еле могли пробраться на особую платформу, предназначенную для родных, знакомых и депутаций.
Мы долго ожидали, стоя на платформе. Толпа все прибавлялась, когда вдруг послышался голос:
– Господа, поезд идет, шапки долой!
Мне стало жутко, холодно, сердце сильно застучало. Тихо, без свистков подъезжал поезд и остановился среди мертвой тишины. Когда раздвинули тяжелую железную дверь товарного вагона, все взоры устремились в это полутемное, мрачное отверстие, откуда виднелся дубовый гроб с возложенным венком из белых цветов.
Хор тихо пропел «Вечную память». Что-то трогательное и потрясающее было в этой встрече, в этой толпе, которая вся, как один человек, с трепетным благоговением относилась к памяти Льва Николаевича.
Выходили из вагона. Я глазами искала сестру свою. Ее вели под руки сыновья, она опиралась на палку. Вся в черном, с исхудалым, измученным лицом она показалась мне сильно изменившейся и постаревшей. Мы только успели поздороваться, как тотчас же вынесли гроб и вся похоронная процессия тронулась под гору по широкой дороге.
Не буду описывать нашего шествия до дому; скажу только, что когда на мосту или где-нибудь в узком проходе толпа скучивалась и слышались испуганные возгласы, раздавался громкий голос:
– Господа, подумайте только, кого мы несем! Ради него, пускай будет порядок.
И толпа останавливалась и снова чинно следовала за процессией. Через два часа мы были дома.
Гроб поставили внизу, в комнате, когда-то бывшей кабинетом Льва Николаевича; его открыли и положили в него цветы.
Когда все удалились, сестра хотела проститься со Львом Николаевичем. В комнате оставалась лишь я с ней и незаметно в углу стояла старая няня.
Долго прощалась с ним сестра. Я не могла слышать без слез, как она шептала молитву и трогательные прощальные слова. Сколько скорби и душевных страданий слышалось в них. Она прощалась не только с любимым человеком, но и с 48-летней жизнью, прожитою с ним и прервавшейся так внезапно и трагично.
«Да поможет ей Бог перенести эту тоску и горе», – думала я.
В углу комнаты на коленях стояла няня, она набожно крестилась, старое сморщенное лицо ее было в слезах.
Более тридцати лет привыкла она делить радость и горе с семьей Толстых. Она переживала в доме вторую потерю: умер на ее руках семилетний Ванечка, которого она выходила несколько лет назад.
После сестры я подошла к гробу. Лицо Льва Николаевича выражало полное спокойствие. Я поцеловала его холодный лоб и долго с любовью глядела на него.
Припомнились мне слова, написанные на 7 ноября в его книге «Круг чтения».
«Жизнь есть сон. Смерть – пробуждение. Смерть есть начало другой жизни».
* * *
После семьи пускали прощаться всех. Вереница по четыре человека, казалось, тянулась бесконечно. Около часу дня подняли гроб, и все двинулись к Заказу.








