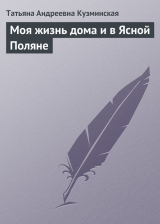
Текст книги "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне"
Автор книги: Татьяна Кузминская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
XII. Сергей Николаевич
Я чувствовала, как ко мне понемногу возвращалось сначала спокойствие, а затем моя беззаботная веселость. Любовь эта не пустила корней. Это безотчетное, молодое увлечение, как волна в прибое, захлестнула и тут же освободила меня.
Правда, что этому освобождению способствовали частые посещения Сергея Николаевича. Он приезжал на один день, а оставался два, три дня и не в силах был уехать, как сам говорил. Я относилась к нему, как к старшему, с уважением и доверием. Лев Николаевич часто говорил про него: «Сережа исключительный человек, это – тонкий ум в соединении $ поразительной искренностью».
Сергей Николаевич 15 лет жил с цыганкой Марией Михайловной, взятой им из табора совсем молодой. Мария Михайловна жила в Туле, там же, где и ее родители, а он в своем имении Пирогове. Сергей Николаевич обыкновенно часть года проводил за границей с сестрой своей Марией Николаевной и ее детьми.
У Сергея Николаевича были дети. О них я ничего не знала и видела лишь Гришу. Когда я спрашивала, кто же его мать, мне говорили: «Его мать цыганка: он незаконный». Слово «незаконный» для меня означало «ничей».
Вот при каких условиях началось сближение мое с Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевич чувствовал, что ездить ему в Ясную не следовало, и он говорил это брату, но все же продолжал ездить.
Настали июльские теплые вечера. Сидеть дома казалось невозможным, и мы часто ездили верхом. Однажды Сергей Николаевич предложил мне ехать на «Провалы», за 18 верст от дома. Мать отпустила меня. К моему удивлению, дорога была та же, что на Бабурино. Мне это было неприятно. Я предвидела разговор о нашей прошедшей поездке и не ошиблась. Он спросил меня, почему мне нравился Анатоль, и любила ли я его. Я молчала и совершенно искренно не знала, как ответить.
– Я не знаю, любила ли я его, – наконец сказала я – Может быть. Но знаете, мне было его так жалко при его отъезде. Его обидели, принудили уехать, ему было так неловко, грустно, и я плакала. Ну зачем Соня и Левочка так осрамили его? Это нехорошо, очень нехорошо…
– Я думаю все-таки, что Левочка так даром не сделает этого. Верно, Анатоль сам виноват.
– Нет, – почти закричала я, – это я во всем виновата, ведь вы не знаете…
– Вы не можете быть виноваты в шестнадцать лет.
– Мне скоро будет уже семнадцать.
– В семнадцать, – улыбаясь, повторил он за мной.
– А папа говорит, что женщина сама виновата, когда за ней ухаживают.
Он засмеялся.
– А когда же Левочка его отправил? за что? – спросил он.
– Потому что, помните, мы отстали в лесу? Вы знаете, ведь у меня подпруга у седла ослабла, и мы слезли с лошадей…
Я замолчала. «Что я могу ему сказать?» – подумала я. Сергей Николаевич пристально глядел на меня.
– Да, вы долго не ехали, – сказал он. – Почему?
– Так… Вы его осудите… Я ничего больше не скажу вам…
– Отчего? – спросил он снова. – Не могу говорить.
Мы оба молчали. Лошади скорым шагом шли вперед.
– Он не стоит вас, – как бы отчеканивая каждое слово, сказал Сергей Николаевич. – Таких, как он, много, а вы – одна. Я понимаю Левочку, что он отправил его.
Мы подъезжали к молодому лесочку. Большой пень, серп луны и сам Анатоль живо представились мне. Казалось, что Сергей Николаевич не может не знать, что было между нами – он все понимает.
Я волновалась, мысли путались, и вдруг я решительно и сильно хлестнула лошадь. Она вздрогнула и сразу понеслась, так что с непривычки я еле усидела на седле. Она проскакала лес, понеслась дальше, дальше, по торной, знакомой дороге, унося мое постыдное увлечение, как мне казалось тогда.
– Тише, тише, осторожнее, – кричал Сергей Николаевич, догоняя меня на своем золотистом Карабахе, накануне приехавшем с ним из Пирогова.
Он догнал меня, пригнулся к шее моей Белогубки и, схватив поводья, остановил ее.
– Ну какая же вы неосторожная. Можно ли так рисковать и скакать со старыми подпругами, – говорил он.
– Я не хотела видеть этого лесочка и хлестнула лошадь; она испугалась и поскакала, я не могла ее удержать. Я не подозревала в Белогубке такой прыти, – оправдывалась я.
– Нет, вас нельзя одну пускать, вы не знаете опасности…
И помолчав сказал:
– И не знаете себе цены.
Последние слова он проговорил, ласково глядя на меня.
Мы приехали к «Провалу» и остановились у сторожа в маленькой избушке. Старик рассказывал нам, как однажды ночью послышался страшный гул, такой, что сначала даже оглушил его.
– Я и не понял, в чем дело, – говорил он, – только поутру пошел смотреть в лес и вижу: вода, как прудок какой. И деревья на том месте были – и их не видать и дна не достать.
Сторож провел нас в лесок. Мне было очень интересно посмотреть на это подольше, но было поздно, темнело, и мы спешили домой.
– Мама будет беспокоиться, что с нами что-нибудь случилось, – говорила я.
Дома мы нашли все благополучно. Соня спала, но мама, действительно, сидя с тетенькой, с тревогой говорила о нас. Тетенька успокаивала мать, говоря:
– Rien ne peut arriver а Таня, une fois que Serge est la[68]68
Ничего не может случиться с Таней, раз Сережа с ней (фр.)
[Закрыть].
Тетенька любила Сергея Николаевича и верила в него.
Лев Николаевич сидел у себя и писал. Он говорил, что начал втягиваться в писание, свое обычное и любимое занятие.
После чая я пошла проводить мать в «тот дом», как мы называли флигель. Мама легла спать, и я присела на край ее постели.
– Мама, вы знаете, – начала я, – он все про Анатоля спрашивал.
– Про кого ты говоришь? – спросила мать.
– Ах, мама, конечно, про Сергея Николаевича.
– Ну так что же?
– Он меня расспрашивал про Анатоля, любила ли я его? Он говорит, что таких, как Анатоль, много, а я одна, и что он не стоит меня. Вы знаете, он такой хороший, он все понимает, все!
Мать улыбнулась.
– Это потому, что он тебя хвалит?
– Ну, какая вы странная, мама. Он не хвалил меня, но я чувствую, как он понимает меня. Мы так хорошо с ним говорили.
– Ты смотри, Таня, опять влюбишься.
Я не отвечала, мне хотелось сказать свое:
– Мама, вы знаете, что меня мучает? Это то, что Соня больна, а мне так весело, хорошо на душе, особенно сегодня вечером, я так счастлива! Отчего это? Я вас так люблю. Когда вы уедете, я подумать не могу, что я буду делать без вас.
Я прилегла головой на подушку матери, поцеловав ее.
– Я тогда все Левочке буду говорить, он очень хороший, но он все не велит «большой» быть, а я не хочу его слушать и засыпать с «открытым ртом», как он велит.
Я засмеялась, и мне стало еще веселее.
– Таня, я боюсь за тебя, ты слишком сильно в твои годы хватаешься за жизнь, – сказала мать. – Будь осмотрительнее, мой друг.
– Мама, а что, два брата могут жениться на двух сестрах? – спросила я, не слушая морали матери.
– Конечно, нет, это невозможно. А разве ты замуж собралась? – улыбаясь спросила мать.
– Нет, мама, ну что вы говорите, конечно, нет, я так.
Мы простились, и я ушла к тетеньке.
Татьяна Александровна на другой день за утренним самоваром спросила мама, что она сделала со мной, что я такая радостная пришла к ней.
Мама вкратце рассказала про наш разговор. Лев Николаевич в это время входил в столовую и просил повторить ему. Я вышла из комнаты (мама послала меня за маленьким братом) и не слышала их разговора. Сергей Николаевич в это утро уехал в Пирогово.
Весь день я провела с Соней. Ее здоровье поправлялось плохо. То ей становилось лучше, то снова, при кормлении, начинались страдания. Но кормилицы все не было. Мама уже поговаривала об отъезде.
Приведу письмо свое к Поливанову:
«Ясная Поляна, 1863 г. 8 июля.
Получила я ваше письмо, милый предмет мой, и, грешный человек, очень рада была читать от вас такие похвалы и перемену, которую вы нашли везде без меня. А я тут остаюсь до сентября, я просилась, да и они очень просили мама оставить меня подольше. Мне тут славно жить: одна без барышень, большой тенистый сад, пруды, своя комната, рояль, ноты, верховая езда, Соня и Левочка, чего же больше, да еще самое большое счастье, что мама приехала и живет здесь с месяц. Погода теперь дурная. Соня еще не совсем справилась после родов, да, ведь я вам не написала, что она родила 28 июня ночью в 2 часа. Сейчас подали шампанское, чай. Тут были и бабушка и доктор, и все обошлось благополучно, только тяжело ей достался Сережа (мой племянник), 22 часа она мучилась. Живем мы в двух домах – мама с маленькими и няней в одном флигеле, а мы все в другом. Гуляю я тут мало. Саши оба уехали уж с неделю. Скоро и мама уедет, 20-го, и останусь я одна по собственной охоте. Ездили мы в Ивицы. Бабушка вам кланяется и расцеловать вас велела. В Тулу часто катаем.
Если бы вы видели Ясную, это такое привлекательное место по природе, и по людям, и по воспоминаниям, как я жила здесь с Anatole. Все, все тянет меня остаться подольше, а отсюда прямо еду в Москву на театр и вечера. Когда-то вас увижу, предмет мой милый, потолкуем с вами обо всем. Сергей Николаевич приезжает довольно часто сюда. Я с ним намедни ездила верхом 3 часа сряду за 20 верст. Наездница я лихая стала, ничего не боюсь, а все за меня боятся. Как я бы с вами прокатилась и красиво было бы – молодой белокурый офицер и молодая девушка брюнетка, вот так поэзия! А тут большей частью кучер рыжий мой кавалер бывает, а мне все-таки весело, потому что верховую езду я до страсти полюбила.
Прощайте, милейший, любезнейший воспитанник, пишите мне еще и еще, я буду делать то же. Теперь сижу я в своей комнате, Соня кормит ребенка, все у нее. Погода гадкая, хандру наводит, а я все-таки, как обыкновенно toujours fidele et sans soucls![69]69
всегда верна и без забот (фр.)
[Закрыть]
Ваша Таня.
P. S. Я много читаю русских повестей и романов в русских журналах».
XIII. Поездка в Пирогово
Тетушка Пелагея Ильинична Юшкова была родная сестра отца Льва Николаевича. В 1863 году она жила в женском Тульском монастыре. Детей у нее не было.
Смолоду она любила свет, общество и роскошь. Она была, что называется, добрая, но ко всему относилась слегка поверхностно и составляла полную противоположность тетушке Татьяне Александровне, принимавшей все к сердцу и не любившей света.
Мы ожидали Пелагею Ильиничну, чтобы ехать в Пирогово. Я знала ее еще раньше: мы ездили к ней в Троице-Сергиевскую Лавру, где она жила, когда Лев Николаевич был женихом.
Одета всегда в черном, с черным тюлевым чепцом, с рюшью и красивой накидкой, она имела более блестящий вид, чем старушка Татьяна Александровна.
Карета подана громадная, четырехместная. Нас провожают на крыльце Лев Николаевич, Наталья Петровна, Дуняша и Алексей. Тетеньки, несмотря на июль, в бурнусах, перчатках и с косынками на голове. Дорога вела проселочная, большак. От Ясной до Пирогова считалось 40 верст. Отъехав 20 верст, в деревне Коровьи Хвосты мы сделали привал. Я спрашивала тетеньку, увидим ли мы Сергея Николаевича.
– Надеюсь, увидим, если он узнает, что мы приехали, ma chere[70]70
моя милая (фр.)
[Закрыть] Танинька, – сказала Пелагея Ильинична, – il faut faire savoir a Serge, que nous sommes venues. Je veux le voir[71]71
Надо дать знать Сереже о нашем приезде. Я хочу его видеть (фр.)
[Закрыть].
Тетенька почти всегда говорила по-французски. Я мысленно благодарила ее, что она просила дать знать о нашем приезде.
В Пирогове я обежала вновь построенный дом, принадлежавший Марии Николаевне, яблочный сад и все уголки новых мест. «Вот скоро приедут из-за границы мои друзья Варя и Лиза (дочери Марии Николаевны). То-то будет весело!» – мечтала я.
Узнав о нашем приезде, к обеду приехал Сергей Николаевич. Он предложил мне в своем кабриолете ехать с ним на его половину, осмотреть его усадьбу. Тетенька Татьяна Александровна отпустила меня.
Мы ехали очень быстро. Большая, глубокая река отделяла две усадьбы.
Лошадь, кабриолет и он сам, как и его усадьба, носили на себе свой особый отпечаток.
– Вам нравится здесь? – спросил он.
– Очень, а главное – хороша река. Я так люблю жить у реки. Дайте мне править, я умею, – просила я.
Он отдал мне вожжи, а сам смотрел за мною.
– А вы всегда тут живете? – спросила я.
– Нет, не всегда, хотя я и люблю Пирогово и никогда здесь не скучаю, – сказал он.
– Что же вы одни делаете? – спросила я.
– Много читаю, очень люблю английские романы. Я на старости лет выучился по-английски, а потом по хозяйству много дела.
– Вы читали роман Octave Feuillet «La petite com-tesse»?[72]72
Октав Фейэ «Маленькая графиня» (фр.)
[Закрыть] – продолжал он.
– Нет, – отвечала я. – А хорошо это?
– Очень хорошо. Вы там описаны, прочтите. Меня это очень заинтересовало, и я решила прочесть, чтобы знать его мнение обо мне.
Приехавши к Сергею Николаевичу, я побежала в сад. Он был довольно большой с тенистыми аллеями. Вдали виднелась река, которая красила всю усадьбу. Неожиданно пошел дождь, и мы вошли в дом. Дом был большой и старый. Вдруг набежала темная, большая туча и разразилась сильная гроза. Я боялась грозы. Перед каждым ударом грома молния освещала полутемную комнату. Сергей Николаевич не отходил от меня. Я сидела у окна в кресле и волновалась от частой молнии. Вдруг ярким светом осветилась вся комната, и тут же грянул невероятно сильный удар грома так, что рамы в окнах задрожали. Я испугалась, вскочила с кресла и невольно кинулась к нему, как бы под его защиту. В глазах моих стояли слезы.
Он взял обе мои руки и стал меня успокаивать.
Его бережно нежное обращение благотворно подействовало на меня. После этого удара гроза отдалялась, но дождь лил, как из ведра. Тетенька, как мы узнали потом, очень беспокоилась о нас, но ехать обратно через реку было невозможно.
Этот вечер был один из самых поэтических воспоминаний моих и Сергея Николаевича, как я узнала впоследствии от Льва Николаевича. Все, что мы говорили, было незначительно, но, как это часто бывает, казалось, что все в этот вечер носило свой особый отпечаток чего-то нового, близкого нам обоим.
Сидя на окне, я рассказывала, как мы ездили на охоту. С лорнетом в руках Соня подозрила[73]73
увидела лежачим.
[Закрыть] зайца, и когда он вскочил и убежал, она была очень довольна.
– Ей было жаль его, – говорила я смеясь. Потом, под впечатлением грозы и этого страшного удара, я рассказала ему, как я ребенком заблудилась в лесу и долго бродила в нем, когда мы ходили за грибами.
– Какие там таинственные места с оврагами попадались мне, если бы вы только знали! – говорила я. – Мы называли этот лес Швейцарией. И страшно было и хорошо… Птицы, вылетая из кустов, пугали меня. Я видела зайца, видела белку. Вы этого чувства не понимаете, – говорила я, волнуясь при этом воспоминании, – я не умею рассказывать…
– Нет, я все понимаю, все, что только вас касается. Но не всем дано это счастье знать и понимать вас, – сказал он.
В этот вечер без объяснения в любви мы чувствовали ту близость и единение душ, когда и без слов понимаешь друг друга. Это было зарождение того сильного чувства веры в будущее счастье, которое и возвышает и поднимает человека и делает его лучше и добрее. Мое сердце было переполнено счастливой радостью, но не той детской радостью, что было с Кузминским, не той испуганной страстью, неведомой и грешной, с Анатолем. Нет, это счастье было сознательное. Я не могла не чувствовать в нем той разницы с другими, которых я знала до сих пор. И это чувство любви наполнило все мое существо. Оно принесло мне и счастье и много горя. «Да, этот исключительный человек только и понимает, и ценит меня», – думала я. «Он знает все, что я думаю и чувствую. Я не могу ни с кем сравнить его». Я любила его, и сердце мое впервые переполнилось радостным [чувством]
Мы долго еще сидели, пережидая дождь, и все время находили темы для разговоров.
Подали чай, и Сергей Николаевич просил меня хозяйничать. Видя мое утомленное лицо, он посоветовал мне после чая лечь спать. Принес всю постель и сам постелил ее в соседней комнате. Как сейчас помню ее, – небольшая с ширмами у дивана.
Но вдруг снова блеснула молния, послышался гром, и я не могла себе представить, как я останусь в пустом доме одна. (Его спальня была в другом этаже). Было уже начало третьего часа.
– Я боюсь остаться одна, – сказала я.
– Если хотите, я не уйду вниз, пока не пройдет гроза и пока вы не уснете, – сказал он. – Я буду караулить вас за ширмами, – как бы шутя, прибавил он.
Почти не раздеваясь, прилегла я на приготовленную им постель. Я слышала, как он переворачивал страницы своей книги, слышала, как приближалась вторая гроза. Усталость томила меня. Счастливая, свободная и беззаботная, с радужными мыслями и неопределенными надеждами на будущее, я перешла в другой мир, но не знаю, какой из них был лучше…
Письмо к Поливанову (числа нет):
«Дорогой предмет, получила письмо Ваше. Вы спрашиваете, как здоровье Сони. Теперь ей лучше. Она встает, но еще бледна.
Знаете, я ездила за доктором Шмигаро в Тулу и привезла его. Мы ехали в карете. И я, и он все время молчали. Левочка встретил нас на проспекте и я, смеясь, говорю ему: „Знаешь, что мы первое слово говорим во всю дорогу“. Он засмеялся и говорит доктору: „Каково выдержала! Это ведь ее манера – не разговаривать дорогой“.
Шмигаро – добрый, толстый, неуклюжий и точно вечно спит. Кабы я была больна, я бы ему не верила.
Левочка не в духе. Сережа кричит, няня все ходит и баюкает его, и это заунывное не то пение, не то мычание, так и перенесло меня в Покровское, где мы жили около детской три девы. Моя комната тоже около детской.
Расскажу вам, милый воспитанник, как я была в Пирогове с двумя тетеньками.
Подали большую карету. На крыльцо вышли Алексей, Дуняша и Наталья Петровна. Я живо прыгнула на козлы. Тетенька говорит:
– Таня, descendez, ce n'est pas bien de rester avec le cocher[74]74
сойдите, не хорошо сидеть с кучером (фр.)
[Закрыть].А тут пришел Левочка и говорит:
– Пускай ее, тетенька, для нее законы не писаны! Мы поехали. Пирогово 40 верст от Ясной. Дорогой я угощала нашего старого кучера рыжего Индюшкина карамельками, чем очень потешался Сергей Николаевич, когда ему об этом рассказала тетенька. В Пирогове мы остановились в доме Марьи Николаевны. Дом был пустой. К обеду приехал Сергей Николаевич. Обед был плохой, и тетенька ворчала, что компот без изюма.
После обеда тетенька меня пустила в имение Сергея Николаевича. Мы поехали в кабриолете. Когда мы приехали, я побежала смотреть дом. Дом большой, старый. А потом пошли в сад. И сад старинный, и река вдали.
Но загремел гром, и пошел дождь, и мы вошли в дом. Подали чай. И я разливала. Он был как-то задумчив и все наблюдал за мной и вдруг говорит:
– Вам скучно со мной. Вы так молоды, а я стар. Я ему сказала, что мне всегда и весело и хорошо с ним, потому он все понимает. А он усмехнулся и говорит:
– Не всякому дано счастье знать и понимать именно вас. Мне кажется, что дома вас не довольно ценят и не понимают, какая вы.
Вдруг стало темнеть, я побежала к окну и вижу: низкая, темная туча и тут же блеснула молния, и вслед за ней гром – ужасный. Я вскрикнула и отскочила. Ужасно боюсь грома. Он подошел ко мне и посадил меня в кресло и не отходил все время грозы.
И, странно, несмотря на страх мой, мы так хорошо говорили. Так как-то удивительно сложился весь этот вечер. Он был другой, каким я знала его раньше. Я рассказывала ему про наше детство, Покровское, как пропала в Швейцарии. Помните? – заблудилась, и Соня и Петя плакали. А я бродила долго, и страшно было одной и хорошо. Сарра Ивановна меня дома бранила. А Никольские мужики указали дорогу.
Про охоту говорили. Опять спрашивал про Anatole, но я сказала:
– Не портите вечера, не говорите об этом. – И он замолчал.
Ах, предмет, если бы я могла вычеркнуть из своей жизни это время с Anatole!
Мы сидели долго, а дождь все лил, и спать мне не хотелось. Зажгли лампы, гроза утихла, а мы все находили о чем говорить.
Как мне хочется, чтобы вы его знали. Это такой человек удивительный, и Левочка его очень любит. Но мне иногда неловко как-то при нем. Боюсь сказать глупость. Но только не в этот вечер в Пирогове.
Прощайте, пишите и не показывайте никому письма.
Таня».
Вот что писал Лев Николаевич сестре моей Соне из Пирогова, после нашего разрыва с Сергеем Николаевичем в 1864 г. Он приехал туда поохотиться с моим братом Александром и Келлером. Сергей Николаевич отсутствовал.
«После ужина я прошел в подробности по всему дому и узнал вещи Сережины (разные мелочи), которых я не видал давно, которые знаю 25 лет, когда мы оба были детьми, и ужасно мне стало грустно, как будто я его потерял навсегда. И оно почти так. Они спали наверху вместе, а я внизу, должно быть, на том диване, на котором Таня за ширмами держала его. И эта вся поэтическая и грустная история живо представилась мне. Оба хорошие люди, и оба красивые и добрые; стареющий и чуть не ребенок, и оба теперь несчастливы; а я понимаю, что это воспоминание этой ночи – одни, в пустом и хорошеньком доме – останется у них обоих самым поэтическим воспоминанием, и потому что оба были милы, особенно Сережа. Вообще мне стало грустно на этом же диване и об них, и о Сереже, особенно глядя на ящичек с красками, – тут в комнате, – из которого он красил, когда ему было 13 лет; он был хорошенький, веселый, открытый мальчик, рисовал и все, бывало, пел разные песни, не переставая. А теперь его, того Сережи, как будто нет».








