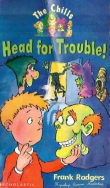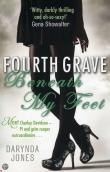Текст книги "Дорога на Вэлвилл"
Автор книги: Т. Корагессан Бойл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Конечно, тут тоже не обошлось без терний. Вместо прежней диеты назначили новую, молочную. После утренней клизмы Лайтбоди должен был выпивать четыре унции чистейшего цельного молока, производимого на санаторской ферме, где коров дважды в день чистили пылесосом, чтобы в молоко, упаси боже, не попало волоска или соринки. В течение дня Уилл должен был выпивать все те же четыре унции с интервалом в пятнадцать минут, а ночью ему делали поблажку: достаточно было стакана молока раз в час. Эта диета не ограничивалась временными рамками – доктор Келлог и доктор Линниман сами решат, когда ее прекратить.
Все бы ничего, но Лайтбоди никогда, даже в раннем детстве, не испытывал особого пристрастия к молоку. Последние пятнадцать лет он вообще к нему не прикасался – разве что изредка выпивал молочный коктейль или добавлял капельку-другую в утренний кофе. Вряд ли он потреблял больше трех кварт молока в год, а теперь ему предстояло буквально насквозь им пропитаться. С утра до вечера все молоко, молоко, молоко, пока оно не польется из всех пор, и по ночам Уиллу уже снились только зеленые пастбища и увесистые коровьи титьки. Но далеко впереди брезжил свет надежды: доктор Келлог – неизменно добродушный, лучащийся энергией, здоровьем и оптимизмом – намекнул, что, бог даст, в скором времени можно будет перейти на новую диету, виноградную.
Банкет проводили на четвертом этаже, в просторном зале как раз напротив главной столовой. Здесь тоже стояли пальмы в кадках и были развешаны такие же жизнеутверждающие плакаты (вроде «Бэттл-Крик – это идеология!»), как и в столовой, но у дальней стены возвышался подиум, а столы были длинными, человек на двадцать. Элеонора надела зеленое шелковое платье, так шедшее к ее глазам, пристегнула кружевной воротничок цвета слоновой кости, взяла ридикюль в тон. Она была так прекрасна и грациозна, так похожа на какую-то волшебную экзотическую птицу, что Лайтбоди признал: да, пребывание в Санатории ей на пользу. Сам Уилл оделся так же, как к обычной трапезе – белоснежная накрахмаленная рубашка и старомодный черный фрак. Именно в этом наряде он поглощал на ужин свои водоросли или пил молоко.
Супругов посадили в почетном конце одного из столов, где уже сидели миссис Тиндермарш, адмирал Ниблок (Военно-морская академия), Эптон Синклер (великий писатель и реформатор), а также прославленный теоретик жевания Хорейс Б. Флетчер. Свет в зале был мягкий, рассеянный. Вдоль стены горели лампы в абажурах, на столах стояли канделябры. Лайтбоди одобрительно окинул взглядом гвоздики, серебро и хрусталь, едва сдержался, чтобы не запустить руку в вазу с соленым миндалем, высмотренную им среди прочих закусок: сельдерея, оливок и отрубей. Впервые за долгое время Уилл ощутил нечто похожее на приступ голода, однако разум сказал ему голосом доктора Келлога: «Никакого миндаля, сэр, даже сельдерея и отрубей вам пока есть нельзя». Уилл сложил руки и стал мужественно ждать, когда ему принесут очередную порцию молока.
К столу подавали (другим, не Уиллу) изысканнейшие кушанья из санаторного меню: полубожественный салат из собственных тепличных помидоров со всевозможными приправами; овощной бифштекс; сладкий перец с творогом; мороженое и на десерт «Кокосовый крепыш». Слева от Уилла сидела совершенно очаровательная дама (некая миссис Прендергарст из Хэйкенсака, штат Нью-Джерси), к тому же большая любительница собак. Лайтбоди развлекал ее рассказами о проделках своего жесткошерстного терьера Дика. Напротив сидел тоже вполне симпатичный субъект: здоровенный и красномордый, в клетчатом твиде. У него было больное сердце, и еще он без конца рассуждал о свирепом латиноамериканском диктаторе генерале Кастро, однако, когда Уилл резко сменил тему разговора, артачиться не стал и почти с таким же азартом включился в дискуссию о шансах армейской команды в предстоящем матче с командой военно-морского флота. Но эпицентром стола была, конечно, Элеонора. Она буквально источала сияние – изящно наклоняла голову, вставляя какое-нибудь блестящее словечко, или вдруг держала виртуозную паузу посреди фразы, чтобы слушатели могли полюбоваться ее очаровательной мимикой. Темой беседы было садоводство. Справа от Элеоноры сидел какой-то тип (Уилл не запомнил имени), который все время болтал о своем поместье, о каких-то платановых аллеях и рододендроновых клумбах. Элеонора проглотила его с потрохами и косточки выплюнула.
Потом начались речи. Некая докторша, такая крепенькая и пышущая здоровьем, что ее можно было спутать с кукурузным початком, произнесла приветственный тост (воздев бокал со сливовым соком) в честь Уилла и Элеоноры, миссис Тиндермарш и прочих новичков, прибывших в Санаторий.
Потом выступила дама такой невероятной тучности, что по сравнению с ней даже миссис Тиндермарш смотрелась Дюймовочкой. Это была какая-то миссионерша из Исландии. Она прочитала на норвежском языке поэму, в которой воспевались прелести сливового джема и ночных пробежек по морозу в отхожее место (о, эта бледная арктическая луна!).
Потом настал черед Элеоноры.
У Уилла заколотилось сердце, когда его жена поднялась на подиум и разложила на трибуне листки с речью. Сам Лайтбоди не очень-то отличался красноречием – в свое время дважды срезался на экзамене по риторике. Вот почему его так восхищала спокойная уверенность Элеоноры, величественно озиравшей всех этих чужих людей, среди которых было бог знает сколько важных шишек. Элеонора сразу начала говорить тихим, задушевным голосом, который, однако, отличным образом достигал самых дальних уголков зала.
– Сегодня, дамы и господа, друзья мои, я хочу рассказать вам о моей жизни до Бэттл-Крик, об этом мрачном средневековье моей жизни, когда орды чревоугодия, мясоедения и бессонницы осаждали священные храмы моей души. Я была заблудшей овечкой. По двадцать раз на дню я обливалась слезами из-за таких пустяков, о которых теперь стыдно и вспоминать. – Она сделала паузу, раскрыла глаза еще шире, решительно поджала губы. – Я расстраивалась из-за порванной почтовой марки. Из-за трещины на чашке севрского фарфора. Из-за птички в клетке. Бывало, представлю себе глухое болото, затерянное где-нибудь среди лесов темной ночью, и горько плачу. Или вдруг разревусь из-за сломанного пера. Из-за поникшего пера на шляпке. Из-за гнилого абрикоса. Из-за того, что заходящее солнце, проникая в окна гостиной, вдруг высветит портрет моей покойной матери, наряженной в свое самое лучшее платье. Вот, друзья мои, причины, повергавшие меня в отчаяние.
Элеонора продолжала в том же духе еще минут пять. Это было мило, откровенно, и все слушали ее с глубочайшим сочувствием. Лайтбоди не мог понять только одного: она ведь обращалась не к профанам, а к собратьям по несчастью, к таким же неврастеникам и неврастеничкам, так к чему же этот проповеднический тон? Затем Элеонора перешла к описанию своих недугов, что уже отдавало пресловутым «обменом симптомами», но, надо полагать, она пошла на эту крайность из риторических соображений. Нужно разжалобить публику, а потом как следует вдарить изо всех орудий, закатив салют во славу козлобородого спасителя, который всех их осчастливил.
Лайтбоди, конечно, очень гордился своей женой, но все же слегка заклевал носом, когда сетования затянулись. И вдруг волшебные слова «мой дорогой супруг», достигшие его слуха, заставили Уилла встрепенуться. Элеонора говорила, что «ее дорогой супруг» только теперь узрел благословенный, озаривший ее свет. Слишком уж в нем укоренилась пагубная тяга к мясу, спиртному и даже, увы, наркотикам.
Уилл пришел в ужас. Элеонора смотрела прямо на него, озаренная мягким, сострадательным сиянием, будто какая-нибудь святая с витража католической церкви. Весь зал тоже уставился на Уилла. Он готов был спрятаться под стул, а еще больше ему вдруг захотелось курить, пить виски, жрать котлеты с бифштексами и закусывать куриными ножками, чтобы вся эта публика полопалась от злости. Он вжался в неудобную спинку стула.
Элеонора же тем временем красноречиво расписывала его пороки и ту глубину отчаяния, в которой он пребывал, когда она искала спасения в Санатории.
– А ведь во всем была виновата я! – внезапно вскричала она, всплеснув руками. – Я и только я! Из-за моих болезней, эгоизма, стремления к позитивному мышлению и исцелению любой ценой я забыла о муже, моем спутнике жизни, моей опоре. Я делала первые шаги к выздоровлению, а он тем временем увязал все глубже и глубже.
В зале стало тихо-тихо. Ни вздоха, ни шарканья ног, ни кашля. Все слушали как завороженные.
– Но это еще не конец моей истории, дорогие друзья и единомышленники, а также те, кто еще только ступил на увлекательную дорогу биологической жизни. Знайте же, что мой муж находится сегодня здесь, среди нас! – Эффектная пауза. – Уилл! Уилл, где ты?
Неужели она обращается к нему? Показывает на него? Что же, он должен встать и присоединиться к стаду?
Да, она показывала именно на него.
– Уилл, милый, встань, пожалуйста.
Его колени заскрипели, как ржавые дверные скобы, а ноги были словно прикованы к стулу цепями. Но со всех сторон гремели аплодисменты, раздавались крики «Браво!», «Молодчага!» и так далее.
А в следующую минуту рядом оказалась Элеонора, такая милая-милая-милая, и сама, без всяких просьб с его стороны, раскрыла ему объятия.
* * *
После лекции были закуски и обычная светская болтовня. Элеонору со всех сторон облепили благодарные слушатели, а Уилл забился в угол, где на него тоже насел целый взвод совершенно незнакомых людей, хлопавших его по плечу, хватавших за локоть, бивших по спине и щедро делившихся непрошенными советами, благими мыслями и выражениями неподдельной заботы. Это было мучительно и продолжалось по меньшей мере в течение трех стаканов молока (Уилл уже привык измерять время порциями своей молочной диеты, ибо они поступали к нему с регулярностью, которой позавидовали бы колокола церкви Святого Евстахия в Петерскилле).
Наконец Лайтбоди остался наедине с Элеонорой. Она взяла его за руку и решительно повела к двери.
Интересно, куда?
Казалось, что от нее исходит ослепительное сияние, куда более жаркое, чем синусоидная ванна или «горячая перчатка».
Элеонора была довольна собой. Она сделала благое дело для Санатория, создала ему отличную рекламу, а главное – ее прекрасно приняла аудитория. Теперь все будут говорить о ее речи.
– Ты видел, как они все толпились вокруг меня? Так стиснули, что я едва могла вздохнуть. Уилл, ах, Уилл! – захлебнулась она, взяв его под руку и по-девичьи прислонившись головой к его плечу. – Ты только подумай, какая честь! Выступать перед всеми этими людьми – перед Синклерами, а там, в дальнем конце стола, сидела такая темная, эффектная женщина, похожая на цыганку, ты видел? По-моему, это была сама Мета! Ну и, конечно, Хорейс Б. Флетчер. А видел такого маленького смешного человечка во всем черном, как будто он пришел на похороны? Это Элмус Оверстрит, банкир. Знаешь, что он мне потом сказал? Ну просто душка!
Уилл прижимал к себе руку жены. Чудесное было ощущение. Исходящее от жены электричество так и заструилось по его телу.
– Ну, и что он сказал? Подожди, дай угадаю. Он приглашает тебя стать его партнером?
Лайтбоди, не сдержавшись, расхохотался. Очень уж славно он чувствовал себя в эту минуту.
– Нет, я знаю! – продолжил он. – Он хочет предложить тебе совершить лекционное турне, чтобы ты советовала женам, как нужно спасать их спившихся мужей.
– Не говори глупостей, Уилл. Хотя, конечно, ты ужасно милый. Я так счастлива, что ты сюда приехал. – Она помолчала, улыбнулась. О, ее губы и зубы! О, как же он ее любил! – Мистер Оверстрит сказал, что не слышал такой прочувствованной речи с того самого дня, когда Джон Л. Салливан выступал на ужине в Элкс-Лодже, описывая, как его сгубило пьянство. И еще Оверстрит сказал, что ты самый счастливый мужчина на свете. Он сказал, что с такой женой ты обязательно поправишься. Конечно, обычная вежливость, но все равно очень мило с его стороны…
Они уже подходили к лифту, где вместо болтливого дневного лифтера дежурил вечерний – весьма сдержанный джентльмен, странновато смотревшийся в тесной ливрее попугайского зеленого цвета, точно такой же, как у портье и носильщиков.
– Может, и из вежливости, но он был прав – я и есть самый счастливый мужчина на свете, – сказал Лайтбоди, пропуская жену вперед. – И я рад, действительно рад, что ты привезла меня с собой.
Вообще-то он заготовил целую речь и, пока она выступала, мысленно произнес ее про себя. Хотел признать свои ошибки, покаяться, сказать, что только теперь понял ее правоту, хотя, конечно, вряд ли стоило так уж откровенничать перед всеми этими чужаками. Он открыл было рот, но до покаянной речи так и не дошло.
– Какой этаж? – спросил ночной лифтер густым похоронным голосом, словно хотел узнать, на каком участке кладбища они выбрали себе могилу. Уилл сбился, не зная, что ответить.
За него ответила Элеонора.
– Второй, – тихо сказала она.
– Да-да, конечно, – прошептал Уилл, пожимая ее локоть. – Я провожу тебя до двери.
Когда лифтер задвинул решетку, он шепнул еще тише – прямо в ее теплое ухо:
– Господи, такое ощущение, что я снова за тобой ухаживаю, как когда-то давно.
Она ничего на это не ответила, но кинула на него такой взгляд, что Уилл прямо замер. Когда-то, еще до кофейной невралгии, измученных нервов и злосчастной беременности, она частенько одаривала его такими взглядами. Сердце у него так и заколотилось.
Возможно, он немного и помедлил перед тем, как войти в номер, – ведь заветы доктора, казалось, были вырезаны на деревянных створках, были высечены на медной ручке, написаны на стенах. И все же Уилл не остановился, ибо ее взгляд подбодрил его, подхватил, словно легким ветерком, и внес через порог. Лайтбоди крепко обнял жену, не давая ей опомниться. Прижал к себе, и зеленый шелк ее платья зашептался о чем-то с его смокингом, а ее не затянутое в корсет, окрепшее от физиологической жизни тело, несмотря на все многочисленные юбки и нижнее белье, оказалось совсем рядом. Уилл задрожал, потерял голову и поцеловал Элеонору.
– Но, милый? – голос ее звучал сдавленно, словно Элеоноре не хватало воздуха. – Дорогой, милый, мне нужно… Видишь ли, Фрэнк, то есть доктор Линниман, назначил мне на эту неделю мочегонную диету… Мне нужно… нужно… в туалет…
Извинившись, Уилл отскочил в сторону, словно обжегся о раскаленную печку. Он не знал, что ему делать с руками, ногами и всеми прочими органами своего тела, которое вконец извело его своими недугами, потребностями и желаниями.
– Отличная речь, Эл, – сказал Уилл, обращаясь к двери, просто чтобы услышать звук своего голоса. – Правда, не совсем по теме. Ты почти ничего не сказала про петерскиллское дамское общество «За здоровый образ жизни».
Из-за двери доносилось мистическое, чарующее журчание.
– И потом, мне было так неловко. Перед всеми этими чужими людьми…
С легким чувственным щелканьем дверь распахнулась, и Элеонора легко, бесшумно ступила в комнату. На ней была только ночная рубашка; расчесанные волосы ниспадали на плечи, как у какой-нибудь экзотической колдуньи или гейши. Лайтбоди узнал эту розовую фланелевую рубашку с кружевной оторочкой на груди и рукавах, узнал – и пришел в неописуемое волнение. Моя жена в ночной сорочке,сказал он себе, и мы вдвоем в комнате.Тут в глаза ему бросились ее белоснежные ослепительные щиколотки, и Уилл стрелой выскочил из кресла.
Она обняла его, и они поцеловались. Он ощутил легкий трепет ее язычка, исходящий от ее тела жар, и его руки сами по себе стали поглаживать, массировать, исследовать знакомую территорию.
Элеонора взяла мужа за руку и подвела к кровати.
– Тс-с-с, – прошептала она. – Не брюзжи. Моя речь… Я произнесла ее ради твоего же блага. И ради блага Санатория. А теперь иди ко мне. Сними это.
Он завозился с пуговицами, задергал себя за галстук, в голове у него была полная сумятица.
– Но, но… Твое здоровье, – забормотал он. – Доктор Келлог…
Она смотрела на него ровным, спокойным, немигающим взглядом.
– Дочь, мне нужна дочь, Уилл.
Дочь, мне нужна дочь.Он весь задрожал, словно на сеансе вибротерапии, и повалился на Элеонору сверху – возможно, не слишком ловко, но зато весьма убедительно и с истинной страстью.
К сожалению, именно в этот момент в дверь постучали.
Стук! Ах да, они ведь не дома. Нет, они находятся в Санатории Бэттл-Крик, в дверь номера стучат, а сам великий доктор Джон Харви Келлог запретил им исполнять супружеский долг.
Оба замерли, охваченные чувством вины и паникой.
Уилл хотел спрятаться в шкаф, но Элеонора, проявив недюжинную силу, вдруг отшвырнула его в сторону, словно ворох тряпья. Что будет дальше? Стучащий удалится, или же дверная ручка вдруг повернется, и створки распахнутся?
С той стороны, из коридора донесся суровый медицинский голос, исполненный благоразумия и сознания своей правоты:
– Мистер Лайтбоди? Мистер Лайтбоди, вы здесь?
Сестра Грейвс!
Элеонора, еще совсем недавно изнывавшая от страсти в его объятиях, ответила царственным, ледяным голосом:
– Что такое?
И открыла дверь.
В проеме стояла сестра Грейвс, держа в руках поднос. На подносе – стакан с четырьмя унциями молока.
– Прошу прощения за беспокойство, мадам, – прошептала она, и ее щеки залились краской, – но вашему мужу пора пить порцию молока. А вам, мистер Лайтбоди, – она взглянула через плечо Элеоноры на Уилла, сидевшего на кровати в смокинге, но без штанов, – пора готовиться ко сну. Уже начало одиннадцатого. Если точно, четверть одиннадцатого, сэр.
У Элеоноры на лице не дрогнул ни один мускул. Она молча дослушала сестру Грейвс до конца и, казалось, с каждым сказанным словом делалась все спокойнее. Миссис Лайтбоди была выше ростом, чем Айрин, по крайней мере на пару дюймов стройнее, ну а уж по части самообладания и вовсе могла дать сто очков вперед. Еще бы – ведь Элеонора была взрослой светской женщиной, а сестра Грейвс – девчонкой, крепенькой, здоровенькой, пухленькой, с солнечно-пшеничной улыбкой, но все равно девчонкой.
– Можете оставить молоко мне, милая. Мистер Лайтбоди сейчас занят, вы могли бы и сами это заметить. Благодарю вас за заботу, но мы не дети и в няньках не нуждаемся. – Элеонора не сводила глаз с лица оппонентки. – Можете идти, спасибо.
Но сестра Грейвс преподнесла ей сюрприз. Вместо того чтобы передать поднос с молоком и, смиренно поклонившись, удалиться, она не сдвинулась ни на дюйм.
– Мне очень жаль, мадам, прошу прощения, но доктор приказал, чтобы я поила молоком пациента собственноручно. Я должна быть уверена, что молоко действительно выпито.
Возникла продолжительная пауза. В конце концов Элеонора обреченно вздохнула.
– Ладно, – сказала она. – Поите пациента молоком. Прошу!
Сестра Грейвс с очень официальным видом вошла в комнату, ступая резко и решительно, осанка ее была безупречной. Без единого слова она склонилась над Уиллом, протянула ему поднос и дождалась, пока он осушит шестьдесят первую порцию молока нынешнего дня. Потом, все с тем же деловитым видом, она пересекла комнату в обратном направлении, однако у двери задержалась. Не обращая внимания на Элеонору, сказала Уиллу с нажимом:
– Жду вас в вашем номере, мистер Лайтбоди.
И уже потом удалилась, не удосужившись закрыть за собой дверь.
Элеонора хлопнула створкой так, что у Уилла зазвенело в ушах. Она была разъярена: глаза расширены, губы поджаты.
– Кем она себя воображает? Твоей нянькой? Нет, ты видел, как нагло она стояла тут и распоряжалась в моем номере! Как будто я сама не могу напоить мужа этим дурацким молоком!
– Да ладно тебе, – закудахтал Уилл, поднялся с кровати и обнял жену, чтобы продолжить прерванное. – Она всего лишь выполняла свой долг.
– Свой долг?! – вскричала Элеонора, сердито оттолкнув его. – Это ее долг – делать из твоей жены безответственную дуру? Как будто я сама не знаю, что для тебя хорошо, а что плохо!
Лицо ее вдруг стало маленьким и каким-то сжавшимся; она приподнялась на цыпочки и слегка пригнулась, словно борец, готовый броситься на противника. Лайтбоди на всякий случай попятился.
– Как ее зовут? – внезапно спросила Элеонора, и в ее голосе прозвучали недобрые нотки.
– Сестра Грейвс, – пролепетал Уилл.
– Грейвс? Отлично. Большое спасибо.
Она отвернулась, решительно направилась к письменному столу и, яростно скребя пером, записала имя на листке бумаги.
Уилл приуныл. Если у него отберут сестру Грейвс, он останется без единственного утешения, наедине с бесконечной чередой дней, до самых краев заполненных океанами молока, мистическими предписаниями доктора Келлога и доктора Линнимана, да еще тяжелыми ручищами сестры Блотал.
– Вообще-то она хорошая, – пробормотал Уилл. – Нет, правда, такая внимательная…
Но Элеонора не слушала. Она отправилась в ванную, и Уилл увидел, как его жена наливает в огромный графин воду из крана, а в графине этом плавает какая-то дрянь, подозрительно похожая на треклятую хидзикию. Потом Элеонора наклонилась над раковиной, ночная рубашка натянулась на бедрах, и Уилл снова увидел белоснежные щиколотки. Не в силах сдержаться, он пересек комнату и обнял жену сзади.
– Эл, – прошептал он хриплым от страсти шепотом. – Давай вернемся в кровать.
– Нет, Уилл, – вздохнула она. – Я слишком расстроена. Я теперь и сама не понимаю, что на меня нашло. Мы чуть было не совершили чудовищную ошибку. Ты же знаешь, что говорил доктор Келлог.
Лайтбоди увидел в зеркале ее глаза, однако их выражение уже никак нельзя было назвать манящим.
– Возвращайся к своей няньке. И поскорей выздоравливай. Спокойной ночи.
Он хорошо ее понял, однако не мог остановиться – слишком уж разгорячилась кровь. Взяв Элеонору за руку, он нежно, но решительно повел ее назад, к кровати. Выключил лампу на ночном столике, и они опустились на твердый как камень физиологический матрас. Тьма окутала их плотным одеялом. Вскоре сквозь темноту проступили две полоски света – одна у края штор, другая – на полу, под дверью. Уилл повернулся, чтобы поцеловать жену, втянул воздух и набрал полный рот волос.
– Нет, – твердо сказала она. – Я вся на нервах.
– Ну, пожалуйста! – жалобно, совсем по-детски проныл он в темноте. – Мне уже лучше, правда. И ты мне очень нужна. – В отчаянии, хватаясь за соломинку, он выпалил: – А как насчет супружеских обязательств? И потом, ты ведь хотела дочку?
Ему и самому уже стало ясно, что ничего не выйдет. Элеонору было не переубедить, не переспорить. В отцовском доме ее слишком избаловали, да и выйдя замуж, она всегда и во всем поступала по собственному усмотрению. Если же иногда и уступала мужу, то лишь потому, что находила в этом какую-нибудь выгоду или же шла на уступки в обмен на еще большие уступки с его стороны. О, Элеонора была настоящий кремень, неприступная крепость. Лайтбоди уже приготовился ползти обратно в свою одинокую нору.
– Ладно, Уилл, – вздохнула она, и ее внезапная уступчивость ошеломила, парализовала его. – Но только побыстрей. Твое молоко остынет.
Зашуршала легкая ткань – это Элеонора откинулась на спину и задрала рубашку. Ее бедра смутно забелели в темноте. Уилл поспешно задергал пуговицы на ширинке, стянул кальсоны и в следующую секунду навалился на жену сверху. Что-то здесь было не так. Как ни странно… Поразительная вещь… Но ровным счетом ничего не произошло. Потрясенный, он обнаружил, что после всех похотливых вожделений, после несвоевременных эрекций, теперь, когда счастливый час настал, он совершенно к этому не готов.
Откуда-то из пустоты донесся голос Элеоноры:
– Ну давай же, Уилл. Не терзай мои нервы. Быстрей!
Тогда он попробовал сосредоточиться, представил себе и сестру Грейвс, и ту даму, сидевшую в приемной перед кабинетом, но это не помогло. Уилл Лайтбоди превратился в развалину, жалкие останки. Даже этот простейший первоосновной мужской акт оказался ему не по силам. И он похолодел от страха. Он болен, смертельно болен!
– Уилл, ты что?
Он шарахнулся от нее, зашарил по полу в поисках одежды.
– Уилл!
– По-моему… по-моему, ты права, Эл. Нельзя нам этого делать. Не положено. Мы оба слишком больны.
– Немедленно прекрати! Не говори глупостей. Иди сюда. – Элеонора села на кровати, и он увидел, как она тянет из темноты к нему руки. – Уилл! – Ее голос посуровел. – Немедленно. Иди. Ко мне.
Но он уже вскочил на ноги, кое-как влез в брюки и, словно спасаясь из горящего дома, кинулся к двери. Побежал по коридору, держа в руках туфли; незаправленная рубашка свисала поверх брюк.
– Уилл! – доносился сзади требовательный, пронзительный голос. – Уиииил!
* * *
Он сам не знал, сколько времени потерянно бродил по холлам и коридорам. Доходяга, инвалид, развалина, уже не мужчина, а евнух, кастрат, несчастный мерин. Мозг тщетно пытался постичь весь горестный смысл произошедшего. Впервые в жизни Лайтбоди засомневался, стоит ли ему жить дальше. Чего ради? Ведь у него ничего больше не осталось.
Долго он слонялся так по Санаторию, прячась за угол или за пальму, когда видел кого-нибудь из медсестер или служителей. Наверное, его уже разыскивают. Сестра Грейвс объявила тревогу. Он пропустил очередную порцию молока, не говоря уж о вечерней клизме.
Некоторое время он прятался в пальмовой куще, чувствуя себя ребенком, играющим в прятки, а когда Санаторий погрузился в глубокую пучину ночи, Лайтбоди снова заскользил вдоль стен, стараясь все время держаться в тени. Тогда-то он и вспомнил ту самую благодарную птицу – индейку, поселившуюся в столовой. Представил себе, как она там похрюкивает и шуршит перьями, видит свои пернатые сны и понятия не имеет, какая эта подлая штука – жизнь. Благодарная птица, как же. А ему-то, Уиллу, за что быть благодарным?
Время было позднее, мысли путались. Индейка предстала в воображении Уилла символом и воплощением всех лживых обещаний, фальшивых уверений и роковых приговоров, обрушенных на него Санаторием. Индейка-то благодарна, но он, Уилл Лайтбоди, благодарности не испытывает. Внезапно ему захотелось, чтобы чертова птица закорчилась в смертных муках, заверещала от боли. Схватить бы ее за бородавчатую шею, сплющить тупую луковку черепа, задушить, выщипать, оторвать крылья и лапы! Повинуясь безотчетной силе, тянувшей его за собой, Лайтбоди добрался до лестницы и, шатаясь как сомнамбула (впрочем, достаточно сообразительная для того, чтобы не воспользоваться лифтом), заковылял вверх по ступенькам. Предстояло подняться на целых шесть этажей. К тому времени, когда Уилл добрался до верха, он едва дышал, а пот струйкой сбегал по позвоночнику.
Несколько минут ушло на то, чтобы прийти в себя. Безмятежный покой царил в стенах Санатория. Уилл представил себе мирно почивающую мисс Манц; ровно дышащего и сурового даже во сне доктора; похотливо храпящего Линнимана; убаюканную легким, беззаботным сном Элеонору.
В этот поздний час на верхнем этаже никого не было – ни пациентов, ни врачей, ни медсестер, ни служителей. Уилл шагнул в коридор и, держась поближе к стене, направился к величественным вратам столовой. Он не удивился бы, если бы вдруг навстречу ему ринулась миссис Стовер, бдительная, как мифический трехглавый пес. Но даже миссис Стовер нуждалась в отдыхе. У входа в столовую никого не было. Лайтбоди долго стоял перед дверью, потом взялся за ручку, приоткрыл створку совсем чуть-чуть и проскользнул внутрь.
В сумрачном свете уличных фонарей, проникавшем через окна, зал показался ему еще больше: массивные колонны, недвижные пальмы – прямо недра какого-то мрачного мавзолея. Наверху можно было прочесть лозунг Хорейса Б. Флетчера, а в дальнем углу, над клеткой с индюшкой, висел тот самый злополучный транспарант про «благодарную птицу». Столы, оказывается, уже были накрыты для завтрака. Благодарная птица вела себя тихо, никаких звуков не издавала.
Господи, что это он удумал? Лайтбоди чувствовал себя вором, убийцей. Неужели же он пойдет на такое чудовищное злодеяние? Ни в чем не повинная птица, живая, безгрешная. Но тут он вспомнил доктора, самодовольного, непогрешимого, с его лозунгами, румяными щеками и всеми прочими атрибутами. Иронический смысл задуманного преступления рождал дополнительный соблазн… Придушить «благодарную птицу» в ее собственной клетке. Как, интересно, поступят с трупом? Обнаружат на рассвете и выкинут на помойку? Или же достопочтенный доктор по-тихому заменит ее на другую индюшку? Как он объяснит скоропостижную кончину своей питомицы?
Решительно выпятив челюсть, Уилл пересек столовую безжалостной поступью палача. Вот и клетка – прямо перед ним. Сквозь призрачно-светлые прутья проглядывает суровая тьма.
Ни звука, ни движения. Где эта чертова тварь? А что, если она раскудахтается, когда он откроет дверцу и ухватит ее за благодарное горло? Нужно быть осторожней. Не дай бог еще застукают…
Он представил себе свирепую физиономию Келлога, обвиняюще выставленную вперед козлиную бородку, злобные непрощающие глазки. Что это вы сделали с моей индюшкой, сэр?
Лайтбоди взялся пальцами за засов и подергал его. Как эта штука открывается? Ах, вот как. Он открыл дверцу, но внутри по-прежнему ничто не шевелилось.
В нос шибануло резким аммиачным запахом птичьего двора. А потом Лайтбоди разглядел и птицу – черную кучу перьев на полу. Попросту говоря, кучу мусора. Глубоко вздохнув, он протянул руки.
Ничего. Ни писка, ни удивленного клекота. Индюшка не шевелилась. Более того, она была холодной. Какой-то неживой.
Б полнейшем недоумении Уилл схватил птицу за кожистые ноги и выволок из клетки, подняв целое облако пуха и пыли. Щурясь в сумеречном свете, поднес индюшку к глазам и увидел, что голова птицы безжизненно откинута, крылья висят двумя тряпками.
И Уиллу стало страшно. Благодарная тварь покачивалась, словно висельник на конце веревки.
Сдохла. Индюшка сдохла, причем без всякой его помощи.