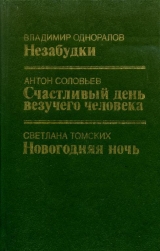
Текст книги "Новогодняя ночь"
Автор книги: Светлана Томских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
К дочери
Автовокзал в представлении Прасковьи всегда был набит разного рода личностями, теперь же, к ее большому удивлению, она нашла тут полупустой зал ожидания, продавщицу с мороженым, скучающую за стойкой, длинный ряд свободных окошечек с аккуратными одинаковыми надписями: «Участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди». Прасковья пожала плечами и вышла из прохладного зала на улицу, где шумели автобусы. Впрочем, откуда взяться народу, если день будний? – это раньше Прасковья ездила с Федором в город по воскресеньям. Да разве сорвалась бы она с места посреди недели, если бы не письмо Людки – странное это было письмо: с незнакомым обратным адресом (в другое общежитие, что ли, переехала?). Дочь писала, что болеет, что нужны деньги и что вообще у ней все не ладится. Прасковья даже не дождалась выходных – сердце болело – побежала договорилась с председателем колхоза, что уедет на два дня, собрала дочке трав от простуды – ив город.
В стеклянную дверь автовокзала Прасковья посмотрела напоследок, чтобы поправить платок, потом подхватила сумку и направилась к трамвайной остановке. Прасковья не знала, куда нужно ехать, – адрес-то новый – заскочила в первый же попавшийся трамвай и сразу же вгляделась сквозь прозрачную перегородку в водителя: а вдруг Людка? За рулем сидела молодая девушка. Прасковья разочарованно отвернулась и спросила у какой-то женщины:
– Дамочка, не подскажете, где мне сойти, чтоб на проспект попасть?
– На какой проспект?
– На Свердловский, вроде.
– Так вы не на тот трамвай сели, – начала объяснять женщина.
– Абонементики приготовили для проверки, – раздался громкий голос контролера.
Прасковья всполошилась.
– Где же касса-то? Абонементик продайте, – попросила она у той же женщины.
Та развела руками:
– Нет у меня. Проездной.
Контролер была уже около них:
– Да я только что зашла, – сказала Прасковья, – не на тот трамвай села, щас найду абонемент.
Контролер безразлично взглянула на нее и произнесла бесцветным голосом:
– Штраф платите, три рубля.
– Какие-такие три рубля? – удивилась Прасковья, – не на тот трамвай я села.
– Нас не касается, – ответила контролер, проводя языком за щекой, – плати штраф, не то в милицию поведу.
– Деревенская я, – обратилась Прасковья за поддержкой к пассажирам, – не на тот трамвай села, а теперь – три рубля ей выложи.
Пассажиры заоборачивались:
– Да отпустите вы ее, она только что зашла.
– Нас не касается, – повторила контролер.
Прасковье все же пришлось вытащить кошелек, вместо рваной трешки она аккуратно положила туда квитанцию. Обидно было, что произошло с ней такое злоключение – но что поделаешь? Многолюдный, чужой город симпатий у ней и раньше не вызывал. «Да и без Федора зачем сюда сунулась», – ругала она себя.
Наконец нужный дом был найден.
Дверь открыл лохматый, заспанный парень, он не удивился Прасковье, которая еще раз посмотрела на конверт.
– Люда? – переспросил он. – Скоро придет.
Парень провел ее на кухню, где на столе стояла трехлитровая банка с пивом. Прасковья постеснялась что-либо спрашивать, молча сидела на табуретке, смотрела в окно. Долго сидеть на одном месте было непривычно – жизнь в деревне приучила к постоянным хлопотам, – поэтому час вынужденного ожидания показался ей вечностью.
Многие ребята из их колхоза стремились в город. Прасковья вроде и привыкла к этим разговорам, но они велись так, между прочим. И Людка, кажется, ничем не отличалась от своих ровесников, но в десятом классе вдруг резко переменилась: все ее мысли были об одном – в город. В деревне она себя чувствовала так, будто отбывала тягостную повинность. Прасковья заметила, как на производственной практике дочь обращается с коровами: брезгливо, резко выдергивая неполные ведра с молоком. Едва получив аттестат, тут же засобиралась в город. Прасковья с Федором проводили ее даже с некоторым облегчением: хоть и родная кровинка, однако сил уже не было смотреть на ее ленивую развинченную походку, на скучающее лицо, на молчаливое осуждение деревенской жизни. Их добротное хозяйство, которым они с Федором так гордились (а ты пойди, поработай, как мы), у Людки вызывало недобрую усмешку.
– Молочко-то пьешь и за стол сесть не брезгуешь, – выговаривала ей Прасковья.
– Горбатьтесь, горбатьтесь! – усмехалась дочь так, что Прасковье хотелось полоснуть ее по ехидному лицу тряпкой, которой вытирала со стола.
Она извелась вся, глядя на Людку. «И за что она нас так?» – сетовала горько, отводя душу с соседками. То, чем гордилась Прасковья, дочь низводила в порок. Младшие дети Прасковьи – Ленка и Санька – молча следили за этими баталиями, в споры не ввязывались, и за мать, вроде, обижались, и с сеструхой особенно не спорили. Они не принимали ничьей стороны. Хотя оба и собирались остаться в колхозе, жизнь им казалась полной надежд и неожиданностей – Санька учился в восьмом классе, Ленка – в шестом, – а мало ли как там обернется. К тому же уж очень им хотелось похвалиться по своей несмышлености: а у нас в городе сеструха живет. Да и надоело ютиться у случайных знакомых, когда выбирались в город. Проводили ее без слез, с каким-то даже любопытством: «Ну давай, сеструха, а мы поглядим».
От кого загорелась Людка этим желанием уехать? Считай, все ее подруги оставались дома, это уж потом многие разъехались. Прасковья думала, хоть Артемка ее удержит, да куда там! Когда она пошла в десятый класс, его взяли в армию – вот уж когда Людка наревелась. Его мать и то так не плакала. «Ты что, – говорила она Людке, – в армию парня провожаешь или по покойнику причитаешь?» Людка согласно кивала головой, утирала слезы с красного распухшего лица, на минуту умолкала, а потом – опять в рев. Артемка словно и не расстраивался, его почему-то еще не обрили, как других парней, и он сидел молча на одном месте, моргал большими воловьими глазами, словно все эти хлопоты его нисколько не касаются.
Тогда Прасковье казалось, что и не любил он особенно Людку, да и никого из девчонок не баловал своим вниманием. «Просто, может, пришло время невесту заводить», – думала Прасковья. Встречаться с Людкой он стал месяца за два до проводов, но тут уж показал себя дисциплинированным кавалером: приходил каждый день и гулял с ней до позднего вечера. Людка тогда и нарядами-то особенно не интересовалась, а тут как с ума сошла: это давай, то давай. Привезут в магазин импортные кофточки – первая бежит. Прасковья, что могла, то покупала ей, не корила, как другие матери, думала: девку одеть надо, невеста почти, ясное дело, хочет перед своим нарядной покрасоваться, сегодня он бегает к ней, завтра – кто его знает? – каждому невесту не хуже других иметь хочется, но даже если он и не обращал на это внимания – все равно, как перед парнем-то простушкой показаться?
Но Людка, видимо, во вкус вошла: Артемка уж первый год дослуживал, а она все по магазинам. Бабы на нее коситься стали: куда девку так одевают? Всю моду по ней измеряли, когда кому на свадьбу ли, на праздник какой платье надо сшить было, сразу к ней, а она разложит ворох журналов – и ну – говорит, только запоминай. Вот когда с ее лица скука сходила! И в город-то – не «дерёвней» уехала.
А в Артемку она была влюблена с пятого класса. Был он вроде и мальчик неприметный, тихий – девчонки в этом возрасте побойчей кого любят. У Людки до сих пор в столе лежит его старая фотография, добытая с боем у кого-то из одноклассниц. Фотография была коллективная, и она вырезала только Артемку. Маленький мальчонка, ничего особенного… И вот сейчас – парень хоть куда. А Людку вроде не забыл, частенько про нее спрашивает. Уж так жалко Прасковье, что такого парня Людка упустила. Спрашивала она у матери его, может, ей про них больше известно? – и та сказала, что Артемка ездил за Людой в город, но та обратно – ни в какую, его к себе звала, а он в город не едет. Три года уж прошло, как из армии вернулся…
Рано радовалась Прасковья, что у дочери «все, как у людей» – и в школе хорошо училась, и по хозяйству быстрая была, и парня в армию проводила – и вот, все насмарку! Рано, выходит, радовалась. Сидит теперь в этой незнакомой кухне с давно немытыми стеклами, с раскачивающимся столом, на котором пенится теплая вонючая жидкость.
Хлопнула дверь. Прасковья завертела головой: и то, Людка, да не узнать: в блестящем (ну что алюминиевая фольга) плаще, в легких туфельках на высоких каблуках, а на лицо поглядеть – вся изможденная. «Точно, болеет», – пожалела Прасковья.
Людка замерла на пороге, увидев мать, смутилась и зашла, не раздеваясь, на кухню. В руках она вертела зимнюю шапку, на которой болталась этикетка.
– Уж и завернуть-то не могла, – вместо приветствия Прасковья кивнула на шапку.
– Мама, зачем ты здесь? – спросила Людка, то ли смущаясь, то ли сердясь.
– Что-то рановато ты к зиме готовишься, – сказала Прасковья, опять кивая на шапку.
Людка промолчала, но машинально тоже взглянула на шапку.
– Кролик, правда, хороший, гладенький, – продолжала оценивать Прасковья.
– Это не кролик, мама, а норка, – устало поправила Людка.
Прасковья поймала медленно раскачивающуюся этикетку, нашла цену и сумела только ойкнуть.
– Мама, зачем ты приехала? – повторила Людка.
– Попроведать, а чего ж, ты вон какое письмо написала: и что болеешь, и плохо тебе. – Прасковья обиженно подобрала губы, потом не удержалась и кивнула в сторону парня:
– Он тебе муж или как?
Людка проследила за ее жестом и ответила с неудовольствием:
– Мама, ну зачем ты об этом, ты ничего не понимаешь, здесь все сложно.
– Чтоб о сложностях-то думать, надо расписаться вначале.
– А-а, – махнула, рукой она, – что ты понимаешь в этом?
– Смотри, нам с отцом в подоле не принеси.
Людкино лицо сразу сморщилось то ли в недовольной гримасе, то ли в усмешке:
– Не бойся, не принесу.
Прасковья настороженно вгляделась в нее:
– Ой, девка, смотри, не сотвори с собой что. Или уже? – она в ужасе прикрыла ладошкой рот.
– Сама говоришь: в подоле не принеси, – раздраженно ответила Людка.
Шапку она все еще держала в руках.
– Ехала бы ты домой, Людка.
– А что я там не видела, – огрызнулась она, – как ты, на ферму в пять часов маршировать? Под коровами лазать? Я потому из трампарка ушла, чтоб рано не вставать, а там куда лучше, чем с коровами.
– Ушла? – удивилась Прасковья. – А в люди-то думаешь выходить али нет?
– А я что – корова, что ли, нелюдь?
– Она, корова, поди, поумней тебя будет. Шла бы за Артемку, простит, может…
– А что мне в ноги кидаться, что я виновата перед ним?
– А то нет, бежала от него. Что в армию-то писала?
– Подумаешь, писала. Ему же лучше, все веселей было.
– Веселей веселого. Шла бы ты, Людка, за него, а этот, – она снова кивнула на парня, – бросит тебя. Нужна ты ему, деревенская…
Людка опустила голову, сказала тихо, но твердо:
– Все, мама, не деревенская я теперь.
В дверь постучали. На пороге стоял тот лохматый, а из-за него выглядывал еще какой-то парень и девчонка с синими разводами век.
– Щеглиха, ты скоро? Мы будем пить пиво в конце концов?
– Подождите, – Людка с треском закрыла дверь, села.
– Да ты теперь не Люда Щеглова, а Щеглиха, – покачала головой Прасковья. – А работаешь-то где теперь?
– Нигде пока, – Люка спрятала взгляд. – Мама, ты денег привезла?
Прасковья подняла сумку.
– На вот, травы тебе привезла, я-то думала, правда, ты простыла.
Людка молча отодвинула травы.
Прасковья достала непривычный для нее кошелек, неловко открыла его, вытащила квитанцию о штрафе, вздохнула, потом вытащила несколько десяток:
– На, что ли, больше нет.
Людка недовольно вздохнула, но десятки взяла.
– Пойдем, мама, я тебя провожу.
– Ты что меня выгоняешь, что ли? – обиделась она.
– На автобус опоздаешь.
Прасковья хотела сказать, что никуда она не опоздает – отпросилась у председателя на два дня, но почему-то промолчала, встала:
– Где тут у вас магазины? У Саньки день рождения, подарок купить надо.
– Какие магазины? – сморщилась Людка. – Что ты там купишь? Эй вы, пошла я, – крикнула она своим приятелям.
– Щеглиха, мы тебя ждать не будем. Пиво-то выпьем.
– Не захлебнитесь.
…Они долго шли по каким-то дворам, потом Людка юркнула в большой подъезд, у которого толпились подвыпившие грузчики, выбежала со свертком в руках:
– На, подари Саньке.
– Что это? – заинтересовалась Прасковья, – башмаки какие-то, да цветные.
– Кроссовки это, мама, у нас тут за ними убийство. Саньке понравятся.
Прасковья засунула кроссовки в сумку, и они пошли к трамваю.
Людка сразу же направилась к водителю, стояла в открытой двери, смеялась. Невыключенный микрофон разносил по салону смех и обрывки фраз.
Прасковья постучала по Людкиной спине:
– Купи абонементов, Люда. Как бы не штрафанули нас.
Она не оборачивалась. Прасковья постучала посильнее:
– Людка, оштрафуют.
– Не бойся!
Она смеялась, весело болтала с водителем, а оглянулась – в глазах опять ни искринки, как будто пеленой горечи затянуты – не то посветлели, не то потемнели от этого, уголки губ безвольно провисли – изможденная, усталая, разочарованная. «А со спины глянуть, – с неудовольствием подумала Прасковья, – форму держит. И задницей-то вильнуть может и голову откидывать научилась». Да все это не та привычная походка с тяжеловатостью натруженной ступни – в этой какая-то напряженность и неестественность.
Ждать автобус они уселись на скамейку у автовокзала: втиснулись между сидящими там людьми. Людка безразлично пошуровала у себя в кармане «космического плаща» и вытащила горсть грязных запыленных семечек.
– А то давай, Людка, со мной, – предложила Прасковья, – все отдохнешь, пока не работаешь.
Говорила жизнерадостным тоном, сама остро чувствуя его ненужность, а думала с непривычной хитрецой: «А вдруг у нас совсем останется». Людка вспыхнула вся, всколыхнулась.
– Давай, Людка, – повторила Прасковья, но уже на более высокой ноте.
Людкино лицо сразу как-то осунулось.
– Нет, – она помотала головой, – не могу я, – потом еще раз помотала. – Не могу.
Она сникла, болезненно обмякли, опустились плечи.
Прасковья вздохнула: жалко девчонку. И тут же подумала: а вот за что жалко? Она, Прасковья, сызмальства знала, что такое горе. Когда корова – единственная их кормилица – пала в войну от какой-то болезни – и лечить-то некому было: на их ветеринара уже и похоронку принесли – вот это горе было. Когда после войны случилась засуха, такая, что поле походило на сжавшийся грязный комок земли, и есть было нечего – горе. Когда отец, навсегда потерявший здоровье в окопах, из последних сил ведущий трактор, умер прямо за рулем…
А Людка-то? Сама все наперекосяк пустила, сама и виновата. Нет, чтобы домой вернуться, – земля простит, родной дом все грехи отпустит – нет, она продолжает маяться в чужом городе. Да разве не блажь это, не баловство одно?
Подошел автобус. Прасковья выглянула в окно: Людка не уходила, смотрела не отрываясь в пыльные стекла, как будто ждала еще чего-то. Потом помахала рукой, не дождавшись отправки, ушла, серебрясь в своем длинном плаще уже в конце улицы.
«Чего приехала-то? – ругала себя Прасковья. – Людку не увезла, и подарок Саньке порядочный не купила».
– Парнишка, – она легонько толкнула локтем соседа, – глянь-ка на башмаки.
Парень, взглянув на вытащенные кроссовки, заинтересовался:
– Где, мать, купила?
– Ну как, ничё, что ли? – допытывалась Прасковья.
– Отличные.
– Ох ты, – нахмурилась она, – а размер не тот, надо 40, а она 39 сунула.
– Продай, мать, – оживился парень, – мне как раз.
– Не, – покачала головой Прасковья и снова затолкала их в сумку. Потом с теплотой, неожиданно разошедшейся по телу, подумала о ферме – как там без нее «буренки», потом подумала о доме – как сейчас обрадуются ребятишки, хоть и ждут ее завтра, и Федор, наверняка, уже топчется на остановке: а вдруг приедет?
Прасковья еще раз выглянула в окно, где по пыльной дороге громыхали тяжеловесные трамваи, замирая у вспыхивающих светофоров. Надвигался вечер, плотно сливающийся с пылью городских перекрестков.
Кончался день…
Пластинки
Проигрыватель Вадиму подарили на свадьбу.
Очнувшись от сна на следующий день после свадьбы, он нашел свою молодую супругу Зину прочно восседающей за письменным столом в ночной рубашке. Она перебирала конверты с деньгами, которые накануне были подарены гостями.
Зина мельком взглянула на проснувшегося Вадима, не прерывая своего увлекательного занятия:
– Люська всего десятку положила. С-стерва… Садись, помогай мне считать.
Вадим бросил угрюмый взгляд на нее, на торопливо разорванные конверты с неровными краями и подошел к груде подарков, лежащих на подоконнике. Среди пачек с постельным бельем, среди пакетов в хрустящей оберточной бумаге он и увидел проигрыватель. Вадим лениво вытащил его, потрогал пальцем гладкие полированные бока:
– Ничё, стерео.
Открыл крышку, пощелкал выключателем. Зина нехотя оторвалась от конвертов и, чувствуя себя уже полновластной хозяйкой в доме, сказала с раздражением:
– Я что тебе говорю! Помогать мне. А ты чем занимаешься?!
Она, кажется, вовсе не собиралась следовать соображениям дяди Вадима, Егора Тимофеевича, который раньше регулярно наставлял племянника, вслед за причитаниями матери Вадима, что не может женить сына:
– На Зинке женись, не ошибешься. Она – девка хозяйственная, а тебе по гроб жизни благодарна будет, что в жены взял, как-никак двадцать девять ей стукнуло, поди, и надежду-то потеряла замуж выйти.
Вадим сидел рядом с Егором Тимофеевичем, завороженно смотрел, как постепенно багровеет его лицо от выпитой водки, как тяжелеет и все ниже опускается голова, как становится поучительней голос. На его слова он, неопределенно хмыкал, вертел головой, но на Зину начал поглядывать – жениться хотелось, у всех его друзей давно уже росли дети, Вадим играл с ними в «ладушки», показывал «козу», добросовестно растопырив два пальца, и смотрел задумчиво, как они тянут своих пап за пиджаки.
Недалеко от поселка, в котором жил Вадим, находился дом отдыха, там и работала Зина официанткой. Он заставал ее обычно быстро везущей коляску с позвякивающими друг о друга блюдцами, она переругивалась с отдыхающими, которым было «все не так». Облокотившись на подоконник в столовой, около желтеющего фикуса, Вадим бездумно глядел на нее, маленькую, верткую, пока она не замечала его и не усаживала за стол.
– Да не хочу я есть, Зин, – каждый раз отказывался он, но та деловито отвечала:
– Хочешь, не хочешь, а надо. Не деньги, поди, платишь, казенное. Знай, ешь.
Он послушно садился и нехотя жевал то, что она ставила перед ним, а Зина, подперев руками подбородок, предупредительно смотрела на него влажными небольшими глазками.
Вадим не знал, нравится она ему или нет, он принадлежал к тем людям, которые бесстрастно смотрят на мир, пока им не укажут, как нужно относиться к тому или иному явлению. Если бы Егору Тимофеевичу не вздумалось обратить его внимание на Зину, то он так бы всегда и проходил мимо нее, едва выговорив «Здравствуй». Вадиму не приходило в голову подумать о том, красивая она или нет, он принимал ее такой, какая она есть.
По праздникам, когда обычно пустующая местная парикмахерская плотно набивалась народом, Зина терпеливо высиживала очередь, правда, больше по традиции, чем из желания угодить мужу. Сидя в кресле, она каждый раз внимательно выслушивала парикмахера, неизменно одетого в полосатую рубашку и широкие брюки на подтяжках:
– Нет у вас, деревенского жителя, стремления к красоте. Только праздник вас и может растормошить. Да разве можно так волос запускать? Ай-яй-яй! Какую вам прическу? Не знаете. А кто знает? Вы правы, нам виднее. Да вот только не обходили бы вы наш домик стороной, вон как волосы-то лезут. А муж-то твой как сейчас обрадуется, жена, скажет, у меня какая красивая!
Но в этом парикмахер как раз и ошибался. То состояние, в котором находился супруг Зины, вряд ли можно было назвать радостью, он каждый раз озадаченно глядел на новое сооружение на голове Зины, и ей так никогда к не пришлось услышать ожидаемой похвалы.
Зину никак нельзя было назвать некрасивой: черты ее лица, мелкие, правильные, отличались, пожалуй, заурядностью.
До свадьбы Вадим обычно виделся с ней в столовой дома отдыха, к себе домой не приглашал, а когда Зина звала его в гости, он неизменно соглашался.
Иногда вечерами они ходили в кино.
Когда Вадим сделал вывод, что привык к Зине, он решился и сделал ей предложение, на которое она ответила с готовностью:
– А чё, давай.
Дни проходили, а с благодарностью, обещанной Егором Тимофеевичем, Зина особенно не спешила, покрикивала она на мужа явно с большим удовольствием. Когда растерянный Вадим намекнул об этом Егору Тимофеевичу, тот с такой же обстоятельностью, что и раньше, объяснил:
– Видать, уже испортился у нее характер, не исправить.
Но вскоре Вадим втянулся в свою новую жизнь, которая, кажется, мало чем отличалась от прежней. Он даже не мог представить, что вместо Зины у него могла бы быть другая жена, ему казалось, что живут они долго, бесконечно долго, хотя прошло всего два года. И от этого ощущения в нем все больше притуплялись все желания и по ночам он все чаще поворачивался спиной к Зине, сердито покашливающей сзади.
Детей у них не было. После свадьбы Вадим жил в нетерпеливом ожидании, но месяц проходил за месяцем, а все оставалось по-прежнему. Знакомые ребята посмеивались: «Что, Вадимка, плохо стараешься?» Зина тоже отпускала отнюдь не лестные для него замечания. Вадим огорчался вначале, затем, приняв это как неизбежность, успокоился. Шуток становилось все меньше: друзьям надоело повторяться. Зина, сходив к врачу, стала помалкивать об этом.
И тогда Вадим вспомнил о проигрывателе. Вернувшись из гаража, он работал механиком, Вадим тщательно мыл руки, бережно открывал проигрыватель и ставил по очереди те одиннадцать пластинок, которые купил в городе после свадьбы.
Зина по вечерам его никуда не отпускала. Вначале ее радовало, что мужа так легко удалось заставить сидеть дома.
Пластинки крутились, Вадим слушал, Зина сердилась. Сощурив глаза, она наблюдала, как аккуратно протирает он пластинки, и все ее маленькое существо наполнялось гневом. Мало того, когда она разрешила Вадиму уходить из дому по вечерам, он не выразил никакого энтузиазма. Пластинки вытеснили все его старые немудреные развлечения. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в один прекрасный момент проигрыватель не сломался. В упорядоченной жизни Вадима это было целое событие: он нервничал, ссорился с Зиной, что было раньше крайне редко, громко говорил что-то, включал и выключал радио – но музыка, которая там звучала, казалась ему гораздо худшей, и вообще, даже не музыкой, а набором каких-то необычных, а значит, и неприятных звуков. Если звучали те песни, которые были у него на пластинках, они еще больше подавляли его, так как передавались в необычном сочетании с другими песнями (порядок же прослушивания пластинок у него был давно установлен). Вадим долго копался в проигрывателе, но так и не смог его исправить, возил его даже в городскую мастерскую, где сказали, что нет нужных деталей… И вот однажды к Вадиму подошел Паша, массовик-затейник из дома отдыха:
– Вадик, хорошо, что я тебя встретил. Я ключ потерял от комнаты с инвентарем. Завтра мне новый сделают. А сегодня, понимаешь, вечер отдыха, а пластинки в той комнате остались. Ты не мог бы мне свои дать, а?
Он вначале испугался этой просьбы:
– Что ты, Паша, у вас иголка-то, наверно, старая, плохая, еще испортит мои вещи, да и разбить могут…
Вадим задумался, вздохнул глубоко и решился.
– Ладно, я сам приду и принесу пластинки.
Пришел Вадим задолго до начала вечера, зал еще был закрыт, и он, прислонившись носом к стеклянной двери, смотрел вовнутрь хозяйским глазом, словно размышлял, как будут здесь звучать его любимые песни. Подошел Паша, спросил:
– Ну как, принес?
Вадима немного задел беззаботный тон Паши, но тем не менее он степенно кивнул в ответ, давая понять Паше, что тот должен переменить интонацию. На Пашу, однако, это не произвело ровно никакого впечатления, он все так же жизнерадостно улыбался, затем открыл зал. Вадим сразу же сел в угол около проигрывателя, достал из сумки аккуратно завернутые пластинки и положил на колени. Зал помаленьку наполнялся отдыхающими, но Паша не спешил с танцами, отчаянно жестикулируя, он начал игры. Вадим нетерпеливо ерзал на стуле, перекладывал пластинки то туда, то сюда, а Паша раздавал призы и объявлял все новые и новые игры. Вадим глядел на веселых отдыхающих и удивлялся, почему им так весело: подумаешь, какие-то дурацкие игры…
Но наконец Паша объявил танцы. Вадим сразу выпрямился и, словно совершая священный обряд, развернул пластинки. Давно уже Вадим не был в клубе: друзья вскоре после армии переженились, а одному ходить не хотелось. Впрочем, казалось, что эти десять лет отдыхающие так и не уезжали отсюда, те же самые лица со скукой и весельем одновременно, какие бывают обычно в вынужденной праздности, тот же разнобой в одежде: или небрежность, или тщательность, что не часто встретишь в городе в одном определенном месте, та же уютность ленивых замедленных движений.
Около Вадима остановилась пара: она – в малиновом бархатном костюме, он – в спортивных штанах, вытянутых на коленях, и застиранной футболке.
– Что за пластинки тут, им в субботу сто лет, – сказал парень, лениво растягивая слова.
Вадим насторожился, ему и в голову не могло прийти, что кому-то его пластинки могут не понравиться. Он напряженно вглядывался в спину говорящего, когда же внимательно изучил высокую широкоплечую фигуру, то перекинул взгляд на его даму. У ней были правильные изящные черты лица, длинные темно-каштановые волосы распущены, и это скрадывало определенность возраста.
Парень стоял спиной, и поэтому Вадим не мог видеть его лица, но когда он повернулся, то совсем неожиданно оказался синеглазым и юным – лет на шесть-семь младше своей партнерши. Выражение его лица – удивительная, смесь самоуверенности и какой-то детской незащищенности – на какой-то миг так поразило Вадима, что он даже забыл о причине, по которой обратил внимание на эту пару. Но потом вновь на него нахлынула обида, и он, нахохлившись на своем стульчике около проигрывателя, враждебно и хмуро смотрел на них.
И все-таки он наслаждался! Пожалуй, только это слово, в которое остальные люди вкладывают столько смысловых оттенков, могло бы отразить состояние Вадима. Если и говорить о наслаждении, можно было бы полностью поручиться, что Вадим, никогда не знавший этого чувства, испытывал его, когда слушал свои пластинки. И особенно сейчас, после долгого перерыва, это чувство было острым и отчетливым.
Обычно придающий значение самым ничтожным репликам в свой адрес, долго помнивший все обиды, вплоть до мелочей, на этот раз Вадим неожиданно подобрел и уже больше по привычке, чем из злобы, следил за долговязым мальчиком.
На следующий день Паша снова подошел к Вадиму:
– Вадька, друг, выручай, слесарь не пришел, принеси и сегодня пластинки.
Вадим воспринял Пашину просьбу так, будто иначе и быть не могло:
– Ну ладно.
Он, конечно, понимал, что не острая необходимость заставляет Пашу обращаться к нему, замок был, в конце концов, не от сейфа. Паша при всем своем кажущемся избытке энергии не любил лишних хлопот.
Но Вадим теперь уже и сам хотел пойти на танцы – слушать свои пластинки, пусть не дома в одиночестве, с этим приходилось мириться. И, кроме того, у него появилось какое-то непонятное болезненное любопытство ко вчерашней паре.
Вадим сидел около своих пластинок, когда они вошли в зал. Но тут же потерял их из виду, так как рядом с ним присел сухонький старикашка, настолько сухонький, что было удивительно, как он забрел на танцы, присел он с явным желанием завести разговор.
– Танцует молодежь, – сказал старичок, покашливая в маленький кулачок.
Вадим пробормотал в ответ что-то неопределенное.
– А вы вот, как я погляжу меломан, – старичок с симпатией поглядел на него.
Меломан? Вадим вскинул на него глаза. Господи, да что же это такое? Наверное, что-нибудь оскорбительное. Даже наверняка. Просто невозможно на минутку присесть, чтобы тебя не оскорбили.
– А вам-то что? – вспылил Вадим.
Старичок, не ожидавший такой бурной реакции, пожал плечами и мелко засеменил в другой угол.
– А сейчас белый танец, по заявкам, – объявил в это время Паша, как всегда, широко улыбаясь.
Вадим, несколько раздраженный, машинально нашел взглядом девушку в бархатном костюме. Парень стоял около нее, небрежно покачиваясь на каблуках, – высокий, самоуверенный. Она улыбалась ему. Вадим взял пластинку, зачем-то помедлил, вздохнул и поставил на диск.
– Шр-р, – закрутилась пластинка. Зазвучала музыка.
Неожиданно девушка обернулась, ее широко раскрытые глаза смотрели прямо на Вадима. Он вздрогнул от неожиданности и даже сжался от ее долгого взгляда, стараясь сделаться как можно незаметней. Она стала пробираться среди стоящих людей к нему.
– Можно вас пригласить?
Вадиму хотелось, чтобы ее вернул тот длинный мальчик, увел. Но мальчик не приходил, она улыбалась и ждала. Если минуту назад Вадим называл ее улыбку кокетливой, то теперь готов был назвать милой и обаятельной. Вадим медленно и неловко встал, думая, как стремительно приближается ее лицо откуда-то сверху.
Он уже давно не танцевал и поэтому мучительно долго вспоминал, куда положить руки. Из памяти всплыли эпизоды прошлых танцев, и Вадим, скорее машинально, чем обдуманно, начал двигаться. Он был почти зол на эту девушку за то, что она вывела его из оцепенения, что надо лихорадочно соображать, о чем говорить. Он видел, с какой легкостью разговаривают рядом танцующие, и ему было досадно, что каждое слово, каждый жест сейчас даются ему с трудом. Но к досаде примешивалось еще какое-то чувство: то ли непонятная радость, то ли гордость, что она его пригласила.
– Меня зовут Анна, – сказала она.
Вадим открыл рот, чтобы ответить, но Анна его опередила:
– Знаю, знаю, тебя – Вадик.
– Да, – промямлил он, смущаясь от неожиданных «ты» и «Вадик».
Он напрягся, думая, о чем спросить Анну.
– А вы давно здесь отдыхаете? – на «ты» он не решился.
– Достаточно, чтобы все опротивело, скукота. Вадик, а почему ты пластинки крутишь? Это что твоя общественная работа?
– Нет, – протянул он, – Пашка просит, чтобы я…
Вадим не договорил, ему вдруг в первый раз стало стыдно признаться, что пластинки его. Анна как будто даже не заметила, что он запнулся.
– Слушай, Вадик, а поновей пластинок нет?
Вадим, как завороженный, смотрел в ее глаза, немигающие, холодно-серые, и молчал. Но ее отнюдь не обескуражило это молчание, она продолжала так же непринужденно:
– Съездил бы ты в город за пластинками новыми. Хотя бы «Европу» в киоске грамзаписи купил, ну или еще что-нибудь.





