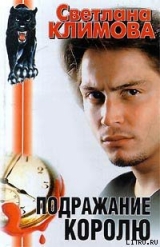
Текст книги "Подражание королю"
Автор книги: Светлана Климова
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Вряд ли на ход событий повлияло происшествие, случившееся двумя днями раньше прихода Темного, когда в подвале особняка следователя Трикоза во время сварочных работ взорвался пятилитровый баллон с ацетиленом. Слава Богу, работяг не оказалось на месте и никто не пострадал, кроме самого Бурцева, которого взрыв застал на лестнице, ведущей в гараж. Один из маршей обрушился, не причинив подрядчику особого вреда, но на то, чтобы освободить его из путаницы арматуры и бетонного крошева, ушел весь остаток дня. Он отделался ушибами. До приезда хозяина удалось устранить практически все следы, кроме единственного – в подвал начала просачиваться неизвестно откуда взявшаяся рыжая, дурно пахнущая вода.
Бурцев отыскал в бардачке плоский флакон с туалетной водой, который теперь всегда возил с собой, отвинтил колпачок и несколько раз нажал распылитель, направив его на носовой платок.
Когда ткань достаточно увлажнилась, он протер шею и лицо, устранив следы крови, а затем еще раз обработал саму бровь и кожу вокруг. В машине крепко запахло тропическими цветами и лесной сыростью. Замечательный запах, который никогда не приедался.
Теперь он мог немного расслабиться. Искать ответы на бесконечные вопросы, возникавшие один за другим, он перестал уже давно. На вопросы вроде того, что, если Темный является порождением его собственного больного сознания, зачем ему понадобилась голова архитектора Бурцева. Наверняка смерть одного из них равнозначна исчезновению другого. Но их отношения и не предполагали никаких ответов. Он знал, что обязан заплатить, и платил, шаг за шагом продвигаясь к заветной цифре. При чем же тут легкая контузия от взорвавшегося баллона, если все началось тридцать восемь лет назад?
Он медленно, через силу улыбнулся, не отводя глаз от освещенного подъезда, но улыбка вышла тяжелой и пустой, потому что за ней прятался многонедельный, невыразимый, парализующий страх…
* * *
В ту пору у него были пепельные кудри до плеч, и лет до четырех мать наряжала его в девчачьи платьица. Когда ему исполнилось восемь и он расстался с кудрями, они с матерью переехали в этот городок, потому что отец ушел, не оставив даже записки.
Городок был почти сплошь деревянный, и только несколько зданий были каменными, построенными в конце прошлого столетия. Одно из них, трехэтажный корпус педагогического техникума, располагалось по соседству, забор в забор с их двором, тесным и загаженным курами и поросятами.
Каждое утро через пролом в заборе мать отводила его в парк, точнее, остатки парка, окружавшие техникум, а сама уходила на службу. В два часа она возвращалась, чтобы накормить его. Обычно в парке никого не было – летом техникум не работал, а ворота в чугунной ограде, отделявшей парк от улицы, запирались на замок. Местный сторож знал его и никогда не прогонял.
Тот день он помнил с самого утра, потому что за завтраком они с матерью поссорились. Потом она убежала, а он, подавленный случившимся, отправился в парк и забрался в бетонную растрескавшуюся чашу высохшего фонтана, как делал всегда, когда чувствовал себя оскорбленным.
Около часа он развлекал себя тем, что сплющенной ружейной гильзой отковыривал от стенок фонтана куски крошащегося в пыль цемента, когда до его ушей донесся звук, который он не мог оставить без внимания.
Где-то истошно визжала пожарная сирена, ревели моторы, и все это постепенно приближалось со стороны улицы, ведущей вниз, к реке и рынку.
На бегу отряхивая короткие, перешитые из материнской юбки штаны, он выбрался из своего убежища и помчался к ограде, надеясь, что ничего не прозевал.
Со стороны моста, сворачивая прямо перед ним, неслась кавалькада алых, как пламя, пожарных машин. Он невольно оглянулся – где горит? – но вокруг ничего не было, кроме зелени.
Он видел багровые лица пожарных, их ослепительно сияющие каски, с наслаждением вбирал в себя запах горелой резины и бензинового выхлопа. Сирены выли, словно наступал конец света.
В конце показалась машина с раздвижной лестницей, блестевшей алюминием.
Такой он еще не видел – громадной, неуклюжей и в то же время сказочно притягательной.
В следующее мгновение видение исчезло, оставив за собой розовую завесу пыли.
Он подпрыгнул, уцепился за чугунную решетку и прижался к ней лицом, чтобы не упустить хотя бы хвост колонны, но сирена трубила уже за два квартала, удаляясь к шелковому комбинату.
Его охватило разочарование. Все произошло слишком быстро. Стоя на чугунной завитушке ограды, он свесил ногу в сандалии, чтобы спрыгнуть на землю, но вдруг понял, что не сможет этого сделать. Потому что сам он был по одну сторону ограды, а его голова – по другую.
Он попробовал осторожно вытащить голову обратно, но ничего не вышло.
Она не проходила. Сандалии скользнули, и теперь он почти висел на одних руках, отчаянно вращая головой и обдирая худенькую шею. Самое скверное, что прямо под его подбородком проходила чугунная перекладина, не позволявшая спуститься ниже и дотянуться хотя бы носками до земли.
Через десять минут он прекратил всякие попытки, осознав, что от них его положение только ухудшается. Нужно экономить силы. Если он отпустит решетку, то перекладина попросту задушит его. Рано или поздно кто-нибудь пройдет мимо и выручит.
Первый прохожий появился, когда он перестал чувствовать свои руки.
Перекладина все сильнее упиралась в подбородок, так что он едва мог окликнуть его.
– Дя-енька! – прохрипел он. – По-оги, дя-енька!..
Прохожий в синем пыльнике без единой пуговицы внимательно посмотрел на него из-под круглых мутных очков без оправы, делавших его глаза огромными, как у окуня, и строго заметил: «Не балуйся, мальчик! Что еще за дурацкие штуки!»
После чего, сутулясь, пошагал дальше, не замечая, что шнурок его башмака развязался и волочится по тротуару.
Теперь его тело удерживалось на весу только подбородком и поминутно соскальзывающими с неровной завитушки ногами. Руки свела судорога, и толку от них не было. Прежде чем в первый раз потерять сознание, он услышал, как громкоговоритель-колокол на рынке торжественно провозгласил: "В Москве полдень.
Вы слушаете последние известия", – и понял, что никакой надежды на мать нет. До двух ему не продержаться.
Уже откатываясь в темноту, он почувствовал нестерпимую резь внизу живота. Теплая жидкость побежала по бедрам, вдоль икр, скапливаясь в сандалиях…
Сторож техникума обнаружил его через полчаса. Мальчик не отзывался, и старик приплелся взглянуть, что он делает так долго на решетке ограды. Тело мальчика висело неподвижно, и когда перепуганный сторож сообразил, что случилось, он подхватил его снизу, чтобы освободить горло, и так и остался стоять, не рискуя отпустить пацана.
До сих пор не ясно, почему его позвонки выдержали это испытание. Сторож стал звать на помощь, подошел один прохожий, потом другой. Скоро собралась небольшая толпа, преимущественно женщины, кто-то принес лом, но прутья ограды, чугун, толщиной в ножку стула, не поддались.
Рабочий в сатиновой рубахе и кепке-восьмиклинке авторитетно сказал:
«Резак надо, ребята. Газовый. У военных должон быть». Двое отделились от толпы и ушли в сторону проходной военной части, расположенной в том же квартале, а сторож продолжал поддерживать неподвижное тело на весу.
Первым к нему вернулся слух. Ничего не было, просто вокруг возбужденно говорили сразу много людей, и от этого ему стало немного легче. Он был не один.
Слов он не понимал, но слушать их было приятно. Потом проехала машина, что-то загремело, будто уронили тяжелый ящик, чуть погодя раздался сухой хлопок и что-то пронзительно зашипело.
Очень осторожно, так как глазные яблоки невыносимо горели, он попробовал приподнять веки – и сначала ничего не увидел, кроме множества радуг.
Потом постепенно начали проступать очертания предметов.
В поле его зрения оказалась широкая мужская спина в прожженном и залитом машинным маслом ватнике. Мужчина что-то делал, наклонившись. Шипение доносилось оттуда.
Внезапно он выпрямился, повернулся к мальчику, и его лицо оказалось совсем близко. Оно было совершенно черным, кроме мясистых, подвижных, как черви, губ, а глаза закрывали страшные синие очки, за которыми ничего не было.
Мальчик рванулся и в ту же минуту увидел, что мужчина держит в руке блестящий инструмент, изрыгающий фиолетово-синее бесплотное пламя. Сердце его затрепыхалось и забилось все реже, будто увязая в густом клейстере.
Мужчина перебросил свой инструмент в другую руку, растянул резиновые губы в ухмылке и вдруг быстрым хищным движением чиркнул твердым, как сталь, ногтем по шее мальчика и спросил низким, клокочущим голосом:
– Ну, пацан, где резать будем? Тут или малость повыше?
Вокруг засмеялись с облегчением, и сам сварщик из воинской части вдруг оглушительно загрохотал прямо ему в лицо, повторяя: «Ну, пацан, за тобой должок! Как ни посмотри, а с тебя, брат, причитается! От меня так не отделаешься!»
Он на секунду оглох, видя только эти вывороченные, шлепающие губы и вымазанное жирной машинной грязью лицо. Резкий чужой запах заставил его желудок сжаться в точку. Синее пламя приблизилось, и в ту же секунду он услышал отчаянный, звенящий крик матери: «Что вы делаете с ним!..»
Второй раз он очнулся уже в больнице, откуда две недели спустя его выписали совершенно здоровым. Даже психиатр поразился тому обстоятельству, что столь серьезное потрясение не оставило в душе ребенка ни малейших следов…
А тридцать восемь лет спустя идиот слесарь зацепил разводным ключом кран баллона с ацетиленом и в тяжелом и мутном воздухе февраля, двумя днями позже, возникло существо, которое Бурцев про себя назвал Темным, и были произнесены слова «долг», «цена» и «счет».
На рассвете, еще через сутки, он притормозил свой «пежо» на повороте окружной, не съезжая на обочину, чтобы не следить протекторами, вышел из машины и без труда догнал плохо одетую пожилую женщину, которая брела, пьяно покачиваясь и бормоча под нос, и даже не заметила, что он движется следом.
Двумя минутами позже он открыл счет.
В кармане дубленки Бурцева еще с вечера лежала цепная пила «Турист» – забавная игрушка, приобретенная им прошлым летом в Дубултах, где он отлично провел отпускной месяц с Еленой Ивановной Зотовой.
Всю жизнь он испытывал острый, особенный интерес к оригинальным режущим инструментам и к женщинам старше себя лет на десять…
Дверь подъезда за это время несколько раз открывалась, впуская и выпуская жильцов, но среди них не было никого, хотя бы отдаленно похожего на ту женщину, которую он теперь ждал. Из собак он отметил появление крупного холеного добермана и истеричной, беспорядочно мечущейся овчарки. И только около одиннадцати на ступени подъезда вперевалку выкатился скотч-терьер, сразу же взявший курс в сторону кустов за детской площадкой.
На другом конце поводка находился тот самый парень в короткой куртке и высоких ботинках, с которым Бурцев столкнулся, выходя из подъезда полтора часа назад.
Элементарная статистика подсказывала, что двух псов этой породы в одном подъезде быть не могло. Что-то случилось, если вместо хозяйки, явно обожавшей своего любимца, с ним гуляет другой – очевидно, кто-то из членов семьи. Это было плохо. Время потрачено даром.
Он дождался, пока оба окажутся почти перед самым капотом машины, завел двигатель и включил фары. Пес рванул в сторону, а парень обернулся, вглядываясь, но, разумеется, ничего не увидел в свете мощных галогеновых ламп.
Когда эта пара убралась с дороги, он включил передачу и, осторожно огибая промоины в асфальте, выехал на проспект.
Остановившись у ближайшего почтового отделения, Бурцев нашел работающий таксофон, сунул в него карточку и, не заглядывая в бумажку, по памяти набрал номер.
После трех гудков трубку взяла женщина – судя по голосу, не старше сорока.
– Пригласите, пожалуйста, Сабину Георгиевну, – произнес он тем голосом, которым привык разговаривать со своими работягами, – точным, металлическим, не допускающим возражений.
В трубке воцарилось молчание. Потом женщина спросила:
– А кто… кто это говорит? – и вдруг сдавленно всхлипнула.
– Старый знакомый, – отчеканил он. – Так вы можете пригласить Сабину Георгиевну? Я звоню с вокзала, у меня через двадцать минут поезд, – Извините, – пробормотала трубка, хлюпая. – Ради Бога извините, но мама… Три дня назад мама… скончалась. Если вас интересует…
Бурцев повесил трубку и выдернул из щели карточку.
Он совершенно отчетливо помнил дату под протоколом допроса, рядом с которой стояла кудрявая, как цветник, подпись следователя Трикоза.
Сегодняшнее число.
Невозможно умереть и спустя трое суток быть допрошенным в качестве свидетеля. Абсурд. Но женщина плакала по-настоящему.
Внезапно тупая боль ожила и зашевелилась в затылке. Вот оно! Вот та ошибка, из-за которой приходил Темный. Он совершенно не помнил первых трех строк протокола, а в них-то и заключалось самое главное.
Место, где был допрошен свидетель.
Часть четвертая
ПЯТЫЙ ЭПИЗОД
Глава 1
Павел Николаевич Романов смертельно устал. Ко второй половине дня отъезда в нем едва теплились лишь насморк, заработанный в беготне по сырости, сипло клокочущий индюшиный голос и надежда: рухнуть на вагонную полку и отоспаться. Из всех дел оставалось вечером выйти к заранее заказанному такси, завезти ключи новому владельцу квартиры на привокзальную площадь и погрузиться в московский скорый. Он выполнил все, кроме единственного необдуманно обещанного жене, – не поехал в крематорий и не получил урну с прахом Сабины Георгиевны. Но и это Евгения скорее всего переживет…
В крематории с ней сделался сильнейший припадок. К счастью, в зале не было никого посторонних, кроме бесстрастно-торжественного служителя, который .и не такое видывал. Жена рыдала, вцепившись в воротник пальто Павла Николаевича, повторяя как заведенная: «Обещай, мы возьмем ее с собой!»
Сын смотрел на них с брезгливым испугом, служитель темнел прямоугольными очками, похожий на терпеливого таможенника, а Романов все гладил Евгению по широкой спине; когда же ему окончательно надоело бубнить:
«Успокойся, дорогая!» – неожиданно для самого себя он пробормотал: "Да, обещаю.
Непременно!"
До этого момента все шло как по маслу. Ему удалось убедить жену, что кремация есть самое разумное и удобное для них, отъезжающих, а также в нелепости поминок, являющихся пережитком варварского прошлого. И даже в том, что «мамины вещи» он лично упакует в ящики и попросит Плетневых распорядиться ими по собственному усмотрению. Книги везти в Америку нет надобности, как и любимый чайный сервиз, но столовое серебро, так и быть, он готов навьючить на себя, а магнитофон разрешает сыну сменять у одноклассника на плеер… Пусть, если нельзя иначе, она пригласит Гену с женой Эммочку Галкину на вокзал и там подарит им на память что-нибудь. Никаких пластинок он брать не станет, плевать на Ойстраха, и какого дьявола она сует в чемодан мясорубку, если на месте он купит ей кухонный комбайн, у них достаточно денег. Что касается мебели, то она продана вместе с квартирой…
Утром в день погребения Павлуша усадил жену и сына в такси и отправился в сторону крематория, а сам поехал в морг. Там уже ждал ржавый микроавтобус.
Первым делом Павел Николаевич положил в него цветы, купленные по дороге на рынке.
Демон Володя покуривал на крылечке.
– Вы один? – вместо приветствия поинтересовался он.
Романов удивился.
– А кто же будет заносить в автобус гроб? – лениво протянул Демон. – Нам по должности не положено…
– Сколько? – угрюмо спросил Романов. Володя назвал несуразно завышенную цифру. «Стервец», – подумал Павел Николаевич, раздражаясь, и услышал:
– Для прощания открытый гроб не годится. Даже если очень постараться.
Лицо в норму привести практически невозможно. Но если вы настаиваете… правда, это опять же недешево.
– У вас все недешево, – буркнул Павел Николаевич, вынимая бумажник. – Закройте крышкой, наживите гвозди, поставьте в автобус. Да, – спохватился он, протягивая деньги Демону, – оденьте ее. Я тут вещи принес.
Демон принял пакет с одеждой Сабины и молча пошел к дверям морга. Павел Николаевич влез в автобус и сел на скамью напротив своих цветов и двух среднего размера венков. Через десять минут парни втащили заколоченный гроб, обитый линючей красной материей, поставили его на пол, захлопнули обе задние дверцы, и водитель тронул машину с места с возгласом: «Ну, с Богом!»
Всю дорогу Романова жестоко трясло на твердом, как камень, сиденье, а перед глазами прыгала надпись на ленте: «Дорогой мамочке от любящих дочери, внука и зятя». Нижний венок он заказал от имени Евгении, зная наперед, что за это она будет ему благодарна. Личным венком от жены он как бы компенсировал свое вранье домашним о том, что отправил в Румсон, штат Нью-Джерси, факс с сообщением о смерти Сабины Георгиевны.
«Дядя Петя», разумеется, не ответил, но, к счастью, Евгении было не до того.
Жена и сын стояли у входа в крематорий, он присоединился к ним с цветами, и почти сразу их пригласили в небольшой прохладный и пустой зал, где в центре на постаменте возвышался гроб, а от гладких серых стен исходил сумрачный свет. Тихо лился Шопен, и после слов очкастого церемониймейстера «…наступила минута прощания» Евгения Александровна зарыдала.
– Я хочу поцеловать ее, – содрогаясь, сказала она.
Романов изумился: он не помнил такого между ними, – и все вместе показалось ему похожим на паршивое кино. Стиснув зубы, он обнял жену. «Почему гроб закрыт?» – горячо шептала Евгения, закатывая глаза. «Успокойся», – твердил Романов…
Гроб поехал, стена разверзлась, сын смотрел с уважением, не мигая, жена плакала уже беззвучно. Павел Николаевич развернулся и покинул зал, а они оба – гуськом – последовали за ним. Перед тем как сесть в автобус, он договорился со служителем, что заберет урну через пару дней…
Съездить не удалось, однако и жена не напрягала. Лишь раз она пожаловалась:
– Я тоскую без мамы. Хоть бы Степан нашелся… Романов вздрогнул и спросил:
– И что бы ты с ним делала? Взять с собой пса мы не можем.
– Подарила бы Эммочке.
– Твоей чокнутой приятельнице только его и не хватает. У нее и без того кошка, морские свинки и два попугая. Евгения, хватит, очнись, мы ведь давно обо всем договорились.
– Знаю, Павлик, но мне очень грустно, – проговорила Евгения Александровна, готовая снова плакать. – Я всегда хотела вернуться в Америку, но теперь…
– Что, что теперь? – взревел Павел Николаевич. – Что изменилось? Мы, и только мы, твоя семья. Работа, Эммочки, Степочки – все мусор. Ты меня выбиваешь из колеи, Евгения… Довольно! Вот два чемодана – грузи в них что хочешь.
Рюкзак Кольке, и ни гвоздя сверх того… Никаких фотоальбомов, ленточек, картинок, открыток – иначе я лично сожгу весь этот бумажный хлам на помойке.
Архив мамы? Я сам с этим разберусь… Довольно слез, истерик, телефонных звонков; довольно визитов соседей, траурных косынок и валерьянки… Мы уезжаем навсегда! Окончательно! Неужели ты этого до сих пор не поняла?
Он побежал, насморочно сопя, в комнату Сабины и заперся на задвижку.
После похорон Романов оказался здесь впервые, не считая того случая, когда искал бриллиантовые сережки тещи. Евгения утверждала, что Сабина их никогда не снимает, а спросить в морге у Демона Павлу Николаевичу и в голову не пришло.
Готовя вещи для похорон, жена вынесла ему на кухню небольшую, черного дерева, шкатулку, где лежали тещины сокровища: золотой католический крестик на шелковой ленточке, пара старинных серебряных колечек, медный почерневший перстень с датой внутри «1953, март», корявая железка, назначения которой он не уразумел, и отличный, ручной работы, браслет с дымчатыми топазами, Именно браслет напомнил ему о сережках, потому что теща надевала его один раз в году – в свой день рождения, и каждый раз Павлуша отмечал, что серьги совершенно не сочетаются с этим, пусть и изысканным, но из простого металла украшением. Он спросил Евгению о серьгах, она ответила, однако почему-то Павел Николаевич засомневался. Он обыскал комнату и понял, что вышел облом – бриллианты уплыли вместе с тещей.
В комнате все еще остро пахло Степаном, и Павлуша в который уже раз подумал: какое счастье – не видеть проклятое создание. Он вышел на балкон и рывком раздвинул рамы остекления. Жена убрала комнату матери и даже поставила цветы возле ее фотографии на письменном столе, но больше сюда не заглядывала.
Горой высились старые журналы и газеты, а в картонном ящике была свалена старая обувь, которую теща почему-то притащила с собой с прежней квартиры. Выбросить?
Не хотелось делать этого на глазах всего дома, и Павел Николаевич решил предоставить разбираться с хламом новому владельцу квартиры. Хрустальная пепельница с десятком сплющенных окурков. Взявшись за нее, Романов брезгливо отдернул руку. Циновка на балконе, изрядно потертая, вся в Степановой шерсти, неожиданно вызвала в нем легкое чувство непричастности ко всему этому убожеству. Довершала дизайн балкона здоровенная китайская ваза неизвестного происхождения, возвышающаяся на трехногой кухонной табуретке. Хлам – и еще раз хлам…
Он выглянул во двор. Застывшие машины у подъезда. Серое низкое небо, смахивающее на солдатское одеяло. Отпотевшие стены домов с мутными окнами.
Прохожие внизу, похожие на неохотно перемещающиеся мишени, сутулые, безобразно одетые…
Сейчас он не замечал, не мог заметить, вдыхая пьянящий запах свободы, как внимательно его разглядывают. Наискось от дома, на противоположной стороне двора, у ступеней, ведущих в подвал частной сапожной мастерской, стоял добротно одетый плотный мужчина с пластиковым пакетом в руках, поджидая, пока в мастерской закончится перерыв. Лицо мужчины, наполовину закрытое серебристой фетровой шляпой, было терпеливо и бесстрастно, скучающий взгляд лениво скользил по окнам шестнадцатиэтажки, постоянно возвращаясь к фигуре Павла Николаевича Романова на балконе.
Павлуша споткнулся о балконный порог, возвращаясь в комнату, и прикрыл за собой дверь. Вещи Сабины были совершенно чужими, и теперь, мертвая, она не вызывала в нем никаких особых чувств. Евгения спрашивала об «архиве» – что ж, посмотрим.
Он выдвинул два нижних ящика стола и вывалил содержимое. Отдельной стопкой сложил письма из Америки, затем фотографии, счета, документы… Было также несколько вырезок из газет шестидесятых годов, карманные календари разных лет, брошюра – программа круиза по Средиземному морю на теплоходе «Армения», снова письма.
Он наугад развернул листок без конверта и прочитал: "Здравствуй, дорогая Сабиночка! Я рада за тебя, что у тебя все благополучно. У тебя отличная семья. Как ты себя чувствуешь? Я – бодро. Годы наши бегут, мне уже давно за семьдесят. У меня сильно болела нога, дней десять подряд. Я не могла ходить.
Сейчас хожу хорошо. Боль миновала, как говорится. У меня свои предположения о болезни ноги, но об этом не стоит. Хирург сказал: пульс нормальный. Делать ему нечего, вот что…"
Что за чушь? – подумал Павлуша, переворачивая страницу, и прочел самый конец письма: "У нее братья были летчиками, все погибли. На неделе и она умерла от рака печени. В лагере Туся была самая молодая из нас троих. Погода холодная.
Повидаться, конечно, надо. Пиши о себе больше. Целую тебя. Галя". Этим крупным полудетским почерком было написано еще с десяток листков, вложенных в большой конверт с обратным норильским адресом.
Павел Николаевич смахнул листки, конверт, вырезки из газет и календари на пол, чтобы затем снести этот хлам в мусоропровод. Туда же полетели блокноты, исписанные строгим отчетливым почерком тещи, и черновики ее писем. Он просмотрел фотографии: Сабининых было немного, остальные – Евгения и сын.
Выбросить у Павлуши не поднялась рука, и он бросил их поверх американских писем, которые собирался прочесть на свободе, – необходимая информация о заграничных родственниках. Порывшись в ящиках и больше не обнаружив ничего стоящего, Павел Николаевич добавил к стопке на столе фотографию Сабины, стоявшую в раме под цветами, и пошел выбрасывать мусор, на ходу крикнув Евгении, чтобы та упаковала отобранное в свой чемодан.
Однако по дороге он передумал выходить, потому что необходимо было срочно позвонить новому квартирохозяину и договориться о встрече. В доме оставались две связки ключей, третья сгинула в морге вместе с вещами Сабины, и оба комплекта он должен был отдать сегодня. Замки были в порядке, барахлил лишь один, в двери тамбура, – нет сомнения, крутой покупатель тут же его сменит.
Стоя посреди прихожей, Романов крикнул:
– Николай!
Сын промычал из комнаты что-то невразумительное.
– Иди сюда, ты мне нужен!
– Ну чего еще? – спросил младший, появляясь в дверях.
– Ты рюкзак собрал?
– Ну.
– Чем занимаешься?
– Жду обеда…
– Вынеси мусор, мне надо позвонить. Младший взял пакет, распахнул одну за другой двери – квартиры и наружную – и нехотя поплелся к мусоропроводу.
Когда он возвратился, на пороге тамбура стоял незнакомый человек в дурацкой фетровой шляпе и жал на кнопку звонка соседней двадцать третьей, хозяин которой, по слухам, отправился в тюрьму за убийство жены.
– А там никого нету, – глазея на шляпу, сказал младший, – вы кто им будете?
Мужчина не ответил, но палец в перчатке с кнопки звонка убрал.
– Там никто не живет, – повторил Николай, – разве не видите – дверь опечатана.
– Коля! Где ты? Обедать пора! – донесся голос Евгении Александровны.
– Иду! – заорал пацан, протиснулся мимо мужчины и, потянув за собой дверь в тамбур, надменно сказал в щелку:
– А мы сегодня вечером уезжаем в Америку…
Он промчался в кухню, начисто позабыв о незадачливом визитере, и, едва ополоснув руки, плюхнулся за стол. Романов-старший уже шумно глотал дымящийся куриный бульон с крошечными клецками. На второе было овощное рагу, и на вопрос старшего о судьбе курицы Евгения Александровна ответила, что та будет взята в поезд.
Ничем не обнаружив неудовольствия, Павел Николаевич попросил добавки.
Скандал разразился позже.
Они уже допивали компот, когда Евгения Александровна подошла к окну и выложила на наружный отлив остатки хлеба. Слетевшиеся голуби тут же зацарапали коготками о железо.
– Закрой окно, Евгения, сквозит, – довольно миролюбиво проговорил Романов.
– Сейчас, Павлуша, – не поворачиваясь, произнесла Евгения Александровна, – я хочу им высыпать еще и остатки гречки…
– Отойди от окна. Бога ради, – повысил голос Павел Николаевич, – у тебя что – других забот мало?! Прибери со стола и вымой посуду. Не сдохнут твои птички. – Он услышал, как захихикал сын, и выкрикнул, раздражаясь все больше:
– Ты что, глухая? Немедленно прекрати возиться с этой мерзостью!
– Мог бы и сам хоть раз вымыть посуду, – тихо сказала жена, поворачиваясь к Романову. Лицо ее было бледным и совершенно неузнаваемым. – Мама любила кормить голубей. И не кричи на меня… Коля, отправляйся в свою комнату! Мне казалось, – раздельно произнесла она, когда сын шмыгнул из кухни, – у тебя хватит такта не показывать, насколько ты счастлив. Хотя бы мне. Но я ошибалась. Я не говорю уже о сострадании и уважении к мертвым. Мама была права…
– К дьяволу маму! – Романов почувствовал, как ненависть тяжело ударила в голову. – Надеюсь, она уже в аду… О чем я тебя попросил? Отойти от окна и побыстрее убрать – нам через полтора часа пора выходить из дому…
– А если я не намерена с тобой ехать? – прервала его жена. – Именно с тобой? Тогда что? – Павел Николаевич похолодел – так похожа была жена в эту минуту на покойную тещу. – Я всегда поддерживала тебя, я думала, что… – Она махнула рукой, шагнула к мойке, и Романов понял: ничего страшного не случится, главное – промолчать, дать ей перебурлить и успокоиться.
Он взял кухонное полотенце и встал сбоку от жены. Евгения Александровна, поджав губы, мыла посуду, передавая ему сначала чашки, затем тарелки. Остальное она выставила на столик.
– Куда складывать? А, Женечка? – нежно допытывался Павел Николаевич, но жена, буркнув «куда угодно», сорвала с себя фартук и удалилась в гостиную.
Романов сложил посуду на кухонном подоконнике, сполоснул раковину, подмел пол и с веником в руках вышел в прихожую. Там Евгения торопливо надевала пальто прямо поверх халата. Рядом стояли два ветхих тещиных баула и дорожная сумка, доверху набитая книгами.
– Донеси мне это до лифта, – кивнула на сумку жена. – Я поднимусь к Плетневой. А вы с Николаем соберите оставшийся мусор и вынесите во двор. Пустые бутылки, коробки… С кактусами делай что хочешь.
Романов с облегчением понял, что гроза миновала. Он отвез Евгению Александровну на седьмой, донес книги и вернулся в квартиру. За те полчаса, что она отсутствовала, они с сыном управились. Все снова шло как надо и, если не считать двух ходок вниз к мусорному контейнеру, выглядело как генеральная уборка. Тем не менее эти прогулки с мусором страшно утомили Павла Николаевича, к тому же его не покидало ощущение, что высокий парень с косичкой, дежуривший внизу, почему-то чересчур пристально рассматривает его…
Я зафиксировал, что Павлуша с отпрыском спускались дважды и оба раза волокли с собой картонные коробки, полные домашнего барахла. Все это пошло в полупустой контейнер. Романов был в спортивном костюме и комнатных тапочках, его чадо – в кроссовках без шнурков и распахнутой куртке.
У меня было достаточно времени, чтобы спокойно за ними понаблюдать. С час назад закончился крестный ход в сороковую: весьма крутые обитатели этой квартиры выдавали замуж дочь. Это событие само по себе обещало мне беспокойную смену, а тут еще мысли о Сабине. Павлуша со своими коробками появился как раз в паузе – жених повез невесту официально сочетаться, и свадебный поезд еще не возвращался. Я почти сразу бросил следить за этим людским водоворотом, махнув рукой на машины и орущих гостей. Их было невообразимое количество для средних размеров трехкомнатной квартиры, и все они казались мне на одно лицо: крепкие мужчины в дымчатых очках и коже и надушенные блондинки с цветами. Я надеялся – и так оно позже и оказалось, – что сама свадьба состоится в каком-нибудь ресторане и закончится к завтрашнему вечеру, а сюда возвратятся только те, кого я знаю в лицо, и мне не придется каждые пять минут сцепляться с поздними посетителями.
Я курил на ступенях, когда мимо меня пронесся парнишка Романовых, прижимая к груди магнитофон, а сверху донесся гортанный крик его папаши: «Коля, к шести как штык дома! И ни секундой позже!» Шумно отъехал свадебный кортеж – я насчитал одиннадцать иномарок, из них четыре «мерса». Жизнь бурлила, двери подъезда беспрерывно хлопали, и лишь две фигуры, как тени, проплыли передо мной, своей неспешностью как бы отвергая всю эту суету. Маленькая Лиза Плетнева покатила коляску на проспект, да Евгения Александровна, в темном платке, с отрешенным печальным лицом, вышла из дома с хозяйственной сумкой. Я хотел было заговорить с ней, но не решился и тогда, когда она возвратилась, нагруженная провизией.








