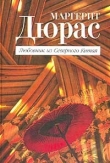Текст книги "Лгунья."
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– Скажи-ка мне, отчего девчонки так любят реветь?
Кира молчит. Она натянуто улыбается.
– Рядового Костырика, Всеволода Сергеевича просят к будке киномеханика… Если в зале находится рядовой Костырик, его просят подняться на третий этаж и подойти к кинобудке.
Стучат по ступенькам тяжелые сапоги солдат, на нижней площадке слышится говорок…
– В чем дело? – сердито спрашивает чей-то молодой голос, обращаясь к Кириному затылку. – Кто меня вызывал?
…Скрипнул под Кирой стул… Не выдержав тяжести ее шубки, он осторожно свалился на пол…
Они стояли друг против друга, глядя в лицо друг другу. А между ними – как баррикада – упавший стул.
Вот уж больше двух месяцев, как солдат Костырик проходил военную службу на острове Санамюндэ.
По вечерам, в часы, свободные от вахт, ребята играли в шахматы. Костырик слыл одним из лучших в части шахматистов.
…Он был молчалив и тих. Быть может, майор – начальник подразделения – не обратил бы на Севу Костырика внимания особого, если б не получил от Александра Степановича обещанного письма.
На территории подразделения должны были строить здание небольшой читальни.
– …Вы… одним словом, если не ошибаюсь, вы, кажется, строитель, Костырик? – не глядя на Севу, спросил майор.
. . . .
– Что ж вы не отвечаете? Или боитесь взяться?.. А я хотел поручить вам одну строительную работенку…
– Да, да!.. Я строитель, строитель, товарищ майор!
Костырик спроектировал небольшое здание читальни, сделал продуманные рисунки будущей внутренней отделки ее…
– Вот это называется «подвезло»! – ликовал майор.
– А мы не будем еще чего-нибудь строить?
– А как же, как же! Не без того… Строительного материала хватает, рабочие руки в наличии… Почему не строить? Но имейте в виду, Костырик, вы в ответе за все. Нам нужен не только проектировщик, нам нужен хороший прораб. Понятно?
– Так точно. Понятно.
При постройке читальни Сева работал прорабом и штукатуром.
– Чего грустишь, Всеволод? – спрашивал Костырика парнишка-солдат, с которым он подружился. – Я отслужу военку и только-только думать еще начну, какую избрать специальность… А ты отгрохал, отзанимался… Осталось только добить дипломку! Опять же тебе, как солдату, разные льготы…
– Не надо мне никаких льгот!
Жизнь шла. Восстанавливалось его внутреннее здоровье. Все, что было связано с Кирой, отступило далеко назад.
…И лишь во сне приснились ему однажды длинные ветки осоки, полоскавшиеся в неглубоком озере. Озеро отражало серые облака…
Ее не было рядом. Но во сне он чувствовал незримость ее присутствия и весь был наполнен любовью и чувством счастья… Он слышал рядом с собой ее смех и дыхание. И говорил: «Уходи, Кира!»
«Хорошо. Я уйду, уйду!» – отвечала она.
И не уходила.
И он боялся, что вот сейчас она отстранится, уйдет… Боялся пошевелиться…
«Что-то мне приснилось счастливое?!. Я был счастлив!»
Однако всей силой сознательной воли он не хотел и думать о ней. Боялся иррациональной силы, которую люди зовут любовью.
Шли дни. Он получал из дому письма.
«Сняли хороший урожай яблок».
Ни слова о Кире.
Он был чисто выбрит, одет в шинель и шапку-ушанку. [Все сидевшие в кинозале были в шапках-ушанках, никто из солдат не снимал шинелей.)
Он похудел. Она сразу это заметила. Лицо его утратило милое детское выражение… Из нового, не то задумчивого, не то скучающего лица как бы выступал его второй, скрытый облик: в нем не было ни добродушия, ни мягкости.
Стоял против Киры. Руки были опущены. Не мелькнуло ни удивления, ни радости в глубине его глаз, когда он понял – это она. И все же что-то едва приметно дрогнуло в нем (может, чуть приподнявшиеся под шинелью плечи?)…
Не шагнул в ее сторону. Не сказал: «Здравствуй!» или «Да как ты сюда попала?!»
Повернулся и медленным шагом пошел к двери. Солдатские сапоги одолели порожек. До того неуверенно было движение их, словно солдат ослеп.
Он сам не понимал того, что сделалось с ним. Испытывал боль такую, как если бы после мороза застывшие руки вдруг попали в тепло и сильно ломило пальцы.
Душу ломило. Все в нем кричало: «Нет, нет!»
«Нет!» – говорило в Севе тем отчаяннее, тем упорнее, чем неожиданнее казалось ему ее появление.
Спускался с лестницы. Не оборачивался. Его спина как бы выражала раздумье. Шел медленно, очень медленно.
И не успев себе дать ответа в том, что делает, и что станет сейчас говорить, и зачем она делает это, девочка побежала следом. Она кричала:
– Сева!.. Ты меня не узнал? Это – я… Кира!.. Это я!.. Я!..
Солдаты оглядывались и улыбались. Те, что курили на нижней площадке, приподняли головы.
Он спускался вниз. И не оборачивался.
Она нагнала его. Ее руки легли на его шинель, дрожа потянулись к его затылку. Забежала вперед, обняла, прижалась щекою к его щеке… Она бормотала бессмысленно:
– Это я. Я!..
«Нет!» – говорило в Севе без логики.
Он даже не поднял рук, чтоб сбросить с плеч ее ладони, продолжал шагать, упрямо наклонив голову.
Второй этаж… Он все шел. А она все бежала, бежала, заходя вперед, поднимая к нему лицо. Снова и снова растерянно и беспомощно вскидывались ее руки… Вскинулись. И не решившись дотронуться до его шинели – повисли…
Он… Он искал покоя и равновесия, свойственных его суровому темпераменту!..
В ней не было равновесия… Рядом с нею не было равновесия… Все в нем кричало «нет!» – сопротивляясь ей из последних, из самых последних сил.
Лестница была переполнена гулом мужских голосов:
– Ты что, очумел, Костырик?
– Ты что, немой? С тобою, кажется, говорят?! Оглох?

(«Зачем ты пришла?.. Меня нет для тебя… Мне нечем тебе обрадоваться!»)
Лестница гудела. Сто молодых сердец бились сочувствием к девочке. Но чем больше шумели солдаты, тем упрямее становилось выражение его губ… Взгляд скользил куда-то поверх ее головы.
Первый этаж.
Убыстрились шаги солдата. Она бежала – пятилась, опираясь о лестничные перила…
…Секунда! – и вот уж она бежит по морозной улице без пальто и шапки…
Воскресенье. На улице много солдат, много-много парней в солдатских шинелях.
Кира несется за ним по узким улочкам и переулкам. Она заглядывает в лицо каждого встречающегося солдата.
Мороз слепил ей ресницы, подхватывал дыхание Киры, участившееся от бега.
Со всех сторон ей слышалась незнакомая речь. Останавливались женщины и ругали ее – видно за то, что она выбежала раздетая на мороз.
Вот он, вот он!..
Ее ладони сжали изо всех сил его щеки. Привстав на цыпочки, она громко заплакала. Приподняв его руки, положила их на плечи себе. Закрыв глаза, молча, жадно, целовала его холодные щеки, нос, брови, мелкими, быстрыми поцелуями, словно надеялась, что они лучше, чем ее голос, объяснят ему: «Это я! Я!..»
Она жалась к его шинели, лязгая зубами от холода.
Он сказал:
– Ты что?.. Здорова ли? Уходи. Простудишься.
И еще ниже опустил голову, как бы скрываясь от чужих взглядов.
Это было страшнее страшного сна.
…Вот уж не видно его. Солдатскую шинель единственного на свете солдата заслонили шинели других солдат.
Девочка остановилась на перекрестке улицы.
Ее нагнали, повели в клуб. Ей обтерли лицо. На нее натянули шубейку, обмотали ей голову пуховым платком.
– А ты плюнь, плюнь, – говорили ей.
– Каменный он, вот кто он!
– Да если б я… Да если б такое мне…
Она молчала. Глядела вперед остановившимися глазами.
…Быть может, потом – ведь здесь так мало пищи для воображения – они станут переговариваться, смеяться, показывать Севу и Киру в лицах… Но их первое чувство было чувством высокого сострадания.
Кто-то взял ее за плечи и повел из клуба. Это был офицер, пришедший купить билеты на вечер.
– Простудишься. Надо водки… Сейчас же водки. Не рвись. Не пущу! Ресторан за углом… И не стоит, девочка, эдакой любви наш покорный слуга!.. Никто из нас недостоин твоей слезинки… Ты ребенок, ты, можно сказать, невинность… А мы такие, сякие, разэтакие… Экая парню любовь досталась! А кто твой отец? Военный? О чем думала твоя мать, когда отпускала тебя одну?..
…В ресторане с нее насильно стянули шубу, принесли коньяк и яичницу.
Офицер бушевал, рассказывая сидевшим за столиком офицерам о грубости "нашего брата".
Ей влили в рот коньяку. Она захмелела, уронила локти на стол… Ее уговаривали поесть, ей намазали хлеба, ей совали в рот кусочки яичницы.
– Как тебя звать-то?
– Ее звать Кира. Я знаю, – сказала буфетчица.
– Ешь, Кира… Хорошо бы черного кофе… Людмила, дай ей горячего кофе.
– Плачь, Кира, плачь, – увещевала буфетчица. – Поплакать – оно полегче…
И опять на нее натянули шубу.
И повели домой. Она шагала нетвердым шагом.
Один из троих офицеров, взявшихся проводить Киру, нетерпеливо нажал звонок. Дверь распахнулась. Офицеры заговорили с Жанной, перебивая один другого. Увидев Киру, Жанна втащила ее на лестницу. Не позволяя себе ни о чем расспрашивать, она оттолкнула Кириных провожатых и быстро, резко захлопнула перед ними дверь.
Сжав губы и не оглядываясь, Кира шагает одна во мглу.
…Километр. Два. Три километра Десять, двадцать. Ни норы, ни жилья, ни огня. Даже лес – и тот далеко. Поле, поле… Ровное. Белое. Гладкое.
Не рассусоливай, а шагай, шагай…
Рубчатый след от недавно прошедшего грузовика – коричневые полосы на белом накате белого снега.
Вдали мигает желтая точка. Огонь!
…Все больше, больше желтого света. Близко, совсем уж близко человечье жилье. Вырисовываются крыши строений – большие, продолговатые. Это казармы. А вот – небольшой домишко. Из трубы его валит дым. Пахнет дымом и хлебом. Хлебопекарня. Читальня… На полках стоят книги, их видно через окно.
Кружевная, воздушная, поднимается вверх не то клеть какой-то лестницы, не то наскоро сбитая пожарная каланча. Это – дозор. На самом верху, если вскинуть голову, – крошечный дом-скворешня. Там – солдат: глядит вперед молодыми своими глазами. Один. На ветру.
Рядом с казармами – небольшой дом – единственный, где зашторены окна.
Крыльцо. На крыльце веник. Рядом с веником – ведра. Дом как дом, такие бывают в деревнях. Крылечко свежеокрашено и освещено.
«Сюда!» – решает Кира и поднимается по ступенькам. Тщательно сметает она метлою снег со своих сапожек. Сейчас протянет руку и постучит.
Дверь распахивается. На пороге женщина в пуховом платке. Обыкновенная женщина. Русская. В валенках.
От этих валенок Кире делается теплей.
– Здравствуйте, – говорит Кира. – Я к командиру. К главному…
– Он на политзанятиях, – отвечает женщина. – А ты по какому делу? Давай заходи…
Кира заходит в сени, разматывает платок, снимает шубейку.
Комната. Нет, это вовсе, вовсе не комната… Это – Россия.
Большая никелированная кровать, обеденный стол, буфет с посудой, половики и половички… А над столом такая же точно лампа, которая дома у мамы и папы. Лампа под розовым абажуром!
– Садись. Ты, видно, крепко озябла? Может, чаю или горячей картошки? Я пекла блины. Может, хочешь блинка? Съешь блинка! Да как ты нашла нашу часть? Или кто тебя проводил?
– Никто. И я совсем не такая маленькая, я уже школу окончила. Из Москвы приехала – и нашла.
– Из Москвы? – оживившись, говорит женщина. – Там наших трое ребят. Скоро приедут сюда, на каникулы… Такая тоска, такая тоска по детям – сказать не могу.
Женщина кутается в платок, вздыхает, скрещивает ноги в фетровых валенках… Подперла кулаком подбородок, задумалась, пригорюнилась.
– Значит, ты из самой Москвы?.. А чего там нового? Какие в Москве погоды? Я им, понимаешь, связала шарфики. Только, может, не надо?.. Поверишь ли – дни считаю… Как они там?! Здоровы ли, сыты ли… Ты этого не понимаешь, куда там – еще мала…
– У меня братишка. Я все понимаю.
Низко опустив голову, Кира не смотрит на женщину. Губы ее дрожат.
– Что с тобой? – говорит хозяйка. – Ты вроде бы не в себе, я сразу заметила. Может, обидел кто?.. Люди, знаешь, они безо всякой милости, без понятия. Да ты успокойся, погрейся. Садись к печи.
– Не хочу! Я боюсь печей…
– С чего бы?..
– Так. Просто так… Я к майору Дятлову, посоветоваться. Я, я… А он хороший человек?
– Кто?
– Майор Дятлов.
– Да как я тебе про родного мужа скажу? Сразу видно – что ты дитя… Мужик как будто бы ничего… Рубашку снимет для друга. Грех сказать – хороший, очень даже, можно сказать, простой, порядочный… Жену уважает. Детей жалеет… Чего ж еще?
– Скажите, пожалуйста, а разве это так много, что муж тебя уважает?!. Я б, например, хотела, чтобы меня любили…
– Любовь, она, детка, не вечная… Да и не солидно вроде бы в нашем возрасте, чтоб он меня на руках носил.
– А у французов любовь – она вечная… Один французский поэт, ну, в общем – писатель, сочинил такую песню своей жене, что ее поет весь Париж. Называется: «Ноги моей Жаннеты». А Жаннете – семьдесят лет.
– Поди ты! И смех, и грех. Да я б со стыда сгорела… Ох уж эти французы!
– У меня, – не поднимая глаз, говорит Кира, – здесь служит… Вобщем один знакомый. Костырик Всеволод. Может быть, видели? Он немного постарше других ребят…
– Да как тебе, детка, сказать, может и видела, да не знаю, кто из них Пров, кто Петров, а который Костырик… Ты бы хотела с ним повидаться? Пришла попросить майора об увольнительной? Он даст, он даст… Можешь не сомневаться… Все же в экую даль человек приехал… Из самой Москвы! Дорога не близкая.
– Понимаете, все так вышло нехорошо, – сжав кулаки, говорит Кира. – Я даже не знаю, надо ли мне… Домой бы!.. Мне бы только понять… Иначе… я, я… утоплюсь! Мне стыдно папе в глаза взглянуть. И маме. И девочкам…
– Да это что же такое?! – сейчас же приняв ее сторону, спрашивает у судьбы жена командира. – Да как же такое можно? Да где же стыд у нонешних молодых людей? Это, детка, они даже очень свободно… Это мода теперь такая, чтоб все ни во что!.. И любовь, и может, там какое серьезное объяснение было… Да как же так? Да какого рожна ему надобно?.. Красивая, из дому родительского… Да ты не плачь, ты не плачь, ты своей гордости не роняй. Пусть оглянется – много ли, можно сказать, на свете таких девчонок, чтобы со средним образованием и чтобы скромная и культурная?.. Ты какого года?
Кира ответила.
– Да это ж где берется у людей совесть? Девочка, ну прямо, можно сказать, дитя! Да ты успокойся. Он еще локти будет кусать. Не убивайся!.. Все у тебя впереди, детка!
– Нет!.. Нет!..
– Полно!.. Ах, чтобы они сгорели. Все! До единого. Совместно с моим мужиком.
Дверь скрипнула. Послышался стук сапог. В комнату вошел пэжилой человек в военном. (Тот, кому жена пожелала сгореть!) Лицо его было простовато, рассеянно. Взглянул на жену, перевел глаза на сидевшую рядом с женой незнакомую девушку. Не сказал «здравствуйте». Спросил:
– Что случилось, Анфиса?! Дети здоровы?!
– Твои-то здоровы, – сказала Анфиса, – а вот другие…
Кира встала и протянула майору руку.
– Зиновьева. Из Москвы. Извините за беспокойство.
– Да какое может быть беспокойство?! Сидите, сидите… Если ко мне, так пожалуйста. Я – обязан. Мои солдаты.
Он присел к столу, и стало еще заметнее, что славное лицо его как бы даже потрясено добротой.
– Я вас слушаю, товарищ Зиновьева…
Лицо Киры приняло гордое, злое и высокомерное выражение.
– Не знаю, как рассказать, – начала она. И принялась теребить носовой платок… – Мой папа – рабочий Зиновьев. Мастер. Нас – пятеро… Севка Костырик ему помогал… И я… И я…
– Да чего уж там!.. Дело, как говорится, честное. Молодое.
– Нет, нечестное. Я ему сделала много зла. И… и приехала с ним повидаться.
– Да… Можно сказать – положеньице, – с состраданием вздохнул майор. И встав от стола, тяжело зашагал по комнате. – Я Костырика знаю. Отчислен из института… но при военном деле – рекомендация неплохая. Даже можно сказать – хорошая. Неплохой строитель. Большой работяга. С инициативой. По чести скажу – плохого за ним не видел. Одно хорошее. А уж я ли их не перевидал?! Молчаливый, знаете ли… Но быть может, каждый на его месте… А так – старательный… И общественник. Оформил нам стенгазету. И я бы сказал – хорошо оформил… Два раза отказывался от увольнительной Я с ним беседовал – как же так?.. Парень он неплохой и мне, не таю, внушил уважение… Не знаю, конечно, подробностей, но уж больно сурово как-то… Я переписываюсь с отцом. Неплохой человек – рабочий. А как там с той женщиной… вышло – не знаю А он… Он что? Он, конечно, того… Ведь молод…
– Вы всегда один за другого, – сказала жена. – А что человек… что девушка… А если бы с нашей Настей…
И махнув рукою, вышла на кухню.
– Та женщина, товарищ майор, – это я!
– Уж полно…
– Правда – я. Поэтому я приехала… Я люблю его. Майор зашагал быстрей. Из кухни вернулась жена, поставила на стол две тарелки, булочницу и хлеб.
– Ну что ж!.. Как вас величать-то? Кирой?.. Так вот: не удивительно, что он не хотел с вами говорить… Вот так… Не посетуйте за прямоту. Я бы тоже на его месте… Только вот что: возможно, не хватило бы, так сказать; у меня характера… Я бы знаете ли, пожалел… А он человек характерный. Волевой парень. Кира молчала, сидела, опустив голову.
– Товарищ майор, простите, я, наверно, не все понимаю… Не понимаю степени своей вины. Ведь не волоком же я его волокла… Да и откуда мне было знать, что можно, чего нельзя? Я не военная, не военнообязанная. Да и что было-то? Он меня, конечно, в ту ночь два раза поцеловал… А во второй раз… Он на меня сердился. А я, как глухая или ослепшая… Ведь он самый близкий мне человек! И я тогда совсем, совсем другая была… Не такая, как нынче… Я горя не видела. А теперь…
– Видишь ли, Кира, дело не в том, сколько раз он тебя целовал, а в нарушении воинской дисциплины, долга!.. Как это ты его довела до оплеухи?.. И зачем ты ходила к нему в институт, да еще, говорят, накрашенная? Право – и смех, и грех.
– Товарищ майор, все меня презирают. Все! Отец деньги прислал, а не пишет… Я болела шестнадцать дней… Мама не пишет. Зачем я за ним бежала? Зачем, зачем?.. Как жить? Научите. Я себе не прощу. Раньше мальчишки за мной, за мной…
– Успокойся, Кира… Конечно, Москва – не близкое расстояние. Ты доказала преданность. Да и как он глянет в глаза твоему отцу? Мне ребята эту сцену всю доложили…
Кира опять заплакала.
– Будет тебе… А я с ним, знаешь ли, еще раз поговорю. Он неплохой парень… Художник опять же… Да что он, право… Верно ослеп!..
– Нет, – сказала Кира. И гордо: – Этого мне не надо. Мне не надо, чтобы любовь по приказу начальника. Я хотела, чтоб настоящая. Чтобы – любовь…
– Верно, – поддержала жена майора. – Кому нужна любовь по приказу?
– Мне бы только понять, понять, – сжимая виски, бормотала Кира.
– Кира Зиновьева! Здесь начальник – я. Так вот: сейчас я вызову рядового Костырика… и ты с ним поговоришь…
– Нет!
– Кира, ты для этого отмахала пехом двадцать километров. По морозу. И правильно сделала. Вам надо повидаться и поговорить. Жди! Я сейчас разыщу Костырика… Анфиса Петровна! Держи ее за подол и не отпускай. Умойся, Кира… Анфиса Петровна, дай ты ей этого… ну, как его там, напудриться, причесаться… Кира, и чтобы ни единой слезы, иначе… Это – приказ. Здесь я командир части.
Раскрылась дверь. Он вошел… Растерянно глянул на Киру (командир сдержал свое слово и, видимо, ничего не сказал ему).
В доме слышались шаги, звон посуды… |Не иначе как жена командира наконец-то кормила ужином своего мужа.)
Дом замер. Насторожились стены, и лампы, и шторы. Дом дышал сочувствием к девочке.
Только он стоял против Киры то ли задумавшийся, то ли осоловелый. Безмерно странный.
– Ты? – спросил он одним дыханием (как будто он не видел, что перед ним – она).
– Может, снимешь все же шинель и шапку? Он скинул шинель и шапку.
Скинув их, он как бы сделался собой – научился двигаться, говорить. Придвинул стул, сел рядом.
– Ты давно из Москвы! – спросил он вежливо и мертво.
– Да, – сказала она полушепотом.
– Как отец? Как Сашка?
– Сева, может, ты поймешь наконец, что я… А вдруг ничего не проходит так? Просто так… Что тогда? А вдруг у тебя окажется память… Мне ничего не надо… Я только хочу понять… Я уйду, уеду… Я не прощу тебя. Я тебя не простила… Что с тобой? Как ты мог?.. Если… если… Так зачем ты со мной разговаривал по телефону и маму свою послал?
– Маму?! Я ее не присылал! Это, должно быть, она сама… Я… я тебя… Одним словом, сейчас не об этом, Кира… Я хочу быть хозяином своей жизни, своей души… Одним словом, как это ни горько, приходится выбирать!.. Тебе нужна не любовь, а любвище… Откуда ты знаешь, что я на нее способен?.. Мне нужен свет свой собственный… а не отраженный… Не знаю, как объяснить тебе это, Кира…
– Я поняла, Сева. Но я… Я обманывала себя. Я… все думала, что у тебя всегда это было от удивления, от застенчивости… Только уж лучше бы ты солгал!.. Я… я хотела быть рядом. Приехала… И… на завод… На завод!..
– Полно! – ответил он. – Ни на каком заводе ты не работаешь… Не такой ты человек, Кира…
– Много есть у меня грехов. Но лучше – я не умела. Сильней не могла. Товарищ майор! Костырик свободен. Я – ухожу. Я… я вас… обоих… Он сказал – главное. Я – поняла. И… и… я пришла не даром.
– Одну минуту. Костырик тебя проводит.
– Нет.
– Здесь я командир части. Я. А не ты. Ночь. Поле. Куда ты пойдешь одна!
– Кира может заночевать у нас, – живо вмешалась жена майора.
– Молчать! – спокойно и властно сказал майор. – Костырик, проводишь Зиновьеву до ее парадной. Выполнять. Приказ. Вернешься с последним, нет, с первым автобусом. Отпускаю на сутки. Я сказал. Все. И запомни, Анфиса Петровна: ты хозяйка надо мной, над своим майором, но не над моими солдатами… Бабье! Да полно вам целоваться-то… Ошалели, ей-богу. Живей, веселей! Подавайте-ка даме пальто, Костырик… А то действительно получается… Не солдаты, а… а какая-то Ниагара!
…Все тот же снег. Все так же поскрипывает он под Кириными ногами…
Снег. Белый снег. Белый, белый…
Неправда!.. Ушло из снежного сердца его доброе, таинственное свечение. Погасло. Осталось большое поле. Обыкновенное. Все в снегу.
«Если я не люблю себя, как же мне любить эту землю и этот снег!!»
И вот остались на свете – земля, снега и большое поле – без сердца.
По этому полю без сердца шагают, шагают, шагают две пары ног.
Дальний свет электричества. Остановка автобуса. Они стоят и смотрят вперед, на дорогу.
– А ты здорово похудела, Кира…
«Море – оно вокруг острова, – старается себе рассказать Кира. – А что за остров?.. А зачем я вдруг оказалась на этом острове?»
– Кира! Автобус. Живо!..
Автобус их довез куда надо. И ушел. Укатил в автобусный парк.
Две пары ног зашагали по уснувшему городу. Город, с его вечной каменной памятью, запомнит эти шаги. Ведь он сумел сберечь звук шагов всех супружеских пар, всех вдовых, влюбленных, брошенных, отчаявшихся, одиноких…
В парке, возле гостиницы дует резкий, холодный ветер – парк оканчивается небольшим пляжем. Меж старых дубов гуляет дыхание моря и дыхание множества притаившихся жизней – белки, зайца, крота… Спят. Экономят живое топливо, бьются сотни крошечных, теплых сердец, величиной с ноготь… Перебиться бы до весны! Холод-холод. Жить-жить.
Улица за парковыми воротами слабо освещена. Напротив старинной ограды парка стоит очень старый дом. Это Жаннин дом. Во время Отечественной войны бои развернулись за пределами города, и центральная его часть уцелела. Четыре темных окна спокойно глядят на спящую улицу, острую крышу венчает старинный флюгер – местный тролль: Пеки-Бук. Из хорошо сохранившегося фронтона подмигивает глаз чердака, похожий на иллюминатор.
– Кира!.. Экая старина, право… Шестнадцатый, да нет, пожалуй, пятнадцатый век.
Пожав плечами, она достает ключ, отпирает входную дверь.
…Окна дома – на высоте бельэтажа. Когда входные двери распахиваются, становится видно, что к Жанни-ной квартире ведут ступеньки. «Скрип-скрип», – сказали Кире ступеньки.
И вдруг послышались рядом другие скрипы… Ступеньки запели под шагами мужских сапог. Мир лестниц – переполнился разговором: «Это – я!.. Твои ноги, Кира, весело бегали по земле. Удирали из дома, опаздывали, крались на цыпочках по коридорам отцовской квартиры… И вот – они выросли (даже стали великоваты!). И шагнули навстречу моим шагам… Час пришел… Твои ноги принялись спотыкаться… (Так шагает плачущий.) В мир детских шагов вступили шаги другие: мои шаги».
Ступеньки ликуют, нажаривают, стараются… Долго будет хранить их деревянная, скрипучая память дуэт двух пар молодых, подымавшихся по старой лестнице ног.
…В кухне темно.
Кира сказала: «Жанна!»
Никто не откликнулся.
Толкнула дверь в свою комнату и услыхала тихое потрескиванье поленьев. Дверка печи была широко растворена, и пламя до того яркое, что комната будто тонула в жарком сияньи.
Переступив порог. Сева сейчас же остановился у очага… С великой серьезностью, словно что-то прикидывая, провел удивленный зодчий ладонью по изразцам.
– Экая старина!.. Красивейшая работа – чудо-юдо! Керамика!.. Гляди-ка! История острова! Вот – ограда из камня!.. Никаких тебе частоколов… Не камни, а – валуны… Ясное дело, камни им были сподручней, чем лес… Погляди, погляди, Кира!.. Мельницы… Парусный бриг… Времена парусных бригов!.. Портрет…
«Это я, Лайна, – тихо сказала Лайна. И дрогнула щербина на подбородке. – Я хозяйка этого очага. И остров!.. Хозяйка каждого старого и нового дома. А ты… Ты всего лишь будущий строитель этих домов, ты – всего лишь зодчий… Я – молодость. Я – человеческое воображение. Я – искусство… Одним словом, я – фея! Хозяйка огня и холода. Но забудь сейчас обо мне, солдат. И забудь обо всем, что сделано руками человека… Она – за твоими плечами… Сидит и дышит… Оглянись. Скорей!.. Все на свете будет твоим… Но она…»
Освещенная розовым пламенем, Лайна как будто глядела в проем окна: развевались волосы, блестела крошечная корона: пять зубчиков.
Присев на корточки, зодчий удивленно разглядывал старую печь…
Жить приучил – в самом огнеСам бросил – в степь заледенелую.Вот что ты, милый, сделал – мне.Мой милый, что тебе я сделала?Детоубийцей на судуСтою немилая, несмелая,Я и в аду тебе скажу:«Мой милый, что тебе я сделала?..»
– Что ты бормочешь, Кира?
. . .
Дверь скрипнула, в комнату вошла Жанна.
– О-о-о…
– Познакомься, пожалуйста, Сева, это моя хозяйка и близкий друг.
– Зольдат! – приложив к груди худую ладонь, в восторге сказала Жанна.
Исчезла. Через минуту вернулась с подносом, кружками и кувшином.
– Пейте, мсье зольдат… Санамюндское. Очень хорошее. Очень пьяны. Бравы, бравы, мсье зольдат!
– Садитесь, Жанна.
– О-о-о, ньет!.. Мне стирать. Мне гладить… Ньет, ньет!..
…Ушла. Из кухни послышалось ее ликующее – «Тра-ля-ля!..»
– Кири! – сказала Жанна в дверную щелку. – Я забыл! У нас сегодня две радость! Пришел постальен. Говорит: «Ваша девочка бегал, бегал… Он, бедны, совсем перестал ждать…»
– Жанна!.. Письмо?!
– Да. Письмо.
– Скорей!..
– Тра-ля-ля, тра-ля-ля, – кружась ответила Жанна. – Амур! Письмо. Зольдат. Тра-ля-ля…
«Дорогая Кира!
Через неделю после того, как ты уехала из Москвы, отец вызвал к Саше самого главного профессора по детским болезням. Ты помнишь, у него еще при тебе была температура. Потом он сделался вялый, мало смеялся. Сперва мы думали, это из-за тебя. Я, конечно, ему уделял большое внимание. Девочки тоже уделяли ему внимание. Я ему рисовал и сделал калейдоскоп. Он плохо ел, и доктор из консультации запретил водить его в детский сад. И вот в это время отец решил, чтобы вызвать профессора. Мы оба пошли вызывать: я стоял в очереди, а папа скандалил е директором поликлиники. Профессор Дулицкий окончил прием. Нам сказали, что это он. Мы к нему подошли. Он, видно, сильно устал, было видно, что он устал и что очень старый. Мы просили, а он отказывался. Сказал: «Обязательно. В другой раз». И вдруг тут же на улице отец возьми и заплачь. Я даже представить себе не мог, что такое бывает. Он плакал. Профессор опустил голову, вздохнул, растерялся и чуть что сам не заплакал. Он сказал: «Да». Отец: «Кешка! Давай живей за такси. Одна нога – тут, другая – там».
Дулицкий осмотрел Сашу. Потом сказал: «Я хочу вымыть руки». И когда я повел его в ванную, он спросил: «Кто у вас самый главный? Я вижу, что родители оба голову потеряли». Я ответил: «Я самый главный. Я и Кира. Но Кира – наша старшая – уехала к жениху». Тогда профессор сказал: «Вызови-ка на кухню отца, молодой человек. Мать не пускай. У мальчика менингит». Я вызвал отца и следил, чтобы мама не выходила. А она норовила выйти. Ксана и Вероничка держали ее за подол и обе ревели так, что тошно было, потому что не к месту, надо было срочно принимать меры.
Вызвали неотложку. Саше отвели «бокс» (потому что слабый и глухонемой). Вместе с Сашей поехала мама. Ей поставили в «боксе» кровать для круглосуточного дежурства.
Я сказал, чтобы сразу отправить тебе телеграмму. А мама: «Ни в коем случае. Ей – жить. Она молода. Мое дитя – я в ответе. Я и отец».
Мы тебе не писали все это время потому, что не знали, что написать. Врать не было времени. В школе мне дали отпуск. Я дежурил с мамой по очереди. Не хочу тебе ничего описывать. Только поверь, что я делал все! Бее асе делали. Два раза были консилиумы. Сказали: «Он без сознания». Но я знал, что в сознании. Я спрашивал: «Саша, ты меня узнаешь? Если ты узнаешь, так закрой глаза». И он закрывал глаза – стало быть, понимал. Я с ним говорил так, как ты говорила: в щеку. Врачи сказали, что у него не выдержит сердце и чтоб все время давать ему что-нибудь пить. А он совсем ничего не ел и не пил. Я придумал кормить его из пипетки. Круглые сутки кто-нибудь из нас сидел рядом. Круглые сутки мы поили его из пипетки. Минуты не было, чтоб никто не сидел. Мы ему все время вливали соки. Но он уже не мог глотать. Потом мама заметила, что глаза у него как будто не двигаются. Врач подтвердил: «Ослеп». Когда мама это узнала, она почему-то уснула и долго спала. Я сказал отцу: «Отец, дадим телеграмму Кире». А отец: «Отстань. Не до вас».
Это продолжалось четыре дня. Один раз я ночевал дома. Утром, в восемь, вышел – иду в больницу. Больница – пригородная. Я как чувствовал что-то неладное. Но когда дошел до самой больницы, мне навстречу вынырнула из-за угла женщина с полными ведрами. Я вспомнил, что когда ты держала экзамен по алгебре, ты сказала, что тебе попался кто-то с полными– ведрами, и ты заранее знала, что сдашь.
Успокоился. Захожу в бокс. В боксе отец и мать. Мать лежала почему-то на одной кровати с Сашкой, и оба спали. А отец сидел рядом. Когда я вошел, он сказал: «Тише!» А потом: «Сашка умер. Нету нашего малого».
И я ничего ему не ответил.
Ушел. Я шел по улице, шел и шел. И потом я подумал: «А что я тебе скажу?!»
Дорогая Кира, поверь! Я все делал, я сдержал слово. Когда ему два раза делали переливание, я просил, чтоб взяли кровь у меня. Но они не взяли.
Кира, все, что ты захочешь, я, честное слово, для тебя сделаю, и я, и Ксана, и Вероничка.
Больше недели мы не могли тебе написать. Мы не знали, чего писать.
А мама все делает так же, как раньше. Но сильно осунулась. Когда свободна, все время лежит. А теперь отец разрешил написать, потому что говорит: «Жизнь есть жизнь. Не мы вольны над жизнью и смертью. Ты, – говорит, – напиши, Кешка, а я не буду». И тут явились две дуры – Ксана и Вероничка и сказали, что ты уехала в Африку, только чтоб отцу и матери ни слова не говорить. Но я не поверил, конечно, потому что знаю, что все вы врете.
Остаюсь навечно твой брат
Ксаверий.
А теперь под диктовку от мамы:
Дочка! Горе пришло, постучалось, вошло к нам в дом. Я-то знала, что он не жилец, что он наш короткий гость. Что ж об этом? Сколько раз я ругала тебя, сколько раз я через тебя убивалась, плакала, сколько раз, бывало, ночи недосыпала. Но вот что сказать обязана: Кира, прими мой поклон. В ноги кланяюсь. Прими материнское благословение. Матерью ты ему была. Ты была его радостью. Последнее слово, что он сказал, когда мог еще говорить, было не «мама». Он сказал: «Кия». Слез нет. И все я себя корю. А за что – не знаю. Уж ты прости меня, ежели что.
Мама».
Он полулежал у печи, повернувшись к Кире спиной. И вдруг – за его плечами стало как-то уж очень тихо. Не было слышно даже ее дыхания. Напряженная, страшная тишина…