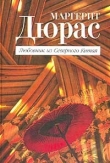Текст книги "Лгунья."
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Лайна, существительного «устремленный» – нету! Не существует.
– До чего ты мне надоела, девочка. Я – фея. Грамматика – не отчизна фей.
Стало тихо.
– Лайна, мне страшно. Не засыпай.
– Кира, с той самой поры, как я обернулась камнем, я никогда не сплю.
– Лайна, скажи, «устремленные», это люди высокой жертвенной совести?
– Может быть, может быть… Но ведь страсти – они бессовестны. Удивительный век – век, когда совершенно забыли о феях! И мало думают о любви. Всех вас занимают вопросы совести. Кира, когда на земле еще жили феи, люди пели песни о доблести и любви. – А теперь вы поете о труде и войне. Но самые ваши любимые песни и сказки – о совести.
– А ведь я – красивая, Лайна! Верно?
– Девочка, разве любят самых красивых? Красота – великая сила, не спорю, ведь она дает человеку уверенность, поэтому красивый, случается, бывает и сильным…
– Лайна! Может, это плохо – любить? А?.. Валяй, говори правду!
– Валяют валенки, девочка. Я – фея, я не могу «валять». Я звеню. Любить – неплохо, любить хорошо. Но любящий не бывает силен. Он – уязвим. А в жизни действует право сильного, а не право правого.
…Звякнула дверца печи. На пол упали поленья. Присев на корточки, Жанна принялась разводить огонь.

– Лайна, ты здесь?
– Помолчи! Разве не понимаешь – меня затопили… Дай огню разгореться…
(И в сумерках занимающегося дня блеснула крошечная серебряная корона.)
– Лайна, ты уже разгорелась?
– Да.
– …Знаешь ли, я была еще совсем маленькой. И вот наш папа вдруг захотел уйти, оставить маму и нас. Он ушел. Мама сидела на табуретке и держала на руках Кешку. Она не плакала. Плакал папа. Я сказала: «Папа!» Он не ответил и начал спускаться с лестницы. Я – за ним. Я кричала: «Папа!» Он остановился и поднял меня. Я была очень маленького росточка, мне было четыре года. Я обняла папу, я уперлась в его щеку открытым, плачущим ртом.
Он сказал: «Осторожно, дочка, ты же меня задушишь». И повернул назад со своим чемоданом. Я помогала ему нести чемодан, а он мне сказал: «Не путайся под ногами».
Потом, когда я сделалась старше, папа рассказывал, что любил балерину, которая скакала в цирке на лошади. Она была очень красивой, говорил папа.
– Кири, вставайте! Раш-раш. Уже восемь утра.
– Доброе утро, Жанна. Какая странная у вас печка! Всю ночь ужасно громко гудела тяга и звякала дверка.
– Да что вы, Кири, я только что растопила ее. Кто ж топит на ночь? Спать будет плохо. Жарко… Со вчерашний вечер до самый утра я не подходила к печи…

«Дорогой папа!
Ты получишь мою телеграмму из Лауренса и постановишь, что я завралась. Однако, как это ни удивительно и ни странно, в Лауренсе на самом деле сгорел университет. (Вас небось пригласят на восстановление.) Другое дело, что я и не собиралась держать экзаменов и соврала тебе на корню – тогда еще, когда ехала в Лауренс. (Мне нужно было попасть в Санамюндэ. Ловко?)
Сева Костырик отчислен из института по милости твоей дочери, ему не дали возможности защитить диплома. Его отчислили, а потом призвали и отправили на острова. Что хочешь, то про меня и думай! Валяй! Но видишь ли, отец, я не только перед Севой без вины виновата, а еще и люблю его. Ничего не поделаешь! Вот. В таком духе, в таком разрезе. Люблю.
Речь, однако, не обо мне. А о нем. Свяжись с Костыриками. Не ради себя и не ради меня, а ради истины. Добейсявосстановления Севы. Ты у меня толковый, я знаю, ты все сделаешь правильно. (А я бестолковая – не в тебя.) Была толковой, и вдруг – любовь. Меня сорвало со всех катушек. Я еще дома хотела тебе рассказать, но ты был в Киеве и возвратился, когда Севку уже отправили на Санамюндэ… И разве ты бы мне дал согласие, чтобы я помчалась за ним? А я должна была его разыскать. Ведь ты не забыл, надеюсь, какой это кошмар – любовь?
Папа! Сегодня ночью мне приснилась странная вещь: будто мне года четыре и будто я бегу за тобой по лестнице, чтобы оторвать тебя от твоей любви. И только сегодня утром я поняла, чем ты пожертвовал для нас.
И кланяюсь тебе в ноги. Ты, по моим понятиям, очень-очень порядочный человек. Я всегда это думала. Но на всякий случай пишу, чтоб ты никогда не сомневался в моем отношении.
Ты никогда нас не попрекал своим военным прошлым, не требовал ни уважения, ни почтения. И за это я даю себе труд понять, что жизнь у тебя была не особенно легкая, как и у всего твоего поколения, отец. Но ты нам не говорил: «Экая пошлая молодежь!» А максимум: «Мы в ваши годы – были поаккуратней!»
Ваша жизнь и на самом деле была и жертвенной, и целеустремленной. Вы жили для будущего и отдали очень много: молодость, силы, сердце. Мы знаем – вы отдали лучшие дни своей молодости – не танцевали и не носили галстуков. (Я читала Пантелеймона Романова «Без черемухи».) В общем, вы себя отдавали идее, стране. А на нас сердитесь. Вот чудаки! Рождать нас мы, между прочим, вас не просили. Но ты-то как раз никогда ничего от меня за это не требовал. И поскольку такое дело – то я действительнотебя уважаю. Не сердись, отец. Все с твоей дочерью будет так, как ей нужно. И хорошо. Только так. Ясно? Дай мне жить своим умом, своим сердцем. Идет? И помни – совесть есть даже и у меня. Ну ладно, пусть не совесть, а совестишка, – а все же есть. Я выросла и многое пересмотрела. (Помнишь, когда я была еще в шестом классе, я говорила, что выйду замуж только за вора, потому что воры отчаянные, а я уважаю отчаянных.) Севка не вор, а я здесь. По причинам совести. (Вру! По причинам любви.)
Папа, пойди к Костырикам. Поговори с его отцом. Пойди к самым главным военным начальникам. Прошу тебя. Я люблю тебя.
1) Здесь я устраиваюсь на работу и твой хлеб есть не стану.
2) Не огорчайся: учиться я буду. Но не ради того, чтобы отовариться высшим образованием. Просто хочу, и все.
В общем – не унывай, все в порядке. В Санамюндэ, по-моему, мирово! У моря я, правда, еще не была, но сейчас закончу письмо и подамся в ту сторону, посмотреть маяк. Здесь хорошо. Местные ребята, куда бы ни уезжали, всегда возвращаются на Санамюндэ.
Пишу и вижу, как ты приходишь домой поздно вечером, как ты хлебаешь суп, – лицо у тебя как будто припудренное. (Это от известки – да, папа?) Папа – Саша! Вот и все. Ты мне лично ответишь за Сашу.
Никому не показывай это письмо. Целую и остаюсь
Кира.
Пиши до востребования».
– Примите, пожалуйста, заказное письмо.
– Одна минуту… Вот… Вам – посылочка. Распишитесь.
Кире протягивают обшитый шелком спичечный коробок.
На подушке из ваты дремлет серебряное кольцо с голубым камнем. Тут же крошечная записка.
«Родная моя любимая девочка! Посылаю тебе колечко. Бирюза – это камень завоевателей. В старые времена воины пришивали бирюзу к своим седлам. Будь сильной, будь мужественной.
Твой любящий друг
Валентина Ржевская».
Вспыхивали окна домов, мимо которых ехал автобус. Их свет осторожно вплывал в темноту вечера. В каждом доме зажигалось только одно окно. Хозяева экономили деньги и электроэнергию.
Кира уже успела узнать, что здесь на окнах бывают шторки, присланные из Швеции, ей уже рассказали, что в каждом особняке есть погреб, а в погребе – пиво (Санамюндское, очень пьяное). Она уже знала, что по ночам никто на окраинах острова не запирает своих домов…
Автобус едет по широкой шоссейной дороге.
Дремлет лес. Спят зайцы.
Интересно, а может ли кто-нибудь оскорбить зайца? А медведя? А белку? Их можно убить. Поранить. Не дать им есть… Ну а если их оскорбить?
Деревья, стоящие на опушке – по обе стороны асфальтированного шоссе – мерцают бело и коротко. Загорятся – и снова ночь, ночь… До следующего автобуса.
Пахнет морем.
Море!.. Кира помнит: в Артеке – рыжий песок, упругий и зубчатый, принявший форму волн… «Ночью я просыпалась и думала: «К морю!»… И вот – я в море! Плыву, как лягушка, размеренными движениями, чтобы не задохнуться от счастья. Синее море, пустыннее мэре, широкое море…»
– Конечная остановка! – объявляет кондукторша.
Автобус вздрагивает и останавливается.
Перед Кирой – пирс – место прибытия морских судов. Мостки, покрытые соляной пылью…
А море? Неужто эти вздыбившиеся бугры и есть волны?!
Меж оледеневших вод сверкают узкие полосы – а над ними стеклянные перекаты. Вмерзнув в лед, стоят у причала баржи. Они тихо раскачиваются… Над Кириной головой гуляет студеная свежесть морского ветра. Ветер дует в затылок, вытягивает кончики старого шарфа и тащит его вперед, вперед – туда, к берегам Швеции…
На пирсе стоит сутулый подросток в темном пальто и отцовской шапке, надвинутой до бровей. Не девчонка, а запятая на белой странице снега.
Маяк… Он уставился на нее огромным зеленым глазом!.. Над маяком, над Кирой, над студеным дыханием моря – властным, скрытым, печальным, глухим и страшным – большое небо, уже начавшее темнеть. В небе гуляют ветры. «Угу-гу!» – поет зюйд-вест у нее на зубах. «Угу-гу», – улюлюкает норд, вздымая поземок. «Угу-гу», – отвечает Кира, придерживая руками в Жанниных варежках отцовскую шапку.
– Гражданка, что вы тут делаете? Пройдемте. Без разговорчиков. Предъявите-ка документ!
– Чего орешь? Я, кажется, не глухая.
– Прекратим разговорчики. И попрошу не тыкать: я на посту.
Здравствуй, море! По твоим поэтическим берегам ведут прибывшую из Москвы Киру. На плече у солдата винтовка.
…Оконные стекла той будки, куда приводят московскую девушку, золотятся испариной. Сияет навстречу Кире яркая пасть времянки.
– Вот, – говорит Кира, – Пожалуйста… Паспорт, пропуск, школьный диплом,
– Вы что ж, приезжая? Из Москвы? – нахмурившись, спрашивает конвоир.
– Нет: француженка. Из Парижа! Отдай, же ву при, мой пропуск, я рассеянная, еще, чего доброго, потеряю… Привет, ребята! Дайте-ка закурить.
– Скажи, ты, делом, не чокнутая?
– Товарищ старшина! Пусть он извинится… Он меня обозвал чокнутой.
– Ну и что?
– А то, что он на посту! Он обязан соблюдать вежливость.
– Иванов, извинись. Скорей. И пусть она сматывается.
В караульную будку заглядывает офицер.
– В чем дело?.. Вы что?! Караульное помещение превратили в теплушку?
– Я проверял документы гражданки, – вытянувшись, рапортует солдат. – Ока стояла на пирсе… Докладываю: документы в порядке. Сержант Сердюк.
– Ребята, – говорит Кира, – я приехала к солдату Костырику… Может, вы его знаете? Севка… Севка Костырик.
– Да нет… Не знаем…
– Мальчики! Как мне его найти?
– Обратитесь к начальству, гражданским можно и без доклада.
– Ни за что! Не пойду. Не буду я унижаться. Мы говорим на разных языках.
– Чудачка, да какое же тут унижение?.. А кем вы ему приходитесь? Сестрой, что ли?
– Эх вы, горе, а не детективы. Вы же только что смотрели мой паспорт… Я – Зиновьева, не Костырик, значит я не сестра… Я его сударушка.
– Ой лопну, ой здорова врать! Ты ж малолетняя.
– Ребята, тише… Сейчас явится офицер, и он будет прав.
– …Ну знаете ли… Вы просто безграмотные, в моем паспорте ясно сказано – ровно семнадцать лет.
– Спектакль, ну прямо спектакль!.. Ты, делом, не киноартистка?
– С первого курса ВГИКа. Ребята ошеломлены.
– Вот что я вам посоветую, – раздумчиво говорит сержант. – По воскресеньям мы ходим в кино. Видели клуб в центре города?.. Так вот: приходите-ка в воскресенье на первый сеанс – просидите все шесть!.. Так, пожалуй, будет самое верное дело.
– Спасибо! Большое спасибо!.. До воскресенья, мальчики.
Задумчиво шагает Кира к автобусу.
«…Это уже было со мной когда-то: и вечер, и этот снег, и орущие рыбаки…»
Одна – в огромном заиндевевшем царстве… Одна, одна!..
Все тесней и тесней обступает Киру остров с домами, в которых не закрывают на ночь дверей; с черепичными крышами, с трубами, из которых валит дымок…
Время пройдет, и, быть может, память об этих крышах, серых дымках и ветряных мельницах ей покажется счастьем?..
А вдруг это и было счастье?
…Взмахнула издалека, навстречу Кире застывшими, большими руками старая мельница, полоснула небо отчаянно и угрюмо.
За окнами автобуса густо и нежно засинел воздух… Из лесу тихо: ыходчт ночь. По правую руку – дома, у заборг – чьи-то салазки… Интересно, а где живет их местный тролль – Пёк?
Сквозь морозные узоры на окнах просвечивает фонарь. Вспыхивают искры, прочитываются слюдяные горы… Свет в этом царстве смахивает на северное сиянье.
Погас фонарь. Мир льдов, мир холода стал еще шире, еще печальнее. Комнату пронизало резким серебряным светом: это взошла луна. Блеснула в упругом ее луче серебряная корона.
Кире слышится голосок:
«Только влюбленный имеет право на звание человека».
– Лайна, почему на вашем острове живут феи?
– Наш остров умеет любить свое прошлое. Фея – это, как лепные «ростры» на кораблях, вот почему у нас сохранились феи. Мы любим историю, ну а феи – не так ли? – это история…
– Как ты безграмотна, Лайна! Феи вовсе не принадлежность истории, они принадлежность сказок.
– …Глупая! Сколько раз мне надо тебе повторять, что самолет – не больше как скромный ковер-самолет; что воздушный корабль «Восход-3» – создание волшебников… Между прочим, один из них был сильно в меня влюблен. Я была юной, юной… позорно юной. Ай-ай-ай, как я была молода… Как позорно я была молода!.. Скоро в Москве будет выставка с фотографиями Луны. Океан на Луне тот колдун наречет: «Океаном Лайны». А если это название не утвердят в инстанциях, он назовет его «Океаном моей любимой»… Знаешь, Кира, что на землю острова Санамюндэ упал когда-то метеорит!!
– Треплешься, Лайна!
– Нет. Я – фея и не могу трепаться: треплются полотнища, волосы, паруса… Знаешь ли ты, что на острове Санамюндэ замечательные мореплаватели?.. Моряк, настоящий моряк – это мужество и воображение. Много раз мой отец совершал путешествия вокруг света на парусном бриге…
– Отец?! У тебя?
– А как же! Ничто в Галактике не умирает. На острове Санамюндэ – древнее море и древние камни. Это наши леса, наши мельницы!.. Мы воевали в Отечественную войну… Мы победили в Отечественной войне.
– Лайна, я гуляла вчера по вашему центральному парку, увидела памятник и осторожна смахнула снег той варежкой, что мне подарила Жанна.
«…Герой Союза…
Владимир Сергеевич Васильев».
– Да, да… Он был русским, этот солдат. И защищал наш остров. Он был так молод! Ему еще не минуло девятнадцати лет. На его могилу приезжала старуха мать. Из города Суздаля. Народ!.. Это много-много людей… Цепь людей – она длинная, как века. Девочка!.. Человеку дана одна единственная сильная страсть. Не две. Солнце – печка нашей Галактики. Страсть у человека бывает одяа-единственная, так же точно, как над Землей – одна-единственная, добрая, старая печка: Солнце. Когда солнце ложится спать, луна зажигает серебряную свечу в голубом подсвечнике. Свечение ее – красиво, но от лунного света не родятся другие жизни… Кира! Знаешь ли ты, что подлинная любовь не ведает самолюбия!!.
Снежные улицы рассекают широкие мостовые. На мостовых – ребята с салазками; пожилая женщина толкает какой-то стул. Под стулом – полозья. На сиденье стула картофель и мясо.
По обеим сторонам улицы – магазины и магазинчики: зеленная, – на витрине картофель, брюква, морковь. Они выглядят так, как будто бы их умыли.
Вот – маленькое, угловое зданьице, парадная дверь без крылечка, над дверью вывеска:
«Часовщик».
Кира толкает двери. В ответ раздается стеклянная музыка.
У притолоки – пожилой человек – инвалид Отечественной войны: безногий.
– Это вы часовщик?
– Да.
Лицо у него солидное, интеллигентное. На носу – пенсне, а его мастерская увешана удивительными часами. Откуда они пришли и как сохранились?!.
Вот часы – швейцарские. Бьет четверть… Выскакивает девушка в острой тирольской шапке; вслед за ней – юноша [тоже в тирольской шапке). Обнялись и поцеловались.
«Тик-так».
Принимается куковать кукушка: раз, два, три… Пять раз.
Вдоль стен висят десятки ручных часов: золотые, серебряные, большие и маленькие. Вот луковичные часы, величиной с ноготь. Неужели и это часы?!
– Что хочет барышня? – спрашивает часовщик.
– Починить часы, – говорит Кира. – Это мне отец подарил, когда я окончила школу… Но я их где-то ударила, и они остановились.
– Не беда, – улыбаясь, говорит часовщик и берет часы из рук Киры.
В мастерской висит большущее зеркало. Кира невольно глядится в зеркало и видит девочку лет пятнадцати. Она элегантно подстрижена. (Эта девочка бедная-бедная Кира, которой еще недавно было шестнадцать, семнадцать лет.)
Кира зажмуривается… Потом медленно открывает глаза…
Утешая ее, часы поют свою песню о вечности: «Подумаешь! Четырнадцать – восемнадцать! Тик-так… А волосы что ж – они не только отрастут, они со временем поседеют… Время, время!.. Когда-то мы – Часы – были самыми сложными из всех земных механизмов, и мы изволили вообразить, что значительны – как Вселенная. А теперь нам на смену пришли другие машины. Кибернетика! Каково? Руки умных машин повторяют движения рук человека… Все относительно, Кира, все относительно, относительно (одним словом, смотри теорию относительности Эйнштейна). Ты – вырастешь, ты постареешь, ты поседеешь… Но не умрешь. Ты превратишься в русалку, в рыбу, в птицу, в цветок. Тик-так, вот так, вот так… Твои волосы отрастут. А бессмертный твой атом будет странствовать во Вселенной. Вот так, вот так!..»
– Спасибо. Сколько я вам должна?
– Тридцать две копейки.
– Барышня прекрасна, как Лайна! – улыбнувшись, говорит часовщик.
– Безволосая Лайна, – печально и насмешливо отвечает Кира.
– Лайна может отрастить волосы… Это не ампутация ног. Но Лайна обязана соответствовать времени. У всякого времени свои понятия о красоте.
– Разумеется… И о добре. И о зле. И о тех словах, которые можно и которые нельзя говорить.
– Юный друг, вы, должно быть, не знаете, что Андерсена в свое время корили сентиментальностью? Люди путают подлинность чувств, говорящую о размахе души, с неуважительным и немодным понятием – сентиментальность. Но время показало великую стойкость сентиментальности. Это говорю вам я – часовщик – представитель суток, минут, секунд, представитель времени… Без чувства и воображения – не сварить похлебки, не испечь хлеба…
– Зачем вы заговорили со мной о похлебке? Я вспомнила, что мне хочется есть! До свидания. Спасибо за поддержку по поводу этой дурацкой стрижки. Сейчас я закажу мясную солянку! А? Как по-вашему?.. Все! Я твердо решила: забудусь в мясной солянке.
У Киры всего лишь десять рублей… Может, не жрать? Жрать – распущенность, – она читала это в журнале «Здоровье».
…Круглые, небольшие столы, покрытые крахмальными скатертями.
– Я вас слушаю, – говорит подавальщица.
Три порции взбитых сливок.
– Три штук?!
Кира кивает.
Подавальщица приносит три порции взбитых сливок. На Кирин стол оглядываются соседи. Но разве она замечает их?! Забыв о терзавшей ее любви, Кира медленно погружает чайную ложку в облако взбитых сливок.
Оставьте Киру!.. Она – в раю.
В ресторан заходит компания молодежи: четверо юношей и одна девчонка.
«До чего красивая», – восхищается Кира. Светловолосая, с нежным лицом, в котором нет ни одной определенной черты, девочка до того хороша, что Кира не может оторвать от нее осоловелого сытого взгляда.
– Вы кто, ребята?
– Местное радио.
– Я – москвичка, мне надо срочно устроиться на работу. Здесь у меня жених… Что вы мне присоветуете?
– Поезжай на рыбный, консервный, – говорит девушка, – у них заболела заведующая лабораторией, они просили кого-нибудь со средним образованием и чтобы говорил по-русски. Если будет ходатайствовать твой жених… Он солдат? Да?
– Солдат.
– Раньше это было сложнее… Теперь у нас многих берут на работу.
Мальчики записывают Кире адрес завода на пустой коробке от папирос.
– Как тебя зовут?
– Кира. А тебя?
– Пауль. Что ты делаешь завтра вечером, Кира?
– Мышей ловлю.
– Дай-ка мне адресок. Я заброшу тебе мышеловку.
– Не надо. Весь остров для меня мышеловка. Ведь здесь у меня – жених!
Огромно тело завода. Ревут его трубы. В серое небо валит желтый тяжелый дым.
Бегут машины, выстукивая свой бег. Бегут. Льется белая смазка.
Сколько раз она слышала о заводах, сколько раз пропускала в книгах страницы о производстве.
Однажды их водили всем классом в большую инструментальную мастерскую. Все вокруг стучало… Под их ногами валялась синяя, еще тепла», еще не начавшая остывать стружка.
…На острове Санамюндэ сквозь заводские окна видны снега. Снег, снег… Завод стоит на самом берегу моря. Раскачиваются вмерзшие в лед баржи.
Сперва день был тусклый, пасмурный… Потом появилось солнце. Появившись, оно шибануло в снег – и все вокруг заблестело, заискрилось…
Стучит завод. Машины выстукивают свой бег.
И вдруг – тишина. Перед девочкой – два огромных цеха, выложенные светло-голубой плиткой. Вдоль стен – столы. У столов – женщины. Пахнет рыбьим жиром и потрохами: разделочные цеха.
Столы, у которых стоят работницы, залиты кровью. Кровь, кровь… Все вокруг в крови – столы, руки женщин, их фартуки. В огромных бочках отсвечивают розовым и сиреневым, желтым и голубоватым рыбьи внутренности – рыбьи сердца и желудки.
Женщины относятся к этому спокойно, по-деловому.
Как настоящие производственники. Но Кира… Кира – не производственник.
Не смотреть в ту сторону! Только в окно, в окно.
Рыбины! Большие и маленькие. Они извиваются, беспомощно открывают рты… И никто решительно, кроме девочки, этого не замечает. Люди спокойно работают.
Груды, пригоршни серебра – это рыбьи перышки – их чешуйки… Они на столах, на руках, на клеенчатых фартуках у работниц.
Киру слегка тошнит… Ее тошнит потому, что рыбы рвутся из человечьих рук. Зачем они бьют хвостами?.. Зачем у причала, – если глянуть в окно, – так медленно, так глухо и однообразно раскачиваются баржи?
В голове – стукоток, в ногах – слабость. Пол, покрытый серым блестящим линолеумом, кажется скользким. Вперед! Скорей.
Когда Кира подходит к кабинету заведующего производством, она замечает, что лоб и волосы у нее отчего-то сделались влажными.
Передохнуть. Успокоиться. Улыбаться с видом бывалого человека. Дочь рабочего – она только и делала, что работала на заводах!
Стены в крошечном кабинете выложены голубым кафелем. У небольшого стола сидит нестарый человек в поварской шапке и белом халате. Щеки розовые, ресницы и брови – светлые, золотые, пухлый, ярко-розовый рот (образец здоровья! Дует небось рыбий жир).
– Вы ко мне? – по-русски говорит мастер.
Кира опускается на выкрашенную эмалью блестящую табуретку, переводит дыхание, стягивает с головы шапку.
– Сейчас… – говорит она… – Я – москвичка, мне сказали – вы ищете человека со средним образованием… И чтобы говорил по-русски. Вот я и пришла. Меня прислали ребята. Из радио. Я приехала к жениху-солдату.

– Документ при тебе?
– При мне.
– Через четыре дня у тебя кончается пропуск, – нахмурившись, говорит мастер. – Но это бы не беда, оформишься – станешь местной гражданкой… А есть где жить? Мы общежития не даем… Однако… понимаешь, какое дело… Было у нас местечко в лаборатории, но позавчера мы нашли одного парнишку. Демобилизованного. Что мне делать с тобой? Вот разве в работницы?.. Не знаю, что тебе присоветовать. Пока не будет разряда, придется взять тебя ученицей…
– Именно это я и имела в виду, – не дрогнув бровью, говорит Кира.
– Он у тебя по какому году?.. Ага… Но месяца два или три, Зиновьева, тебе, понимаешь ли, не заработать даже тридцати рублей…
– Что ж делать, как-нибудь проживу.
– Подналяг. За нами дело не станет, как только поднатореешь – дадим разряд.
Улыбаясь и сияя глазами, Кира уходит с завода.
И только на улице, оглянувшись – нет ли кого поблизости, – она потуже завязывает тесемки от шапки-ушанки.
«Ничего. Рыбий жир – полезен. Он очень, очень полезен… Рыбий жир – это хорошо! В нем – витамин «А». В нем, в нем… целый ряд других витаминов..»
К остановке подкатывает автобус.
* * *
Пять утра. Валяй – просыпайся!
Мороз и солнце, день чудесный!Еще ты дремлешь, друг прелестный.Пора, красавица. проснись!Открой сомкнуты негой взорыНавстречу Северной Авроры.Звездою севера – явись!
…Явилась. Звездою севера. Стянула пальто, закатала рукава фланелевой кофточки. Надела рабочий халат. Ей выдали под расписку огромный и острый нож.
«И вовсе я не чувствую запаха рыбы. И меня не тошнит. И никакая я вовсе не ученица Консервзавода. Я кухарка. Мы едем в Африку. Я готовлю обед для команды».
Вечор ты помнишь, вьюга злилась,На мутном небе мгла носилась.Луна, как бледное пятно…
Потеснившись, Кире освободили место у разделочного стола. Женщины переговариваются друг с дружкой. Кира не понимает ни слова. Справа и слева чьи-то руки потрошат рыбу. Рыбы бьют хвостами, таращат глаза.
Не думать, не отвлекаться. Живей! Веселей!
Почему никто ей не помогает? У них есть бригадир, он обязан ей показать хоть раз, хоть один разок… А как он покажет, если с Кирой не объяснишься?!
Кира внимательно смотрит на руки старых работниц. Так, так. Поняла.
Хлещет кровь (рыбья кровь). Рыба бьется. Она – живая.
…Блестя не солнце, снег лежит.Прозрачный лес один чернеет,И ель сквозь иней зеленеет…
Итак – начнем!
Ветер раздул паруса на бриге. Бриг отчалил берега. Плачут женщины. Они машут платками.
Порт. И еще один. И снова порт…
Я вышла на палубу. На мне – белый фартук кока (кухарки).
«Привет, красотка! (Так мне говорят моряки с берега.) Ты откуда взялась, красотка?»
Вперед, мой бриг! На его носу лепная фигура: женщина с волосами, похожими на тонкие трещины. Ее голову венчает крошечная корона.
Я гуляю по Африке. В Африке на каждом шагу продают бананы. Как славно пахнут бананы!
Хочется пить. Пожалуйста. Вот. Таверна.
«Дайте мне эля!»
…Кровь, кровь, кровь. Рыбы бьют хвостами, они выскальзывают из рук. У Киры кружится голова. Вот что значит подлинные работницы… Они смеются и разговаривают друг с другом!..
Гудок. Все вокруг останавливается, наступает глухая, полная тишина. Что ж это такое?
А ничего особенного: обеденный перерыв.
Работницы тщательно моют руки. В кармане у каждой – мыльница. В мыльнице – душистое мыло.
«Как же быть? У меня ни мыла, ни полотенца?.. Вот обмылочек, ничего, я этим обмылочком, этим обмылочком!..»
– На! – говорит, улыбаясь, какая-то женщина и протягивает ей мыло.
Женщины идут на второй этаж. Кира – за ними. Женщины становятся в очередь. Кира – за ними. Женщины платят каждая по двадцать копеек. Кира – не отстает. Женщины садятся к столам.
На каждом столе – цветы. Кира любит герань. Она садится к столу с геранью.
Женщины едят превосходный борщ со сметаной. Кира – не отстает. Женщины едят котлеты и картофельное пюре. Кира – не отстает. Кисель… Превосходно! Здесь не пропадешь с голоду.
Звонок. Работницы устремляются вниз. Кира – не отстает.
Привет, Бразилия! Я в Буэнос-Айресе. Меня тошнит. Улицы Буэнос-Айреса пахнут рыбьим жиром и потрохами.
«Кто подарил тебе это платье, красотка? А серьги? А это кольцо, красотка?»
«Мой возлюбленный. Он – моряк».
Возлюбленный, рыба – живая, живая, живая… Каково мне сдирать с нее чешую?
«Кириллка, да ведь это вовсе не чешуя – серебро!»
…Горы, груды, пригоршни серебра. Оно на халате, на руках Киры. Несметные богатства моря, вышвырнувшего людям свои богатства.
Гудок (нынче суббота – короткий день).
Девочка тщательно моет руки, тщательно, очень тщательно обтирает их носовым платком… Волосы! Да что же это такое? Ее волосы в рыбьих чешуйках (то бишь в серебре). У работниц на головах косынки, а Кира не знала, что надо с собой прихватить косынку.
Снять халат, обтереть волосы, натянуть пальто…
От платья здорово пахнет рыбой. Как быть? Значит, шуба тоже пропахнет рыбой?
Вместе с халатами женщины поснимали рабочие платья – переоделись. А она ничего с собой не взяла.
…Автобус летит вперед. Кира смотрит в окно. Она занята хозяйственными заботами.
«…Мыло – раз; два – картошка; хлеб (можно черный, не обязательно белый). Соль можно взять у Жанны. Не покупать же соли! А?.. Как по-вашему?»
– Почта! – объявляет кондукторша.
«Дорогие девочки, Ксана и Вероничка! Я уезжаю в Африку – еду кухаркой – «коком» (так зто называется по-морскому).
Решительно прошу вас маме об этом ни слова не говорить. Убедительно прошу. По-товарищески.
Ко знакомым ребятам вы можете намекнуть – Кира, мол, едет в Африку.
Анне Афанасьевне, моему бывшему классному воспитателю, передайте от меня сердечный привет. Разбрелись по свету ее питомцы!
Мама, наверное, сердится, что я нечаянно прихватила ее пуховый платок. Но здесь так холодно! И не съем я ее платка.
О Сашке не спрашиваю. Мне страшно.
Я вас очень люблю и целую. В моем шкафу осталось четыре платья. Оба летних (ситцевое в горошину и сатиновое) я отдаю вам.
Девочки, приглядите за мамой. Если б вы знали, как может взрослому человеку недоставать мамы! А главное то, что я понятия не имела, как ее может недоставать! Помогайте маме, я вас прошу убедительно. Никто ей не помогает, и она никогда не жалуется. А я, понимаете, этого почему-то не замечала. Так что сделайте выводы.
Обнимаю. Целую
Кира.
Р. S. Из Африки отправлю посылку. Не плачьте. Больше мужества.
Ваша Кира».
У телеграфного окошечка стоит Пауль из местного радио (тот, что собирался забросить ей как-нибудь вечером мышеловку).
– Здравствуй, Пауль, – сияя улыбкой, говорит Кира.
– Что с тобой, Кира? Что у тебя в карманах? Селедка, что ли?!
– Сардины, – улыбаясь все веселее и победительней, отвечает она. – Я люблю сардины. Ну, бывай… Спешу! У меня ответственное свидание…
Сутуловатая, высокая девочка поднимается по лестнице клуба, разматывая платок…
– Привет, товарищ механик. Меня зовут Кирой. Кирой Зиновьевой.
– Ну и что? – хрипловатым баском отвечает он. – Допустим, ты Кира или Сапфира. Так что из этого вытекает?
– Я к вам за личной помощью… Понимаете?! – громким шепотом говорит она.
. . .
– Рядового Костырика, Всеволода Сергеевича просят пройти по важному делу к будке киномеханика. (Пауза.) Если в зале находится рядовой Костырик, то его срочно просят к будке киномеханика.
Солдат Костырик не появляется у будки киномеханика.
Кира ждет, она приказывает себе успокоиться, – расстегивает пальто…
«А вдруг он сегодня «дневалит»? А вдруг я прожду шесть сеансов и не дождусь?..»
Ей становится страшно.
А на экране, которому ни до чего нет дела, – рука ребенка, зажавшая ломоть хлеба, крыша отчего дома… Школьный учебник, переплетенный руками отца… Бежит по улице девочка и кричит: «Мама!»
Кира принимается плакать. Осторожно катятся слезы по Кириному лицу. Она дышит широко раскрытым ртом – боится всхлипнуть, чтобы не раздражить механика.
И вдруг его шершавые пальцы уверенно и нагловато приподнимают ее подбородок. В темноте кинобудки хриплый голос механика шепчет:
– Коза!
«Ну и пусть, пусть! А я как будто не замечаю! Он не схватил меня за подбородок. Он не сказал: «Коза»!
Неподвижность Киры подсекает инициативу механика.
Картина идет к концу. Девочка вытирает лицо ладонью.
В зале – свет.
Механик, уверенно улыбаясь, глядит в ее заплаканное лицо.