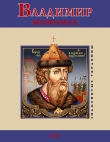Текст книги "Год Барана. Макамы"
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Хорошая получилась статья; за нее и выгнали. Тираж, который еще не успели распространить, изъяли; редактору за близорукость – строгача, а сам Ким вылетел из редакции, как мотылек из костра, с обожженными крылышками... Чтобы, покружившись в потемках, снова спикировать к огню. Его еще в детстве мать с бабочкой сравнивала и просила быть серьезнее, почтительнее к людям. Он обещал...
Так он поработал в нескольких изданиях.
Везде его ценили за скромность, исполнительность, знание узбекского. И везде старались избавиться от него после публикации очередного материала... Потому что сразу после публикации атмосфера в редакции сгущалась, телефон вскипал, гремели грома; под ледяными струями из редакции выносили главреда с обугленной лысиной; следом, волоча остатки опаленных крыл, брел Ким...
“Привет, диссидент!” – окликали его коллеги в кафешке возле Дома печати, где он вечно сидел с остывшим чайником, перебирая исписанные листы, вычеркивая карандашом, дописывая.
“Как делишки, как детишки? – Подсаживались к нему за столик, смахивали насыпавшую сверху чинарную листву. – Что новенького накатал?”
“Такое дело... Впритык к собору, ну, на Госпитальном, морг перенесли. Запахи, все такое. Верующие недовольны. А сверху на их жалобы чихают. Вот, материал сделал...”
“Не пройдет”.
“Думаешь? Я постарался объективно”.
“Тем более”.
Ким чесал голову карандашом:
“Отец попросил, отцу отказать не могу, до сих пор в эту церковь иногда ходит”.
“А у тебя что, отец... православный? Православный кореец?”
Ким кивал, вытряхивал из чайника последние капли и снова погружался в свои манускрипты.
Да, Виссарион Григорьевич Ким, опершись, почти повиснув на руке кого-нибудь из детей или внуков, продолжал раз в месяц бывать в соборе. Иногда его сопровождал Тельман. Тихо водил отца, как ребенка, от иконы к иконе, помогал зажечь и пристроить свечу, поддерживал, когда тот тянулся своими сухими, как луковая шелуха, губами к иконе. Отец молчал; только один раз, приложившись к иконе с молодым улыбчивым святым, почти детской внешности, пригнул к ней Тельмана:
“Это – твой... покровитель, Пантелеимон. Тебя Пантелеимоном крестили. Мать... Мать упросила тогда, чтобы тебя Тельманом в документе написали. Неверующая она, веру свою в том поезде потеряла... В аду будет... боюсь”.
Тельман склонился к иконе. Почувствовал губами стекло... Молчаливая семейная жизнь родителей, с юбилеем которой они, дети, поздравляли их не так давно, с вином и поклонами, теперь увиделась им по-другому. Тишина между ними, тишина понимания, нарушаемого лишь отцовским кашлем и хозяйскими шорохами матери, оказалась тишиной бесконечной удаленности друг от друга, когда два человека молчат оттого, что знают, что не услышат друг друга, что пропасть между ними не закидать и не залить никакими словами…
Мать, кстати, вскоре умерла. Тельман надел белую рубашку в знак траура.
А статью о морге возле церкви напечатали. И морг оттуда вскоре убрали. А Кима не только не лишили премии, не уволили, но даже привели на планерке в пример.
Началась перестройка.
У журналистов пооткрывались рты, из некоторых пошло даже что-то вроде пены. И Ким со своими материалами несколько потускнел на фоне своих более правдолюбивых коллег. Теперь его иногда даже журили на планерке, что пишет он недостаточно остро, а уж он-то мог бы!.. “Я стараюсь объективно, – отвечал Ким. – Не нужно объективно, нужно смело!”. Он пытался возражать, даже спорить. Дело закончилось очередным увольнением. Самым печальным.
– Почему самым печальным?
– Подруга у него была. Гел-френд, как теперь выражаются. Марианна. Я ей почему-то нравился. Переехал к ней на Лисунова. Стали жить.
– А как же ваше...
– Ну, с этим было терпимо. Детей только не могло быть. А она детей вначале не хотела, и так все хорошо. Она литературой интересовалась, аэробикой. Так два года жили, без всяких. А потом стала сигналить, чтобы я на ней женился. Говорит: съездим, что ли, в загс, как люди. Тогда про детей и вспомнила. Так вспомнила, что это у нее просто пунктик стал. По врачам начала меня таскать, к народным целителям, тогда это модно было, целители эти все. Доктор Кашпировский появился, она меня его по телевизору смотреть заставляла, руками, говорит, крути. И когда он в Ташкенте выступал, тоже меня туда.
– Помогло?
– Что?.. Нет, статью только написал одну, а интервью у Кашпировского взять не смог, не получилось. Так с ней и расстались.
– Из-за детей?
– Из-за всего. “Не сошлись”, как в таких случаях пишут. Она была пример командира в юбке. Даже не в юбке, а в брюках, джинсах, хотя, конечно, ей шло. Ну, я все терпел. Думал, раз любовь, так молчи. А потом все вдруг надоело. И команды, и джинсы, и суп этот ее. И то, что один раз про Владислава Тимофеевича сказала. Я ей тогда: “Ты запомни, те годы в хоре у меня самые счастливые были”. Она говорит: “А те годы, которые со мной?” И смотрит на меня. Мне надо было сказать, что тоже счастливыми, но в другом смысле, но я не нашелся. Это как пример. Ну, а потом я ее увидел с мужчиной. Она шла и что-то ему говорила. А тут еще это увольнение. Прихожу, а из квартиры мужчина выходит. Я зашел, спрашиваю, кто этот товарищ. Она: “Ой, держите меня, Отелло пришел!..” Сама кружки из-под чая моет, будто так и надо. Ага, думаю, у них здесь чай был, так и запишем. Закусил губу, собрал свои вещи и все. Пока собирал, она: “Ты что?”, а потом, когда поняла что, вопросов уже не имела. А я все молча делал. Не знаю, может, надо было ей что-то сказать...
– Если любишь, надо человеку что-то говорить, – сказал Москвич. – Для этого человеку язык и дается.
– Дается... Через неделю позвонила. Сама. Говорит, докладываю обстановку, я беременна. “Ким, ты можешь смеяться, но это так, чудо, понимаешь? Что молчишь? Да, ты – отец, ты, я все подсчитала...” Подсчитала. Я молчу. Полчаса молчал, пока она говорила. Только одно слово сказал.
– Какое?
– Через полгода встретились на базаре. Она покупала какие-то яблоки. Торговалась. Я поинтересовался о ребенке. Между делом. Она говорит: “Волны бьются о борт корабля…”. Тонкий намек на то, что сделала. Потом вообще уехала из Ташкента, все тогда уезжали. Звала на проводы. Я не пошел. Уважительная причина, отец тяжело болел.
Виссарион Григорьевич раньше никогда сильно не болел, и поэтому свою болезнь воспринял серьезно и ответственно. Перед тем как проглотить таблетку, надевал очки и внимательно читал инструкцию к ней, подчеркивая заинтересовавшие места ручкой. Потребовал, чтобы ему читали вслух все документы, которые хранились в их доме. Внимательно выслушал чтение своего паспорта, пару раз даже кивнул. Потом внуки прочли ему, громко и с выражением, домовую книгу и квитанции за свет, воду и газ. Виссарион Григорьевич лежал с закрытыми глазами и молча кивал. Только иногда открывал глаза. Это означало, что он что-то не понял или не расслышал и нужно прочесть заново. Несколько раз у него дежурил Тельман. Прочел ему вслух свое просроченное журналистское удостоверение; отец открыл глаза. Пришлось рассказать об увольнении из газеты, о том, что работает теперь в одном кооперативе. Отец закрыл глаза. Тельман читал другие документы, которые отец собирал, не выбрасывая, всю жизнь. Дошла очередь и до старого церковного списка:
“Нагрудников – 2 старых”, читал Тельман. “Беретки – одна пуховая, одна вязаная. Фуражки старые – 2. Платье детское старое – 1. Детские колготки
старые – 1. Моток ниток серых”.
Виссарион Григорьевич с закрытыми глазами одобрительно кивал.
В ночь перед смертью позвал:
“Пантелеимон... Пантелеимон”
Тельман поднялся, он спал возле отца, было темно и жарко.
“Не включай... – попросил отец по-корейски, не открывая глаз. – Хорошо, что все мои документы собрал. Когда депортировать начнут, все уже готово. Все документы, все с собой... Вон вагон уже подгоняют...”
“Отец, вы еще жить будете...”
“Я все молился, чтобы у тебя были дети. Возле той иконы, помнишь?..”
Через день Тельман натянул на соленое от пота и пыли тело белоснежную рубашку, знак траура.
После тридцати шести он почти не замечал время, только моргал иногда от его мелькания. Не выдержав кооператива, вернулся в журналистику. На чайник чая, лепешку и палочку шашлыка в кольцах лука и едкой уксусной росе хватало. Писал о высыхающем Арале; о челночницах в попугайском “адидасе”, трясущихся в тамбурах с баулами; о заводах с огромными, как стадионы, мертвыми цехами. Писал обстоятельно, любуясь деталью, радуясь новым людям, которых в избытке поставляла ему его профессия.
Какое-то время его печатали. Потом снова что-то поменялось в составе воздуха. Праведная пена на губах его коллег высохла, а сами губы сложились в уже знакомую ему мерцающую усмешку. “Что новенького накатал?” – Мерцали они над ним в осенних сумерках все у того же Дома печати. “Такое дело, – говорил Ким, двигая пустой чайник, – из ТашМИ больных всех на два дня выписали, даже тяжелых, американская делегация должна была приехать, они туда на места больных своих студентов положили, со знанием английского...”
Губы напротив, чуть подсвеченные сигаретой, сочувственно кривились.
Что это “не пройдет”, было ясно и без слов.
Родительский дом был продан, его доли хватило на однокомнатную на Куйлюке. Не хватило бы и на нее, но пара наследников, у которых были уже и квартиры, и машины, и растущий на дрожжах бизнес, отказалась в его пользу. Квартира была пустая и звеняще тихая; прежние владельцы вывезли все, оставив Киму только тараканов и невыветриваемый запах в ванной. Первой мебелью, которую он купил в квартиру, был компьютер. Расстелил газету, водрузил монитор. Включил. Процессор по-кошачьи заурчал, на мониторе заморгали цифры. Тельман, в трусах, сел в позу какающего мальчика и, выставив лысые колени, начал печатать.
Писал он уже в основном для сайтов, которые числились оппозиционными, а может, даже ими и были – Тельман не интересовался политикой, ему казалось, что она оторвана от жизни. Но некоторые из его бывших коллег уже писали “туда”, они и перетянули Тельмана в один из его чайных запоев у Дома печати. Денег в тот вечер на шашлык не было; он сидел с половинкой кукси, втягивая в себя полиэтиленовую лапшу. “Как делишки, как детишки?” – Опустился напротив один из “оппозиционных”. Ким печально поделился успехами, обрисовал последний материал...
“А что? – Усмехнулись напротив, – пойдет!”
Через неделю в интернете стали появляться статьи за подписью “Т. Баранов”.
– Тэ Баранов. Все понятно, – сказал Москвич. – Тэ Баранов! Да из-за тебя…
Бросился на Тельмана. Не успев ударить, резко отвалился назад, зажав рот. Застонал.
– Вы успокойтесь, – сказал Тельман. – Не моя это была статья.
Москвич все еще лежал.
– Что с ним? – наклонилась к нему Принцесса.
Москвич приподнялся на локте. Зачерпнул песок, провел по лицу.
Песок стекал по его скулам, подбородку, налипал на губах.
Статьи эти, за той же подписью, пошли не сразу. Через полгода. Даже через год. Возникали непонятно откуда. Из темно-лиловой пустоты, из мирового песка в модеме. Кто их писал, для чего и почему подписывал так же, как Тельман: “Баранов”?
В некоторых были целые куски из его предыдущих статей. Целые куски, даже стиль подделан. Другие были написаны чужим языком, с примерами из жизни каких-то восточных правителей. Некоторые, он был вынужден признать, были написаны даже лучше его собственных.
Тельман сидел за рабочим столом, почесывая колено. Опровергать? Я – не Баранов. Баранов – не я. Перед лицом Мировой паутины официально заявляю... Поменять псевдоним, взять новый, сразу несколько, пять, десять? Или подождать, пока остальным “барановым” надоест? Он глядел на расчесанное колено, на трусы цвета “Прощай, оружие”, снова в монитор. Статьи про политику, слив компромата, кабинетные триллеры, интимные репортажи, макамы, пиписькины сказки,
подпись – “Баранов”...
Его пригласили для беседы люди из серого здания, выстроенного в тридцатые в новоегипетском стиле в центре города. Человек из египетского здания оказался приятным по виду новичком; на Кима глядел с любопытством, все пытался узнать, сколько тот получает за клеветнические материалы; узнав, долго подсчитывал в уме. На прощанье пожелал творческих успехов, а также скорейшего прекращения подрывной деятельности: “Подумайте о своих детях...”. “У меня нет детей”, – сказал Ким. “Тогда о жене...”. – “У меня нет жены”. – “Тогда о ваших родственниках!” – “У меня нет родственников” (тогда начали шерстить бизнес, родня схлынула за бугор и не подавала сигналов). Египтянин допил кофе. “Тогда подумайте о себе. О самом себе. Вы-то сами хотя бы есть?”
Ким, конечно, существовал. Но не убедительно. Поменял псевдоним, с “Баранова” на “Козлов”. Отрастил, наконец, усы. Теперь он уже был похож не на старшеклассника, а на студента; если процесс пойдет и дальше такими темпами, к пятидесяти он вполне потянет на молодого специалиста. Квартиру обставил, тараканов изгнал, кислый запах в ванной заменился его, Кима, горьковатым холостяцким духом.
Только тишина все так же звенела в ушах и давила на затылок. “Ма-мэ-ми-мо-му...” – напевал Ким, чтобы разогнать ее. Собирался купить телевизор, завел котенка; котенок моментально превратился в рыжего кота, пропадавшего днями в амурных командировках; появлялся только на подзаправку, стуча лапой по форточке; вскоре все помойки в округе были облеплены рыжим потомством его Мурзика...
Из египетского дома пока не теребили. Утихомирились и двойники в Сети, ручеек материалов за “бараньей” подписью иссяк, одна из “его” статей, про вырубку лиственных деревьев в городе, ему даже понравилась
Наконец, за подписью “Т.Баранов” появилась статья про председателя одного из объединений воинов-“афганцев”...
Вернувшись в тот вечер, не сразу сообразил, что дверь не заперта.
Потом решил, что сам забыл закрыть. Толкнул.
В комнате желтела настольная лампа.
В кресле сидел незнакомый человек и наливал себе что-то.
Рядом в странной позе валялся Мурзик.
“Извините, Тельман Виссарионович, пришлось зачистить вашего кота, всего исцарапал”, – произнес незнакомец баритоном. На лице – царапины, на столике – салфетки с кровью.
Инстинкт самосохранения толкал Кима назад, в подъезд; инстинкт журналиста – в противоположном направлении – к гостю, его протянутой ладони...
“Кучкар, – ладонь гостя была твердая, как камень, и такая же гладкая и холодная. – Сторожевых собак видел, а сторожевых котов – первый раз. Готов компенсировать вам вашего любимца. Двести зеленых устроит? Нет? А триста? Ладок, триста пятьдесят, с учетом ритуальных расходов”.
Гость достал пачку, начал отсчитывать.
“Уберите деньги, – сказал Ким. – Кто вы такой?”
“Двести... Триста... И еще пятьдесят. Все. Я? Я думал, вы со мной лучше знакомы. Кучкар, герой вашей последней статейки”.
Помочил салфетку водкой, приложил к щеке, скривил губы.
“Это не моя статья”.
“Не ваша? А чья? Под фамилией “Баранов” писали два человека. Так? Первый Баранов, как вам известно, это вы сами. Второй, как вам тоже известно...”
Замолк, вглядываясь в лицо Кима. Направил в него настольную лампу.
“Мне неизвестно. Если известно вам – скажите и поставьте лампу на место”.
“Ладок... – Кучкар опустил лампу, доплескал водки. – Второй – это я”.
Да, вторым Барановым был этот Кучкар. Бывший политик, бывший бизнесмен, в действительности – все еще и бизнесмен, и политик, только под вывеской общества “афганцев”. Еще и журналист, как выяснилось.
“Писатель, – поправил Кучкар. – Со школы баловался, писал диссидентские сказки. Потом в Афгане, чтоб не свихнуться. Подписывал, для себя – "Баранов"”.
“Почему?”
“Имя такое у меня – Кучкар. Баран то есть. И по гороскопу Баран. И по году”.
“Я тоже – по году”.
“Тоже шестьдесят седьмого?”
“Пятьдесят пятого”.
“Молодо выглядите”.
Ким поджал губы.
“Все мы – бараны, – похлопал его по плечу Кучкар, – только некоторые знают это, а некоторые – нет... Все-таки интересно, кто наклепал на меня эту статью?..”
Распечатка была у него с собой.
Ким еще раз пробежал глазами. Классический “слив”.
Один абзац – комсомольская карьера; папаша, оказавшийся под следствием по “хлопковому делу”; служба в Афгане, но не на передовой, а в тепленьком штабе...
“Посидел бы он, сука, сам в этом штабе...” – ухмыльнулся Кучкар.
Еще абзац: возвращение из армии, когда адронный коллайдер распада уже запущен; страна, в верности которой он присягал под афганским солнцем, разлеталась на части; Кучкар неделю пьет, покупает новый спортивный костюм и делается предпринимателем; пробует заниматься хлопком; когда хлопок подгребают под себя рыбы покрупнее, начинает с ребятами крышевать обменники, играя на перепадах мифологического официального курса и реального базарного. Спортивный костюм с обвисшими коленями выбрасывается, приобретается малиновый пиджак; возле Госпиталки возникает офис: компьютер и секретарша с такими длинными ногами, что на них любая юбка кажется “мини”. Вскоре придавили и обменный бизнес; Кучкар закрыл офис, прощально отлюбил заплаканную секретаршу, купил костюм благородного мышиного цвета и ушел в политику.
В политике был долго; быстро карабкался вверх, докарабкался до помощника Дады; следом за Дадой соскакивал на ходу с одного министерства и запрыгивал в другое. Иногда его назначали на должности подальше от Дады – в посольство в Москву или в Нукус, руководить судьбой Арала; но больше Кучкар светился именно в свите Дады, который ему доверял – насколько Дада вообще мог кому-то доверять.
И последний абзац: Дада где-то называет Кучкара своим возможным преемником, через двадцать четыре часа Кучкар впадает в немилость, еще через десять часов его переводят на карикатурную должность в область, а через четыре дня снимают и с нее – “за допущенные просчеты”. Кучкар снова запирается на пару дней с ящиком водки. Через месяц, остриженный и помолодевший, покупает пятнистую военную форму и садится в кресло председателя союза воинов-“афганцев”. Снова раскручивает бизнес (идет список фирм и компаний), кидает деньги на благотворительность, больше религиозную... Дотягивается до политики – сводит прежние счеты, реанимирует прежние связи; говорят, сам Дада между делом вспомнил о Кучкаре. А Дада ни о ком просто так не вспоминает, ни о ком…
“Половина – ложь”, Кучкар вырвал распечатку, скомкал, швырнул.
“А другая половина?”.
Кучкар молчал. Вытряхнул остатки из бутыли.
“Зовите меня просто Куч, ладок?”
“Может, все-таки чай заварю?” – спросил Ким.
“Хотите знать, как все было на самом деле?”.
Ким молча достал блокнот, карандаш.
Приготовился.
“Без диктофона работаете?”
“После того, как пару раз диктофон у меня отняли...”
“А блокнот не отнимали?”
“Зрительная память. И своя система скорописи”.
“Ладок. Люблю иметь дело с профессионалами. Поехали...”.
Блокнот заполнялся крючками и штрихами (изобретенная Кимом смесь корейского и русского алфавитов); Куч сгонял своего водителя еще за водкой на посошок; посошок затянулся до утра. Додиктовав и всадив последнюю рюмку, Куч вырубился. Перед этим “оставил на хранение” потрепанную тетрадь: “Здесь все мои сказки. Еще со школы. Пусть у вас полежит. Ничего... Еще посмотрим, кто кого. Я им еще...” Погрозил в пустоту кулаком и уронил голову в каракулевых кудрях.
Они с водителем спустили его, выгрузили на заднее сиденье. Ким постоял немного, наблюдая, как “Мерседес” выруливает из пустого мокрого двора. Вернулся к себе, открыл окно, чтобы выветрить остатки этой ночи. Сел на корточки перед Мурзиком, погладил по рыжей мертвой шерсти и закусил губу.
Маздак был визирем шаха Кабада. Хорошим визирем. Пока не придумал новое философское учение. Это, вообще, не очень типично для визирей, поэтому многие удивились. Но удивление не выражали. Маздак был хорошим визирем, а при хороших визирях открыто удивляться не принято. Так, чуть-чуть приподнять бровь, и все. В чем состояло философское учение Маздака, тоже никто не знал. Возможно, и сам Маздак не знал толком. Сами, мол, догадывайтесь; некогда мне все разжевывать: дела, дела… Кто-то и догадался: “Наверное, суть этого философского учения в том, чтобы все жены были общими!” Может, были еще гипотезы. Но эта почему-то запомнилась больше всех.
Тут как раз умер шах Кабад, воцарился его сын, великий Ануширван. Стал Ануширван замечать, что в царстве что-то не так. Визг стоит, женщины носятся, как угорелые. “Что такое, – говорит, – что у нас там с женщинами, а?” Ему докладывают: “Жен никак не можем поровну поделить. Может, есть какая-то формула для деления жен, но мы ее пока никак вывести не можем”. – “А кто приказал жен пополам делить?” – “Визирь Маздак”. “Понятно, – сказал Ануширван, – его стиль. Он еще в детстве стащил у меня сахарного петушка”.
На следующий день Ануширван вызвал к себе Маздака: “Давайте прогуляемся по саду”. “Давайте, – обрадовался Маздак, – только по какому?”
“А вот по этому!” И вывел Маздака в сад. А там вместо деревьев из земли голые ноги торчат. Последователи Маздака, всех их закопали головой вниз по пояс, из земли только ноги. Целый сад торчащих ног. Некоторые дергаются. А Ануширван все ведет Маздака мимо них и спрашивает: “Не правда ли, прекрасное дерево?”. Или: “А вот чудесный розовый куст!”
Неизвестно, что сказал по поводу этого сада Маздак. Возможно, ничего не сказал, потому что с него тут же сорвали штаны и закопали таким же образом, а когда рот забит песком, ничего умного уже не скажешь. Как бы то ни было, после Маздака ни один визирь больше не пытался объявить себя создателем философского учения. Помнили сад Ануширвана.
И не только визири. Я тоже помню этот сад.
– Через три дня Кучкара зарезали. Прямо перед домом. Такая вот история.
– Я слышал об этом, – пошевелился водитель. – Говорили, свои же “афганцы”, по бизнесу.
– За день он позвонил мне, просил разыскать друга и передать ему тетрадь. Этого друга тогда я так и не нашел. На похоронах и поминках его не было. Потом стало не до этого, вначале отвлекла история со взрывом, начал писать статью, потом стал получать звонки; перевернули всю квартиру, искали что-то. Успел узнать до отъезда, что друг этот лежит в больнице, где-то в Ургенче, и вряд ли эта тетрадь ему уже нужна... Хотя, наверное, эту часть истории вы знаете лучше меня. Так ведь?
Повернулся к Москвичу.
Москвич молчал. Пошевелил ртом:
– Мне нечего добавить. Да, лежал тогда на обследовании, не мог приехать. Что смотрите? Справку показать?
– Я знаю, что вы не могли. В Москве я узнал…
– Так вы тогда уехали в Москву? – спросила Принцесса.
Холод. Тысячи, десятки тысяч, миллионы спешащих людей. Дворники-узбеки среди соленого московского снега. Машины с застывшими соплями на бамперах. Гриппозный жар метрополитена. Ким останавливается у двоюродного брата в Подмосковье, в Кучино. Исчезнувшая родня понемногу находилась кто в Новосибирске, кто в Ростове, даже в Израиле; все звали к себе, но Москва перетянула – гравитационной массой, как притягивает небесное тело тысячи, десятки тысяч, миллионы песчинок. Так и он, маленькая ташкентская песчинка, вышел в куртке на рыбьем меху из Шереметьево и растворился в мелькотне снегопада.
В Москве он до этого не бывал, хотя Владислав Тимофеевич намекал на какие-то фестивали и выступление чуть ли не на Красной площади. На площадь он теперь съездил, в лицо стучал снег, площадь казалась увеличенной и плохо отретушированной открыткой, мавзолей – маленьким.
Еще решил зайти в церковь, даже направился к одной, понравившейся внешним видом. Но перед самым входом какой-то мальчик ткнул в его сторону варежкой, четко выговаривая “р”, видно, недавно рычание освоил: “Мама, смотр-ри, тут тоже эти гас-тар-р-байтеры!”. Ким хотел было возразить, что он не гастарбайтер, а крещеный кореец. Даже сложил щепоть, чтобы нарисовать пред собою крест, перечеркнув корейскую свою наружность, ибо несть эллина, ни иудея, ни гастарбайтера. Но промолчал, не перекрестился, и в церковь заходить настроения уже не было.
В один из таких дней он вдруг почувствовал себя узбеком; даже остановился и закашлялся посреди улицы от внезапного прозрения. Это была не вялотекущая ностальгия, которую он замечал здесь у многих бывших узбекистанцев. Просто родина с мавзолеем и рубиновыми звездами оказалась фотомонтажом; реальная, осязаемая и обоняемая родина была там, там, в жаркой и сухой земле, из которой отец его выращивал зеленые усики лука и в которую Ануширван втыкал своих незадачливых и похотливых философов. Люди оттуда были своими, такие же песчинки, которых мотало по московским улицам, засасывало в метро, выплевывало из стеклянных дверей навстречу очередной проверке регистрации. Он ловил эти “песчинки”, выстукивал на узбекском ритуальные расспросы о здоровье, семье, работе, жизни. Быстро дружился с ними – дворниками, строителями, продавцами, поварами и даже одним поэтом, сочинявшим на русском, но видевшим сны, особенно осенью, на родном хорезмийском диалекте. Ким записывал своей русско-корейской скорописью их истории; кое-что уже опубликовал...
Основное время уходило на сбор материала по тем двум статьям, они висели за ним еще с Ташкента. Сроки сдачи (по-местному “дедлайны”) давно прошли, его теребили, он дописывал, уточнял, выходил на новых людей.
Первый материал начался с листков с каракулями, записи ночной беседы с человеком, которого он через неделю, облаченного в последний – белый – костюм, проводил на Минор1. Статья почти готова, оставалось несколько завершающих мазков. Второй материал касался шахидки, устроившей взрыв в жилом доме на Чилонзаре; прогремело перед самым его отъездом; материал собирался медленно, хотя на первый взгляд было все ясно, заурядный теракт.
1 Мусульманское кладбище в Ташкенте.
– Это неправда.
Все посмотрели на Принцессу. Опустила глаза и покрутила перстень на пальце.
– Что – неправда?– спросил Москвич.
– Все.
– Вы, что, ее знали?
После того когда мать Москвича спасла Принцессу от холода, она прожила в Москве еще два месяца. Стояла на рынке и даже продала несколько баночек с крашеным песком, которые ей дала мать Москвича, да и специи неплохо шли. Она привыкла к своему месту, с холодом боролась так же, как ее соседка по прилавку, азербайджанка: отварит утром яйцо, и в колготки, долго тепло сохраняется, всем теперь советовала. Даже радовалась, когда убегала утром на рынок, хотя Хабиба хватала ее за ногу и не отпускала. Поэтому она стала вставать раньше, когда все спят, чуть-чуть накрасится, чтобы за прилавком хорошо смотреться, позавтракает излишками помады на губах – и в дверь.
А дома постоянные проблемы, ссоры. Муж со свекровью продолжали говорить ей о фиктивном разводе, как будто больше говорить было не о чем. Свекровь спрятала ее документы и документы ребенка, оставила только регистрацию, если вдруг милиция. Когда она сказала, чтобы документы ей отдали, муж у нее и кольцо забрал с пальца. Она сказала: “Лучше снимите с меня этот пояс, если вы отныне не считаете себя моим мужем!”, но он назвал ее проституткой и уехал по делам. Она потом всю ночь не спала, и кольцо жалко, золотое, это же вам не игрушки, и чувствует себя теперь как голая. Каждый день просила купить ей и Хабибе билет и отправить по-человечески домой. У нее отняли мобильный, чтобы, как сказали, она не могла звонить в Ташкент и клеветать. Ее перестали отпускать на базар, и она лишилась и общения, и денег, хотя все, что получала, отдавала им. Выпускали ее только в воскресенье, погулять с Хабибой вокруг дома или вокруг магазина. Пару раз она встречалась там с матерью Москвича, та ее жалела и совала пакет с гренками, салатик или дарила еще одну баночку с крашеным песком. Еще у Принцессы появился там “друг”: дерево джиды, которое росло недалеко от кинотеатра, в который они ни разу не ходили. Эту джиду она стала иногда поливать, хотя на нее смотрели, в Москве местные жители деревья не поливают.
Потом исчезли и эти воскресные прогулки по воздуху, она заболела гриппом. Из-за климата или усталости от обстановки, тело Принцессы покрылось сыпью, а там, где пояс, сыпь дала нагноение. Сначала ей покупали лекарства, потом перестали. Лежала с +39 и не могла поднять головы. За ребенком они ухаживали, а за ней нет, стали брезговать ее, а она все не выздоравливала, смотрела, как в кино, свою прошлую жизнь и понимала, что лучшие кадры – это ее чувство к тому из восьмого “Б” класса и еще Хабиба, Хабибочка, маленькая моя... Хотя слышала, как свекровь учила Хабибу, чтобы она называла Принцессу не “мама”, а “тетя”, и за “тетю” будет ей давать конфетки.
Свекровь со свекром сказали, что купят Принцессе билет до Ташкента, в Москве некому за ней ухаживать, лечение очень дорогое, в Ташкенте можно вылечиться дешевле. А ребенка надо оставить, “ты все равно не можешь за ним ухаживать”, их слова. Свекровь, мол, сама привезет ребенка и вручит его Принцессе. Принцесса сказала, что Хабибу в их когтях не оставит, лучше умрет. Тогда они позвонили в Ташкент отцу. Родители тоже сказали Принцессе, чтобы она доверилась свекрови. Ее свозили к нотариусу, заверили документ, что свекровь привезет ребенка через месяц. Перед отъездом Принцесса обняла Хабибу, и еще раз обняла, и еще. Позвонила матери Москвича, поблагодарила за все, особенно за удивительный песок, и улетела.
В Ташкенте быстро выздоровела и стала ждать дочку. Но в Москве не спешили. Свекровь сказала, что Хабибе там очень хорошо и весело, а если не верит, то предложила ей зайти в интернет и посмотреть фото. Но Принцессе от этих фото делалось еще хуже, особенно от тех, где Хабибу заставляли улыбаться. Принцесса стала часто звонить им, напоминать, что она мать, вся пенсия родителей уплывала на эти звонки. А еще надо было питаться, покупать лепешку, мясо, обувь. Она устроилась учительницей в младшие классы, в одной руке указка, в другой – веник: постоянные субботники и уборка территорий. Когда видела какую-нибудь девочку, похожую на ее Хабибу, все сжималось.
В Москве перестали брать трубку; она слушала длинные гудки и глядела во двор, в котором раньше ходила с Хабибой, когда приходила к родителям. Теперь все это было в прошлом, а теперь только пустой двор и длинные гудки.
А потом муж неожиданно позвонил. Намекнул, что ребенка ей в будущем привезут. Но цель звонка была другая: попросил ее взять у одного его друга в аэропорту посылку. Когда она встретит, он позвонит ей еще раз. Продиктовал его мобильный номер. Принцесса спросила о дочери, но он уже повесил трубку и не поднимал, давая понять, что разговор с его стороны окончен.
Ей не хотелось ехать в аэропорт, рейс был неудобный, слишком ранний. Отец хотел ехать с ней, но его пригласили на утренний плов, и она пообещала, что справится сама. “Может, он прислал денег…” – сказала мать. Принцесса только вздохнула.