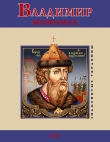Текст книги "Год Барана. Макамы"
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
“Вот моя шахская воля! Не передам я власть свою ни сыну умному, ни сыну сильному, ни сыну глупому. А передам ее вот этому великому мудрецу! Ибо он один правильно нас понял и вернул нам дух молодости и здоровья! Пусть он и остается с нами как наш наследник и ближайший советник, услаждая нас... своими советами! Мы его женим на нашей несравненной дочери, и после нашей смерти – да отдалит ее Творец! – пусть он и наследует нашу державу. А мудрецов, дававших нам ложные советы, мы повелеваем казнить!”
Сказано – сделано. В тот же день сыграли свадьбу четвертого мудреца с шахской дочерью. Правда, шахиня, увидев жениха, была, говорят, разочарована его внешним видом и даже пыталась выброситься из окна. Но потом, видно, мудрец и ей как-то смог угодить, так что стали они жить-поживать и добра наживать. А трех глупых мудрецов по случаю свадьбы помиловали, заменив казнь пожизненным заключением: пусть живут-поживают!
И правил еще Ануширван долго-долго, почти не страдая ни от болезней, ни от старости.
“Что ты там пишешь?” – Москвич смотрел на друга.
“Да... сказку одну”.
Куч бросил синюю потрепанную тетрадь в сторону, где валялась его сумка. Содрал с себя майку, рухнул на мат, уперся в тренажер, заработал.
На себя, от себя. На себя...
Москвич лежал рядом, выполнял “мостик”. Упражнение на накачку мышц объекта, на последнем медосмотре... сказали... Оторвать таз от пола – опустить. Оторвать – опустить. Восемьдесят пять! Восемьдесят шесть! Если б не дыхалка, он бы спросил, что за сказки... восемьдесят семь... пишет...
“Представляешь, – Москвич перестал двигать, присел, – они мне его циркулем каким-то измеряли!”
“Слушай! – Куч выпустил рычаг; груз на тренажере пару раз еще опустился-поднялся. – Что ты все из-за этого психуешь?”
Груз опустился и затих.
“Я – психую?”
Они были одни в зале. Москвич остался “подкачать ягодицепсы”; Кучкар – за компанию.
“Я не психую, Куч. – Москвич стал разглядывать носок кроссовка, купленного на горкомовскую стипешку. – В футбол редко играю. В этом дело”.
“Только честно, ты во все это веришь?”
“Во что?”
“В то, что нам пропихивают”.
“А ты?”
“Ты о себе скажи”.
“Что – о себе? Делаю вообще-то то же, что и ты”.
“Я круглые сутки о своей заднице не думаю”.
“Ну да, ну да, о ней твои мама с папой думают. Ты же номенклатурный, они тебе и так теплое местечко...”
“Заткнись”.
“Сам начал...”
Куч поднялся, вернулся к тренажеру. На себя – от себя. На себя – от себя. Кроссовками упирается, классные кроссовки, отец, наверное, из загранки привез.
“Я... да... – Куч тянул на себя рычаг, груз поднимался и опускался. – Только из-за них... родителей... а так бы послал все это!”
“Подожди, они что у тебя – знают?!”
“Знают. У них там наверху сейчас... бардак. Комиссия из Москвы, нового секретаря привезли. Всех трясут, отца вызывали. Вот они на меня и насели, оба... Давай, давай, надежный кусок хлеба в жизни будет...”
“Ты что, серьезно?”
Москвич присвистнул. Снова посмотрел на фирменные кроссовки Куча.
“Куч!”
“Что...”
“А тебе ведь самому нравится!”
“Что?”
“Что-что. Ты же Лаврику весь его объект... Потом весь красный, как рак, сидел”.
И отскочил, ожидая удара.
Куч лежал спокойно. Большой, выше Москвича на голову, немного беззащитный, как все сильные люди.
Москвич приблизился.
“Куч...”
“Сука Лаврик! У самого язык, как жеваная тряпка...”
“Ну, он не хотел рассказывать...”
“Сука. Пожалел его. Из жалости, понимаешь? Достоевского как назло вечером начитался. Униженные и эти... Мне его давно жалко было, что мать у него уборщица. Мы же раньше с ним в одной школе, мы его еще... Потом они в другой район, там он отличник, олимпиадник... Когда нам эту жеребьевку устроили, практика... Ты с кем был, с Фарой?”
“Да”.
“Фара – нормальный”.
Москвич кивнул. С Фарой было весело – быстро попрактиковались друг на друге, потом травили анекдоты.
“А меня с этим, Лавриком. Когда нас в кабинке оставили, он дрожит, в этой своей школьной формочке с заплаткой, кожа в этих, гусенках, вот-вот обосрется. И так захотелось его... Отпинать или...”
“Или что?”
“Да нет... Так... Достоевский. Бедные люди. Читал?”
“Нет. Интересно?..”
Снова заработал рычагом. К себе – от себя.
К себе.
От себя...
– Через неделю его отца услали в область. Руководить там чем-то второстепенным. Кучкар тоже исчез из группы.
– “Кучкар” переводится как “баран”. Самец барана. Самец-производитель.
– Не знал.
– А вы читали Мураками?
– Что-то сказали, Тельман?
– Читали Мураками, “Охоту на овец”?
– Нет. Интересно?
– А что потом было с этим Кучкаром?
– С Кучем? Исчез. Оставил мне несколько сказок про Ануширвана. И те самые кеды. Потом его смыло Афганом. Как многих. Туда, где из мальчиков делали мужчин. Или мертвецов. Или психов. Кому как повезет. Мой объект, благодаря тренировкам накачался и окреп. Жаль только, что нас перестали собирать. В верхах перестановки, не до молодежи было.
Дада.
Как кивание головы: да-да. Заикание согласия. Он не только научил всех нас говорить. Он научил нас заикаться. Да-да-да.
Его привезли прямо из Москвы.
Из ВДНХ. Там был особый павильон, где они росли.
Привез его кто-то из Политбюро, с тусклой фамилией. Произнес речь, такую же тусклую, как фамилия. Правда, без бумажки: “Арврху тмдрас зкосук рцугарство зцхилщещ! Краготшок и чощуйц шоктс крагий, так сказать!”
Ему долго хлопали. И переглядывались. Ждали кульминации.
Гость отхлебнул молока:
“Я тут, рпоады, не с пустыми проозфакг!”
Кулиса за спиной вздрогнула, вынесли кадку с голубой елью.
Обычная ель кремлевского типа, только в кадке.
На елке, раскачиваясь, висел маленький человек в галстуке.
“Вот, товарищи проауошуар ичсыврешь!” – Указал на него гость. – Специально тпоаохорук, для вашей прадлворк республики! Проходкоенфый с применением рлзынно мичуринского шубабубр гибридизации!”.
Человечек чихнул. Чихнул, закачался на веточке, вот-вот упадет!
И закричал от испуга.
Президиум заволновался. Один, из делегации, зашептал главному: “Нельзя было его сразу в народ! Народ – антисанитария, бактерии, мы в лаборатории ему еще не все прививочки сделали...” Главный глянул желтым зрачком: “В Москве за все ответите... Кто его вначале на хлопчатнике пытался вырастить, а? “Ближе к находу, ближе к находу!” Демократы сраные. Вам же сразу сказали: елка – и точка!”.
И, раздувшись, как баян, затянул: “Мы на-аш, мы новый мир построим...”
Президиум подхватил, вялым эхом отозвался зал.
Услышав привычную колыбельную, человечек перестал плакать. Через минуту уже дремал.
Гость почти на цыпочках подошел к елке. В одной руке стакан с молоком, другой продолжал дирижировать залом.
“Это есть наш после-е-едний...”
Торжественно вылил остатки молока в кадку.
Церемония представления нового Секретаря была исполнена.
Зал тихонько, чтобы не разбудить, поаплодировал. Все вставали со своих мест и двигались цепочкой на сцену, продолжая петь про того, “кто был ничем”. Взявшись за руки, позвякивая медалями, которые лет через пять будут сбываться за бесценок на бывшем Бульваре Ленина, они двигались хороводом вокруг елки. А Дада свисал с ветки, приоткрывая левый глаз, и был доволен. Так, по крайней мере, казалось.
Потом, уже на Бюро, московский гость зачитал Инструкцию по уходу за Первым секретарем (1 шт.). Это была та же инструкция, что и раньше.
1 шт. требовалось поливать спецраствором в составе:
1. Вода из Москвы-реки – 10%,
2. Чай байховый – 15%,
3. Слеза ребенка – 5%,
4. Кровь (пролетар.) – 20%,
5. Пот (колхозн.) – 30%,
6. Слюна (интеллигент.) – 5%,
7. Молоко витамин. – 15%.
Новые веяния отражало только “Молоко витамин.”, занявшее место прежнего “Коньяка армян.”.
“Есть ли вопросы, товарищи?” – спросил гость и поморщился – вопросов не любил.
Лысины молчали.
Одна ладонь поползла вверх:
“Как же наш многоуважаемый... Как он такую тяжелую работу без армянского коньяка выдержит?”
“Выдержит!” – обрезал гость.
“Однако рецепт с коньяком нам еще Владимир Ильич завещал...”
“Товарищи! Вы в курсе, какая работа по возвращению к ленинским нормам проделывается сейчас ЦК партии...”
Товарищи судорожно закивали: в курсе, в курсе!..
“Внимательно изучено завещание Владимира Ильича... Так вот, никакого коньяка, товарищи, там не было! Коньяк вписали туда те, кто извратил волю вождя, ленинские нормы по выращиванию национальных кадров! Вместо коньяка там стояло другое слово... Которое теперь рекомендовано читать как “молоко”. Разве неясно?”
Ясно, ясно, теперь ясно...
“Или разве вам надо объяснять задачи антиалкогольной компании?”
Не надо.
Московский гость посмотрел в окно. Из окна был виден зеленый, припудренный пылью город; речка, петляющая куда-то; центральная площадь с памятником вождю пролетариата, казавшимся не больше оловянного солдатика.
“И еще. Не забудьте раз в неделю организовывать ему – пролщукухыц!”
Лысины порозовели:
“Что вы... Как же... Об этом можно даже не напоминать! Мы для этого и молодую смену растим...”
Смена росла.
Москвича поступили на юрфак (хотя был уверен, что и сам бы смог) и не пустили в армию, позвонили куда надо, намекнули. Москвич мялся пару дней: ему казалось, армия – это все-таки красиво и мужественно. Зато мать чуть в пляс не пустилась: “Вот и хорошо, вот и прекрасно... А ты что, а? Ты что, в Афган захотел? Руки-ноги надоели?” Намекала на соседского Ромку, который вернулся оттуда получеловеком в коляске. “Почему сразу в Афган?” – поднял брови Москвич. “Потому! Учись...”
Он учился.
Кирпичное здание на сквере. Голова Маркса, чинары, мороженое. Снова пятерки, снова футбол, на который приходилось ездить в Вузгородок. После тренировок стоял под душем, орал мокрым ртом песни А.Пахмутовой на слова Н.Добронравова.
После окончания его сразу забрали в горком комсомола. “Языком владеете?” Москвич выложил язык. “Да-а…” – оценили товарищи. Кто-то предложил дать ему еще пару годков дозреть в райкоме. Предложение большинством голосов не прошло. Ветер перемен, товарищи, дорогу молодым.
После собрания секретарь притормозил его. Просидели час, разговор по душам. Стемнело, секретарь поднялся: “Дедушка болен... Дедушке плохо...” Повернулся спиной, брюки упали сразу. Успел, значит, незаметно расстегнуть; вот что значит многолетний опыт… Москвич сосредоточился, встал на колени поудобнее. Сдул челку со лба, чтобы не мешала… Он был молод, силы кипели, хотелось отличиться.
В Москву в первый раз попал уже в перестройку. На учебу. В самолете волновался, всыпал в чай пакетик с перцем. Закашлял весь иллюминатор.
В город влюбился сразу, с разбега. В первый же день выстояли в “Макдоналдс”, потом обсуждали съеденное. “Капитализм”, – подытожил старший по группе, отрыгивая в сторону памятника Пушкину. На курчавой голове поэта сидел голубь, похожий на только что опробованный чизбургер.
На следующий день учеба. Полчаса чистил зубы, гигиена рта. За дверью приплясывал сосед, Вано из Тбилиси: “Друг, эй, ты скоро, дорогой?” Накануне Вано расспрашивал про особенности объектов в Ташкенте: “Они хотя бы их бреют? У нас многие не бреют, представляешь? И критики не понимают, совсем от народа отделились!”
“Сейчас выхожу!” – кричал Москвич, в пятнадцатый раз споласкивая рот.
Учеба была интересной. Особенно профессор из МГУ, лекция по истории, о том, как это делалось до революции. Очень интересно – про декадентов. А практические занятия разочаровали. Теория у москвичей сильная, а как до практики доходит, начинается: один на больничном, другой в командировке, сами, ребята, попрактикуйтесь. Привезли спеца из кремлевской больницы, так он последний раз взаимодействовал еще при Брежневе, методики устаревшие, все на длине языка. Высунул язык: да, впечатляет. А были спецы, так, говорят, могли языком теннисный мячик несколько раз подбросить. И в Ташкенте такой был, в горкоме, его потом в Москву и сразу квартиру. Ташкентцы и, вообще южные республики, в практике сильнее, а москвичи больше “ла-ла” и снобы.
На следующий год их снова возили в Москву. На учебе были американцы, показывали чудеса, языки ядерные. Без марксизма-ленинизма, а что творят. Не понравилось, что у них все на голой технике, без мысли и прагматично. Может, действительно все деидеологизировать? Но тогда это уже выродится в чистый бизнес, как у них в Штатах. И как быть, например, с русской литературой? С мировой литературой, с американской прогрессивной литературой?
Хотел спросить об этом американцев, когда подошел, весь английский выдохся, одно хау-дую-ду на языке.
Наступил 1991-й.
Год белого Барана.
Мать специально встречала его в белой кофте, как сказали в газете. Мать уже уверовала во все гороскопы и даже свое несовпадение с отцом объясняла тем, что она по году драконша, а он собака (“с-собака!”). Сестры тоже были в белом и бабушка в белом – в ночнушке, почти уже не вставала, только в туалет и за пенсию каляку поставить.
Сестры обвесили все гирляндами, как паучихи, целую неделю плели из жеваной бумаги и ссорились. “Как в новогоднем лесу!”, похвалила мать, принимая работу.
Приколола брошку и занервничала. Вручила Москвичу шампанское, отодвинулась, чтобы не заплеваться пеной. Отняла у него открытую бутылку, стала разливать. Сестрам и бабушке – по капле и разбавила водой. Себе и сыну – полную порцию. Посмотрела на Москвича, загордилась. После того как Москвича взяли в горком и определили спецпаек, в ней по-новому проснулись материнские инстинкты. Вслух, конечно, продолжала его подкалывать, чтоб не зазнался. Ударили куранты.
“Чтобы в Новом году все были здоровыми и счастливыми!” – Сверкала брошкой мать.
“И мирное небо”. – Вставила бабушка из кровати и стала поправлять подушки, готовясь к “Огоньку”.
“Белый баран пронесет нашу страну над пропастью”. – Почесал в телеке бородку главный астролог Советского Союза.
Москвич вышел на балкон.
Небо, холод, визг из дома напротив, где Ромка-колясочник швырял костылями в свою сестру, рыжую стерву мать-одиночку...
Москвич лег, уперся кулаками в холодную плитку балкона и несколько раз отжался. Еще раз поглядел вниз, во двор.
“Бе-е-е!” – прокричали во дворе, как тоже советовали в газетах...
Бе-е-е...
Баран пронес страну над пропастью.
Но страна, которую он донес на другой край, была уже другой.
В конце года Барана ветка, на которой дозревал Дада, стала высыхать.
Пробовали менять состав раствора для полива.
Вернулись к испытанному армянскому коньяку.
Бесполезно.
Тут еще поползли слухи, что мичуринско-лысенковский метод, по которому выращивали кадры для республик, признан ложным.
Нет, такая информация гуляла и раньше. Но тогда шла она с Лубянки и была рассчитана на Запад; для отвода глаз даже реабилитировали генетику и вернули ее во всякие НИИ и университеты. А настоящих мичуринцев и лысенковцев – засекретили, оборудовали им под ВДНХ подземный павильон-лабораторию. В лаборатории остро и сладко пахло навозом, из стеклянных оранжерей доносилось бормотание на всех языках братских народов СССР. Елочки, фикусы и даже пальмы подвергались яровизации и круглогодично плодоносили нацкадрами. Дозревали первые и третьи секретари, народные писатели, ударники и ударницы... Через павильон “Космос” эту нацпродукцию вывозили по ночам на площадку, откуда особая модель Ил-62 с бесшумным вертикальным взлетом, днем изображавшая экспонат, развозила ее по республикам и автономным областям. Перед этим нацпродукты, правда, сортировали. Ударников и академиков местных академий наук отделяли под наркозом от плодоножки, а секретарей так и оставляли на ней, чтобы не проявляли на местах излишней самодеятельности и сепаратизма.
Теперь оказывалось, что метод гибридизации, на котором строилась национальная политика, был неверным. В республиканском ЦК ломали голову, глотали анальгин и в десятый раз перечитывали “Белые одежды” Дудинцева.
А недозревший, зеленоватый Дада ощупывал высыхающую ветку и мучился бессонницей. Несколько раз уже звонили в Москву, чтобы проконсультировали, как самим обрезать плодоножку. “Без паники, – отвечала Москва. – Мы тут новый союзный договор готовим...”
“Не верю, – говорил Дада, раскачиваясь над ковровой дорожкой. – Верю... Не верю...”.
Москвича дернули в два часа ночи.
Шелестел дождь, у подъезда урчала “Волга”.
“Дедушке плохо!”
“Я должен почистить зубы!” – Москвич рывком надел брюки; рядом, торжественно держа галстук, стояла мать.
“Там почистите!”
Не раскрывая зонтов, добежали до машины.
Хлопнула дверь, фары мазнули по детской площадке.
“Запишите: улучшить жилищные условия!” – Продиктовал один из ночных гостей.
Москвич стал делать упражнения для языка: напрячь – расслабить.
Напрячь! Расслабить! Свернули на Ленина. Напрячь...
Второе упражнение, “лодочку”, сделать не успел.
Зубы почистить тоже и не дали.
“Какие вам зубы? Состояние критическое!”
И еще что-то добавили по-узбекски. Уважительное, восточное.
Тело лежало в полутемном кабинете.
Лицом вниз, на ковре, под кадкой с голубой елью. Кадка была забрызгана кровью или какой-то другой гадостью. На спине темнела дыра. Из дыры торчал остаток ветки со слипшейся хвоей.
“Вот, как узнал про Беловежское соглашение... Ветка сразу р-раз! И проавлрол сролк паровл!”
Рядом сидел врач и заматывал дрожащими руками фонендоскоп.
“Здесь нужен ботаник. – Врач поднялся. – Как человек, он фактически...”
“Ботаник уже был”. – Кивнули в сторону соседнего кабинета, откуда доносился плач.
Москвич склонился над телом.
Поднял голову:
“Очень прошу всех выйти”.
Повисло молчание.
Начали выходить. Один за другим, соблюдая субординацию.
Один, курчавый, задержался в проеме:
“Я...”
“Я попросил всех”.
Проем опустел.
Москвич пролез ладонью под тело, расстегнул ему брюки.
Приспустил. Тело было холодным. Поднял, как куклу, перенес на диван.
Сдул со лба челку, чтобы не мешала работать.
“Значит, так. Сначала по нашей, три составные части. А потом как американцы...”.
Высунул язык, повертел. Кончик носа, кончик подбородка.
Представил, как их учили, красные знамена, уханье революционных маршей, ликующие толпы наполняют город, страну, разливаются по земному шару, по обеим полушариям, как на карте... Телесный розовый цвет, которым всегда расцвечивали первое в мире государство рабочих и крестьян, постепенно распространялся и на все страны, на две идеальные окружности...
Кончик носа, кончик подбородка...
“Давай, язычок, не подведи!”
За окнами наливался рассвет. Первый луч ударил в хрустальную пепельницу и раскрошился на радугу.
Когда солнце доползло до дивана и осветило лицо лежащего, оно уже не казалось безжизненным. Наметился румянец. Губы расползались в улыбке.
Москвич откинулся на ковер. Край языка высовывался изо рта, челка приклеилась ко лбу. Рубашка была залита слюной, взгляд не выражал ничего.
Человечек на диване открыл глаза и тут же сощурился от солнца.
Чихнул.
В кабинет, толкаясь, пытаясь опередить один другого, вбегали люди.
Они падали на колени и выражали неподдельную радость.
Локтями, плечами, животами они отпихивали друг друга от дивана, на котором восседал Дада.
“Какое счастье! Мне удалось вас вернуть к жизни! Нет, это мне, мне удалось!.. Дада, это мои молитвы дошли, без молитвы ничего бы не помогло! Молитва! О, о, молитва!.. Не-ет, медицина, медицина!.. О! Молитва и медицина!”
Москвича оттеснили, едва не затоптав. Сил встать у него не было, говорить из-за распухшего языка он не мог. Да его бы никто и не услышал.
Целая толпа ползала на коленях перед диваном, смеясь, разводя руками и даже кудахча от радости. А один, тот самый, который все не хотел выходить из кабинета, – встал на четвереньки и начал восторженно блеять, мотая курчавой головой.
Дада, снисходительно улыбаясь, потрепал его по кудрям.
Тут же послышалось еще одно блеянье...
И еще, и еще.
Скоро блеяли уже все, мотали лысинами, делали рожки.
“Бэ-э-э! Бе-э! Бе-бе-бе-е!”
Каждый изо всех сил старался переблеять другого.
А Дада сидел, озаренный солнцем, и поблескивал пряжкой расстегнутого ремня.
“Бе-э-э-э!!!”
Его положили в правительственный, на Луначарском.
Опухоль еще не спала, но он уже мог произносить слова. Днем, между процедурами, он гулял в трико и спрашивал себя, для чего он живет.
Один раз приехала мать, привезла тазик с подгоревшими гренками. Сказала, что приходили с горисполкома, по поводу жилищных условий.
“Я им показала наши условия!”
Москвич проводил ее, покормил гренками собак. Снова стал думать о смысле жизни. И еще о человечке, к которому его возили той ночью.
Кем был этот Дада? Первый секретарь? Нет, первого он видел, ростом выше и без всякой елки. Второй? По идеологии?
Москвич пинал жестянку, стараясь забить гол самому себе. Пошел дождь, матч пришлось отложить, запинал жестянку в арык, зашагал в палату.
“Может, мне это все приснилось?” – Думал, лежа на животе.
Но за сны жилищные условия не улучшают. Уже десять лет в очереди стояли, чтобы вместо двушки, где они все друг на друге, дали трешку.
Зашла медсестра с капельницей.
“Поработайте кулачком!”
Поработал. Вначале кулачком, потом, когда она уже не сопротивлялась – всем остальным.
“Жалко у меня еще язык не прошел. Я бы тебе такое показал!”
“А мне и так...” – Девушка пыталась дотянуться до капельницы и немного ее отодвинуть, чтобы этот сумасшедший не опрокинул.
Нет, он не был сумасшедшим.
Дождь прошел, потом еще один, уже без той медсестры. И еще, с лужами цвета кибрайского пива.
Язык выздоровел. Жилищные условия слегка улучшились. Пришел с работы, поигрывая ключом от новой трешки. Съездили, посмотрели, вздохнули. И комнаты смежные, и ремонт требуется, как ни крути. “Отказывайся, – перекрикивала шум мотора мать, когда они возвращались, – пусть лучший вариант дадут”. Москвич кивал, зная, что лучший не дадут.
Начинались девяностые. После белого Барана явилась черная Обезьяна. Огляделась. Ухмыльнулась. И пошло-поехало. Москвичу уже дважды намекали на язык. В смысле – на незнание государственного. Комсомол испарился, остатки слили с партией, которую тоже переименовали – в Народно-демократическую. Народные демократы слонялись по коридорам, курили, посыпали пеплом кадки с пальмами, пугали друг друга исламистами. Стоял шорох складываемых чемоданов и защелкиваемых застежек. Россия, Израиль, Штаты, куда угодно. Москвич не ходил по коридорам, не сыпал пепел, не думал о чемоданах.
Сидел в кабинете, изучал узбекский.
“Икки дўст, Саид ва Ваня, кучада учрашиб ?олишди.
– Салом, Ваня!
– Салом, Саид! Саид, сен езги каникулни ?андай ўтказдинг?
– Рахмат, жуда яхши! Мен отам-онам билан Москвада бўлдим! Биз Москвада Ленин музейни, Кремлни, Съездлар саройини, Хал? хўжалиги юту?лари кўргазмасини ва бошка ажойиб жойларни курдик...”1 .
1 – Спасибо, очень хорошо! Я с родителями в Москве побывал! В Москве мы осмотрели музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства и другие удивительные места...”
“Не актуально…” – Откладывал учебник Москвич.
Но что актуально, пока было неясно.
Следующий Новый год они встречали в новой, после ремонта, квартире.
Мать распределяла комнаты: “Тебе вон та комната, которая поменьше. Машку-Дашку – в спальную, а я с матерью – в гостиную, а не приведи боже, помрет, так простора будет, жри – не хочу!”
“Краской воняет”, – подавала голос бабушка.
“Это, мам, твоими лекарствами воняет!” – сказала она, отодвигаясь от Москвича, колдовавшего с бутылкой шампанского.
Бутылка выстрелила, жертв не было.
Наступил год черного Петуха.
“Кукареку!” – кричала мать, чокаясь.
“Кукареку!” – подхватили сестрички.
Даже бабушка покудахтала для приличия из подушек.
“А ты что не кукарекаешь? – Смотрела на него мать. – Сложно, да? Опять свой характер?..”
– А что было дальше? – спросил Тельман, когда тишина стала слишком долгой.
Водитель тронул ладонью Тельмана: дай человеку помолчать.
– Дальше – жизнь. Мать – на пенсию. Бабка помучила еще годик для порядка и – на Боткинское; взял на работе отгул, объяснил причину. “Сколько лет было?” – “Восемьдесят”. – “Ну, такой возраст, это не похороны, а свадьба”.
– Да, так говорят, – сказала Принцесса.
– Ну, справили ей эту “свадьбу”, стали жить. Мать, то ли от этой смерти, то ли от своей пенсии, совсем скисла. Лежит, уткнется в Дрюона. Давай, говорю, собаку заведем. Как люди, как соседи. Она вроде согласилась, да-да. Через день кота притащила: “Вот!..”
– А с работой как? – спросила Принцесса.
– Работал. Работа была, а платили как... Бизнесом пробовал заниматься.
– Тогда все пробовали, – сказал водитель.
Москвич промолчал.
– А туда вас больше не вызывали?
– Куда?
– Туда! – Водитель ткнул пальцем вверх, в черную пустоту.
Из черной пустоты иногда звонили. Интересовались. Но поработать не звали. Своих тружеников хватало. Москвич до белизны в пальцах сжимал трубку.
“И хорошо, что не зовут”. Пнув тумбочку с телефоном, шел в ванную. Закрывался, проверял в зеркале язык.
Спасался женщинами. Первая была на пять лет старше, обучила его разным чудесам. Чудеса скоро надоели. Потом вторая, третья. Сбился со счета. Считал себя страстным.
Наверх не звали. Звали к каким-то бизнесменам, за вознаграждение. Кто-то из прежних друзей этим и питался. Один раз рядом притормозил Мерс, выставилась воробьиная голова Лаврика.
“Ну да, бизнесмены, – говорил Лаврик, подвозя его. – А какая разница? Половина – наши же, бывший райком-горком. Теперь бизнесмены. Разница, что ли?”
Лаврик ерзал за рулем и оглядывался. На прощание сунул влажную лапку:
“Ну, смотри. Потеряешь квалификацию. С твоим языком я бы…”
Нежно погладил Мерс, оставляя туманный след на лаке.
Москвич вышел ночью на кухню, щурясь от электричества.
Мать скатывает ватман. Остановилась, посмотрела.
“Наверху у этих дети дикие, вчера всю ночь мне по мозгам бегали”.
Москвич отпилил себе пол-яблока.
“Недавно в “Даракчи” рецепт хороший встретила”.
Натянула на рулон резинку для волос.
“Салат "Юрагим"1. Сердце промыть, очистить от жилок…”
1 Мое сердце (узб.).
Москвич с половиной яблока в зубах направился из кухни.
“Хоть бы поговорил с матерью!”
“О салате?”
“А хоть бы и о салате!.. Хоть о салате. Не для себя ж одной готовлю”.
“Я хочу спать, ма!”
“Иди, спи! Дрыхни. Ни денег, ни квартиры, ни продуктов. Только салаты из всякой дряни... Вот что. Хочешь, сиди здесь, я не могу. Завтра же в российское посольство пойду узнавать. Иди, говорю, спи, что встал...”
Салат “Юрагим”.
Сердце промыть, очистить от жилок и отварить в подсоленной воде.
Нарезать небольшими брусочками 1 огурец, 2 помидора, 80 г. сыра, 4 вареных яйца. Уложить в салатник, украсить зеленью.
Приготовить соус. Смешать майонез с хреном и лимонным соком.
Полить соусом.
В Москве он не прижился. Несмотря на любовь. Ни первое время, ни второе. Спасался женщинами. Они все варили готовые пельмени; пельмени серыми розами плавали в кастрюле на огне. Иногда лопались, выплывал комочек фарша, кувыркался в кипятке.
Прошелся по ташкентским друзьям. Здесь пельменями не мучили, пару раз утешили пловом, жирным, с водкой, вышибающим ностальгическую слезу. Москвич всматривался в лица, потом в тарелку остывающего плова. “Еще добавку?..” – “Да нет, пойду скоро”. Уходил, его иногда провожали. Курили на платформе какой-нибудь Чухлинки-Пухлинки. “Послушай, Сева, почему все так?” – “Как?”.
Нырял в электричку, семечки, пиво. Ташкентские друзья таяли на платформе, сутулились, бежали под дождем по делам. Менялись, разводились, поправлялись, садились на диеты, на иглу, на пластмассовый член, летом летали за солнцем в Анталию, переставали поддерживать связи. “Давайте, все соберемся...”, Москвич доклевывал остывший плов. Да, классная идея. Да, собраться, вспомнить. Да, хорошо. Конечно...
Постепенно он сам перестал встречаться с ними. Иногда звонил. Они ему несколько раз помогали. Протягивали руку, хлопали по когда-то мускулистому плечу. Не хандри, старик! “Давайте все соберемся, что ли...” “А кто – все?”
Он переставал звонить. Зачем. Кто уже устроился, раскрутился, оброс новыми привычками, связями – таким он был не нужен. Другие – серые, с гнилой пивной отрыжкой и перьями на грязном свитере – были не нужны ему… Он ехал в электричке, в животе шла известная любому ташкентцу диалектика плова и водки. Выходил на станции, хватал пиво, будет еще хуже, мать будет принюхиваться, а что принюхиваться, будто ее кошки ландышами пахнут.
Спасали женщины. В них можно было честно вдавить, зарыть, утрамбовать все свои неудачи. И глотать пельмени. Которые иногда ему даже нравились. Особенно если захрустеть их соленым, в лягушачьей кожице, огурцом.
Забрезжила работа. Его помнили по практикам, да и ташкентские обкомовские, которые сюда вовремя катапультировались, тоже не забыли. Один раз столкнулся нос к носу – буквально – с Вано из Тбилиси. “Я пока не в Тбилиси, – рассказывал Вано, потирая орлиный нос, – они же там только на словах демократы, а объекты у них те же самые; хорошо хоть брить стали, у американцев научились...” Вано был пьян и щедр, все порывался снять для Москвича проститутку и так поцеловал его на прощанье, что Москвич забеспокоился за свой шатавшийся передний зуб.
Нет, работа была. Купил двушку, для матери и сестер; сам снимал студию возле Белорусского: вся клиентура в центре. Экзистенциальные проблемы заглушал футболом, по четвергам розовел в сауне. Наметилась машина; он знал, что это будет Мерс. Иногда отправлялся осматривать достопримечательности. Музей Ленина, Кремль, Дворец съездов, Выставку достижений народного хозяйства ва бошка ажойиб жойлар. Вдыхал горьковатый ветер метро, грибной воздух Подмосковья. Ташкент не то чтобы отпустил его, но слегка ослабил свои смуглые пальцы на его горле…
И тут грянул август. Да, тот самый. Он стоял перед банком, в руках была бутылка, и почему-то пустая. Потом он помнил, что ехал в метро, еще одна бутылка каталась по вагону. Сбережения исчезли. Долги, которые он делал и о которых почти забыл, стали, наоборот, осязаемы, как телефонная трубка, когда он разговаривал с наезжавшими кредиторами. Клиентура рассеялась. Звонил им. Долгие гудки. Или голос секретарши. Или автоответчик. Нет. Уехал. Не будет. Абсурдное: “Что-нибудь передать?”
“Передайте, что подыхаю...” – говорил в серое, варикозное осеннее небо, стоя на балкончике своей студии. Уже не своей. Три дня, чтобы освободить – платить нечем. Да и зачем теперь студия? Завтра шмотки к матери. Она уже героически ждет его и обещает соорудить свой фирменный “Юрагим”.
И тогда он встретил Куча.
В районе Полянки. Рассекая лужи, подрулила машина с посольскими номерами. Вышел квадратный человек и замахал ему.
Москвич настороженно подошел, показалось – кредитор…
И уткнулся лбом в выбритый подбородок друга.
Потом сидели в японском ресторане, глотали морских гадов. Москвич намекал на плов, Куч обещал плов завтра, а сегодня... “Знаешь, старик, я тут подсел на японскую кухню...” Японская кухня оказалось слишком японской. От сакэ тело стало теплым и резиновым. Осьминог все не разжевывался, и Москвич сонно озирал окрестности в поисках салфетки, чтобы незаметно сплюнуть. Куч клацал палочками и рассказывал о себе. О себе нынешнем: холеном, с чуть ослабленным желтым галстуком. С часами, поблескивавшими в японском сумраке ресторана.