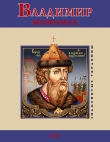Текст книги "Год Барана. Макамы"
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Вы вернулись? – спросил Ким.
Принцесса помотала головой.
– Это позор, к родителям вернуться.
– А почему свекровь хотела, чтобы вы ушли?
– Она говорила, что нужно продать дом. Что она должна ехать в Москву. А я к родителям. Обещала после продажи дома дать немного денег родителям, чтобы могли о Хабибе и обо мне заботиться.
– Но вы не ушли.
– Я не ушла. Когда звонил муж из Москвы, я плакала и рассказывала, как свекровь выгоняет. Он молчал, говорил, что скоро пригласит меня и Хабибу в Москву.
– Вы верили?
– Да. Мне казалось, что я скучаю без него. Он ведь мог меня сразу оставить, когда узнал, что я не смогу ему родить сына. А он, наоборот, даже стал иногда разговаривать со мной. Из Москвы мне звонил, про дочку спрашивал, как растет, что уже делать умеет. Я благодаря ему стала о Боге задумываться. И хиджаб носить стала, хотя свекровь говорила: не носи, лучше “перышки” себе сделай.
Москвич поднялся, сделал круг, разминаясь и похлопывая себя по бокам, вокруг пламени.
– Устал, начальник? – спросил водитель.
Москвич опустился на свое место, посмотрел на Принцессу:
– Дальше-то что? Только покороче.
Покороче. Конечно, покороче. Покороче – они отправились в Москву. Дочке купила комбинезончик, желтенький, очень теплый, удачно сторговались. Своих вещей взяла немного, платьев новеньких несколько и старый костюм, который любила, а так в основном Хабибкины вещи. Украшения взяла только самые необходимые.
Если еще покороче, то свекровь летела с ними. Когда через железные ворота Принцессу досматривали и пояс ее начал как будильник звенеть, пришлось давать объяснения.
Муж их встретил, в его поведении никаких изменений не было. Только ходил без бороды и одевался в европейском стиле, чтобы милиция не беспокоила. Когда увидел платок на Принцессе, закричал: “Ты что, быстро сними!” А она думала, что ему будет приятно. Она сняла платок и положила в сумку. Муж повел их на маршрутку, держал на руках Хабибу и шутил с ней. По дороге она спросила мужа как бы между делом: “А мы пойдем на Красную площадь?”. “Зачем?” – Посмотрел на нее Тахир. Они сели в метро, и ехали долго. Она держала на руках Хабибу и боялась за себя и за нее.
Местность, куда Тахир привез их, называлось “Коломенское”. Там шел дождь. С мужем был его друг, но он молчал.
К их приходу свекор уже вернулся с работы и приготовил еду.
“Ты что мало ешь?” – спросил ее за едой муж.
“В самолете ела... А здесь всегда будет дождь?”
“Всегда”.
Потом она мыла посуду. Ложки и вилки здесь были такие же, как в Ташкенте. Муж говорил, что в Москве ему нравится, он ходит в мечеть, у него там друзья.
“Опять друзья...” – подумала Принцесса.
Муж сказал, что чувствует себя спокойно, но его тревожит одна мысль. Все они, оказывается, тайно приняли гражданство России...
“А я?” – Принцесса застыла с тарелкой в руке.
Тахир поморщился:
“Что ты меня все время перебиваешь!”
Капли падали с тарелки на пол. Принцесса опустила ее в раковину и стала тереть.
Тахир продолжал свой разговор. У него российский паспорт, и его не оставляют в покое из-за призыва в армию. А если он отправится в армию, то потеряет год и не сможет помогать друзьям, которые без него пропадут.
“Если Хабиба примет российское гражданство... Ты должна дать согласие”.
Дождь кончился.
Принцесса села на табуретку возле окна и стала ждать, когда выйдет солнце.
– И вы подписали согласие? – Москвич ковырял в огне длинной веткой.
Принцесса кивнула.
– Напрасно.
Ветка, которой Москвич лез в костер, сама загорелась; Москвич бросил ее в огонь.
– Что я могла сделать? Они отвезли меня к знакомому нотариусу, положили готовые документы. И смотрят на меня. И я подписала. Холодно было, дождь. Все подписала.
Они сказали: “Если дочь будет гражданкой России, муж не пойдет в армию”. Он даже до этого стал со мною добрее. Спросил за день до этого: “Может, тебе нужны теплые вещи?”
После нотариуса – в Коломенское, там тоже дождь. Она шла и думала, что теперь ее дочь – гражданка этой страны, где дождь и постоянно холодно, но это ничего. Муж был доволен, зонт над ней раскрыл. Правда, так держал, что она была наполовину мокрой, но это ничего. Жизнь в Москве нравилась, только домой хотелось, к людям.
Потом она стала слышать разные вещи. Муж говорил: “Все, моя дочь будет проживать вместе со мной, здесь много религиозных школ, я отдам ее в такую школу, и все, все”. Муж стоял в спортивном костюме и говорил. За его спиной сидела свекровь. На балконе курил свекор.
“У меня скоро заканчивается декретный отпуск, – сказала Принцесса. – Если вы не хотите, чтобы я оставалась, отпустите нас с Хабибой”.
“Ты сама не хочешь оставаться”, – сказала свекровь.
“Не шумите!” – произнес свекор с балкона.
“Я же подписала все, что вы сказали”.
“А сколько ты у нас крови выпила, прежде чем подписала?” – спросила свекровь. – Я тебя как дочку любила, а ты сколько не подписывала?”
“Пояс болит...” – сказала Принцесса.
“Я спрашивал у друзей, они говорят, что такие пояса можно сделать на заказ, но это дорого, – сказал Тахир. – Тебе лучше просто похудеть”.
“Я знаю одно средство для похудания, – сказала свекровь. – Записывай...”
Ей предложили согласиться на фиктивный развод.
“Я хочу уехать”. – Принцесса поднялась и дошла до туалета. Достала мобильный, отправила эсэмэску отцу. Подняла халат, провела рукой по поясу. Хабиба, они спят вместе, думает, что так у всех, что так и у нее потом такой пояс будет. Может, она права.
Ее поставили торговать специями. У кого-то из друзей мужа возникли проблемы с регистрацией, нужно было подменить. Она не хотела, но ей сказали: “Немного постоишь, ничего страшного”. Все документы, и ее, и Хабибы, свекровь забрала, чтобы глупостей не наделала. Мобильный у нее тоже забрали. Каждый день она просила купить билет и отпустить их в тепло. Ей повторяли про развод. “Не шумите!” – кричал свекор. Из левого глаза свекрови текли слезы, но правый оставался сухим.
На рынке было холодно. Специи покупали мало. “Смотри, мама, тетя песочком торгует”, – сказала какая-то девочка. Товар ей нравился, от него, особенно от тмина, зиры и черного перца пахло чем-то родным. Хотя от молотого черного перца жгло глаза. А плакать за прилавком было неудобно, надо было, наоборот, улыбаться. Но даже улыбаться было холодно, улыбка на губах замерзала. Рядом стояла азербайджанка Надя и говорила, что каждое утро она варит яйцо и кладет себе туда в шерстяные колготки, потому что простудишь органы, потом все. Принцесса сказала ей про свой пояс. “Слышала, – сказала Надя, – но сама не носила”. Надя торговала соленой капустой и другими соленьями, про которые говорила: “Не люблю. Мокрые и холодные руки потом от них”. Сказала Принцессе: “Пусть тебе муж купит пояс с утеплением, чтобы согревало”. Подругами они так и не стали, у Нади был очень громкий голос.
А один раз был такой мороз, что Принцесса еле-еле дождалась сменщицу и пошла в другую сторону. Не в ту, какую надо. В той, другой стороне, был парк, черный и холодный. Она шла сквозь парк, с каждым шагом все больше замерзала. Ее тело превращалось во что-то постороннее, она подумала о Хабибе и поняла, что ничего, о Хабибе позаботятся. Потом подумала о своей первой любви из 8 “Б”, ради которого целовала бумагу, и остановилась.
Перед ней стояла женщина, Принцесса в нее чуть не врезалась, так замерзла.
“Ну вот, – засмеялась женщина, – уезжали мы от них, уезжали, а теперь они к нам повалили, пройти нельзя. Ну, что стоишь? Асалям алейкум? Якшимисиз? Балалар якши?1”
1 – Здравствуйте. Как ваши дела? Как дети? (искаж. узб.)
Принцесса хотела ответить, но губы не смогли. Только кивнула и заплакала.
“Мам-дорогая, она ж вся синяя! Ну-ка давай ко мне, я тебя хоть чаем отогрею. Бечорашка какая! Да иди, что встала!”
Женщина оказалась родом из Ташкента. Принцесса помнила, что они поднимались по лестнице, в подъезде было тепло, а в квартире еще теплее. Женщина втолкнула ее, мороженную, в ванную, под горячий напор. Потом стала мазать водкой.
“Я сама вначале тут мерзла, – мазала ее женщина и растирала. – Мы ж, ташкентские, разбалованные, к теплу приучены, солнышко нам подавай. Тебя как зовут?”
Принцесса хотела сказать спасибо и уйти, но женщина стала наливать чай: “Угощайся конфетами. Кондитерские изделия здесь, конечно, на уровне”.
Принцесса взяла конфету, полюбовалась оберткой. “Можно я дочке возьму?”
Потом разглядывала стены. На полках стояли банки с чем-то разноцветным.
“Это песок, – сказала женщина. – Крашеный песок”.
И сняла с полки. Песок. Да. Только разноцветный. Один слой белый, другой синий.
“Увлеклась тут этим. Затягивает, и нервы. От нервов лечит. Что мне еще, пенсионерке”.
“Вы на пенсии?”.
“На пенсии... Это разве пенсия?! Не смешите меня!”
За окном дымил снег. “Молоко”, – сказала о нем женщина вглядываясь. Подлила еще чая.
В узбекскую пиалушку, с хлопковой коробочкой.
“Да, оттуда везла. Эх, пенсия, пенсия... Там бы у меня еще меньше была, копейки. Но зато фрукты!.. Какие фрукты у нас, а? А здесь что? Вода”.
“Это оттого, что здесь дождей много”.
“И дождей, и воруют. Все импортное”.
Принцесса вертела баночку с песком, разноцветные струйки песка перетекали друг в друга, розовый в синий, синий в белый.
“Нравится? Бери на память”.
“Спасибо...”
“Держи-держи. У меня вон их сколько, солить можно. Слушай, ты ж на рынке стоишь? Может, дам несколько баночек на реализацию? Вон ту, например...”
Принцесса сказала, что должна посоветоваться об этом с мужем.
“С мужем?.. Ну, понятно. Нет так нет”
“Нет, я с удовольствием возьму...”.
“Знаю я этих ваших мужей”.
“Он компьютерами занимается”
“Да... И что же он тебя в такой мороз из дома погнал, компьютерщик?”
“Можно от вас позвонить?”
“На, звони...”
У Тахира было занятно. Наверное, с друзьями о своих делах разговаривает.
“Хорошие у вас кошки”. – Положила мобильный.
“Это они сейчас хорошие. После стерилизации. А до этого такое вытворяли... Это Машка, а вот это Дашка”.
Взяла на колени. Танька смотрела зелеными глазами.
“Странные имена, как у людей...” – сказала Принцесса.
“Да уж, как у людей... Дочерей у меня так звали”.
“Они...”
“Живы, живы. И живы, и здоровы. А на мать – чихали с высокой колокольни”.
Принцесса посмотрела в окно.
Небо темнело, вот одно окно зажглось. Еще одно. А в Ташкенте, наверное, уже ночь. Но тепло. А когда тепло, любое горе пережить можно.
“А это мой муж... Вон, портрет. Интеллигентный был человек, даже тараканов я сама давила, он не мог, видите ли!”
“А я думала, это женщина”.
“Ну, он тут в этом, гриме самодеятельном...”
– Можно попросить...
Принцесса посмотрела сквозь огонь на Москвича.
Москвич поднялся:
– А что это мы здесь все сидим и рассказываем?! Может, нам чем-нибудь другим заняться? Может, лучше споем что-нибудь общее… Или анекдоты. А? Анекдоты?..
Остальные молчали. Принцесса куталась в куртку, как будто все еще находилась в московской зиме. Водитель дремал.
Тельман допил из своей баклажки, бросил в огонь.
– Зря сожгли, – сказал Москвич, наблюдая, как пластик съеживается в огне. – Бросили бы так.
Тельман мотнул головой:
– Так нельзя.
Посмотрел на часы. Потом на Москвича:
– Если вам неинтересно, можете не слушать. Нам интересно.
– Кому это нам?
Посмотрел на дремлющего водителя.
Водитель приоткрыл глаза и кивнул Принцессе:
– Продолжай, дочка...
И, кашлянув, – дымом потянуло в его сторону, – повторил:
– Продолжай.
Москвич открыл рот, но вдруг резко схватил себя за нижнюю челюсть и замычал. Повалился в бок, мотая головой.
– Что случилось? – спросила Принцесса.
– Зубы, наверное, – ответил Тельман. – У меня таблетка есть. Только запить нечем. Москвич мычал согнувшись. Приподнялся.
– Вам легче? Дайте отряхну...– Принцесса стала отряхивать пиджак от песка.
– У меня есть таблетка.
– Спасибо... – Москвич мотал головой. – Это была моя мать.
– Что?
– Та женщина с кошками. Давайте лучше пропустим эту часть, хорошо? Или – хотите я вам расскажу свою, чтобы было понятно, почему... В общем, вот...
Москвич
...лето, она на работу опаздывала, там строго, дождь, ливень, пришлось тормознуть, тормознула себе на голову, “Москвич” обдал грязью, водитель с кудрями извинился, она плюх на переднее, под язык валидол, сосала по утрам, чтобы не тратить время на щетку и пасту, скорей поехали, нервничает, задумалась. А водитель одной рукой рулит, другой – из брюк вынимает драгоценность свою, она пока не замечает, хотя это у него заболевание, но она про него не слышала, тогда про такое не печатали, только в медицинских книгах, она не медик, чертежница на объекте, когда ей еще медицинские книги, хотя чувствует сбоку что-то не то. Увидела, испугалась, закричала, чтобы остановил, сволочь. А он голосочком своим: по-оздно… Тут она всем маникюром на него, царапает, бьет. Он на тормоз, машина вбок, она на него, куча мала. Он стонет: вы мне его сломали! Она: “так тебе и надо”, сама плачет, заляпанная этим, еще трусы утром забыла надеть, торопилась, там больше всего, главное, и заляпалась. Вылетела из машины, хорошо Объект рядом, платить не стала, номера запомнила. А он за ней, сигналит, а ей – главное не опоздать, выгонят с волчьим билетом, прощай, общежитие, и назад в деревню к матери и свиньям. А он би-бип! Ладно, не буду в милицию, живи, сволочь, только б не опоздать!
Не опоздала...
А когда через пару месяцев почувствовала внутри себя беспорядок и врачиха ей: “поздравля-я-ю”, она номера вспомнила и разыскала. Речь заготовила: будешь мне, подонок, алименты! А у подонка, глядь, отдельная квартира, а что “Москвич”, она и так никогда не забывала. Вот она у него как бы в гостях, обстановочка, все интеллигентно, села на румынский диван, сосредоточиться. “А у тебя семьи нет?” – оперативно на “ты” перешла. Он подавился, она стала по спинке хлопать. “Надо же”. – Хлопает его и думает: – “Все у человека в жизни есть – и квартира, и машина, и прописка, наверное…” Насчет прописочки все-таки уточнила. Оказалась на месте. Через месяц расписались. “Только обещай, – говорила сквозь фату, – что не будешь этого делать перед другими бабами. Передо мной делай, ладно, если уж невмоготу...” Она уже успела пробежать пару популярных брошюрок, стала подкованной. Он обещал.
Москвич был их сыном. Шестьдесят седьмого года рождения.
В детстве у него тоже были кудри. Потом разгладились, только челка осталась.
И у отца кудри прошли, как начал лысеть. Очки нацепил. Часами ковырялся в “Москвиче”, ставил Аллу Пугачеву, подсобляя ей своим тенорком. Мать наматывала на голову полотенце и заводила Сенчину. Под поединок двух певиц и проходило его детство. Побеждала Сенчина.
В школе Москвичу нравилось. Отдыхал в ней от домашней тесноты, от падавших вещей. От двух перекрикивавших друг друга певиц. Он впитывал пространство классов и коридоров, словно запасая его для дома, где у него не было своего угла, не считая того, в который его раньше ставили.
Учился легко и упруго, словно разжатая пружина. Он был из породы естественных отличников, не портивших над учебниками глаза и спину. Он впитывал знания – ровно столько, сколько требовала программа. Иногда чуть больше, чтобы блеснуть. Блеснув, забывал.
Он полюбил футбол. Наверное, за то же самое – за пространство, за быстрый упругий воздух, пробирающий вихры. Волосы промокали и кудрявились, как раньше. Сделав уроки, шел во двор колотить мячом в осыпающуюся стену. Мать боялась, что он станет футболистом. Отдала его на аккордеон; Москвич легко забегал пальцами по клавишам; когда приходили гости, исполнял Андижанскую польку. Мать была довольна, хотя футбол остался, и Москвич возвращался таким же потным, а стирать кому? Попыталась заставить его постирать. Он ее просто не понял. Посмотрел, и она замолчала.
Дома он вообще сжимался. Как пружина. На родителей, бабушку, двух младших сестер почти не обращал внимания. Семья мешалась под ногами, как сдутый мяч, который не удавалось метким пасом послать куда-нибудь. Дома делал уроки, играл в ашички (“Опять эти кости!” – морщилась мать), смотрел с отцом футбол.
Или на час запирался в ванной. “Онанирует”, – предполагал отец. “Ты что!.. Он не такой”. – Защищала мать, ревниво прислушиваясь к шуму воды. “Они все в этом возрасте”. – Улыбался отец.
Отец был не прав. Москвич просто стоял под водой, ловил одиночество. Выходил, оставляя мокрые, размера уже сорокового, следы; падал на кровать, засыпал.
В восьмом классе его как отличника выбрали в комитет комсомола. Через год – секретарем комитета. Школа была небольшой, освобожденного секретаря не полагалось.
Москвич воспринял новую обязанность легко, но без энтузиазма. Проявлять излишний энтузиазм в те годы уже считалось дурным тоном. Делай свое дело четко, с легкой дымкой усталости, как Вячеслав Тихонов в роли Штирлица.
И он делал свое дело. Собирал взносы, проводил собрания, помогал школьной футбольной команде, играл в ней. Летом ездил в трудовой лагерь собирать персики, честно мучился вместе со всеми поносом, в перерывах играл на аккордеоне “Битлов”. Заметив, что девчонки больше глядят на гитаристов, взял гитару и быстро проделал славный путь от трех блатных аккордов до Розенбаума и Strangers in the Night. Осенью, уже с гитарой, выезжал на хлопок; вернулся с чесоткой и тетрадкой стихов. И то, и другое прошло довольно скоро.
Раз в неделю, прихватив тетрадь фабрики “Восход”, ехал в райком комсомола на секретарский час.
“Останься, старик. Разговор есть”.
Товарищ Андрей. Худой, без возраста, за столом. За спиной шкаф, папки и бумаги. Бурые скоросшиватели, какие изготавливают на картонажной фабрике слепые.
“Я хотел тебя спросить... Ты старших уважаешь?”
“Уважаю”, – удивился Москвич.
“Я не об этом”. – Инструктор поморщился. – Хорошо, скажи, как ты их уважаешь?”
“Место... уступаю”.
“Я тебя серьезно спрашиваю, а ты – "место"!”
“Тяжелые сумки... Если увижу! Мне пора идти, у меня тренировка...”
Товарищ Андрей смотрел на него. Москвич остановился у двери.
“Ну, я пошел...”
Взялся за ручку двери:
“До свидания?”
Вернулся. Сел на прежнее место.
“Расслабься, старик. – Улыбнулся товарищ Андрей. – У тебя есть дедушка?”
“Есть... Был”.
“Представим, что у тебя есть дедушка”.
Инструктор поднялся, остановился перед бюстом Ленина.
“Допустим, он болен. Смертельно. И спасти его можешь только ты!”
“Почему я?”
“Потому что ты! Ты должен делать ему... массаж. Раз в неделю. В этом месте...”
Ткнул пальцем в свой сбитый райкомовскими креслами зад.
Москвич рассмеялся.
Товарищ Андрей тоже хохотнул и замолк. Нехорошо замолк.
“Да идите вы!..” – Москвич сорвался со своего места.
За спиной хлопнула дверь.
Через неделю с ним говорили на закрытом бюро райкома.
Сказка про дедушку обрастала плотью. Нежной номенклатурной плотью, наращенной в спецбуфетах, распределителях и нарзанных ваннах. Плотью, которой стало Слово гипсового человечка, пылившегося на кумачовой тумбе.
“Мы тщательно проверяли вашу кандидатуру...”
“Требуются именно молодые, свежие силы! Выносливость, инициатива...”
“Учитывая международную обстановку...”
“Объясните ему, что у нас сейчас комиссия, что такое “комиссия” – он же понимает!”
“Нам требуется именно представитель интеллигенции. Это вообще основная задача интеллигенции!”
“Может, вы слушаете "голоса"?”
“Нет, Рустам Давлатмурадович, мы проверяли. Отличник, активист. Спортом интересуется. Да вы сами на него посмотрите, он же наш!”
С него взяли подписку о неразглашении. И дали две недели подумать.
Он вернулся после бюро раньше. Достал ключ из-под половика. Дома никого не было. Стряс с себя пальто, сбросил сапоги с носками, ступая сварившимися ступнями по линолеуму. Зима была теплой, но каждое утро бабушка вставала на пути, ловя его в пальто.
Запела Пугачева. Отец?
Его музыка... Давно ее не врубал. С тех пор как “Аллочка” приезжала сюда и пела в “Юбилейном”, они сидели на верхотуре. Отец взял его с собой вместо матери, в последний момент швырнула в лицо билет. Отца по блату провели к “Аллочке” – победоносно вернулся с автографом. “Вы говорите, в жизни – все просто!” – пел, слегка подделывая голос. А потом у отца пошло-поехало со здоровьем, отовсюду стали падать и рассыпаться таблетки, и Пугачева в квартире замолчала.
Москвич зашел в гостиную.
Перед зеркалом стоял отец в лохматом рыжем парике и открывал рот.
Заметив сына в зеркале, повернулся.
В этом парике он был жутко похож на Пугачеву.
“Это для капустника... Репетирую, вот, капустник новогодний...”
Через недели две отца не стало.
За несколько дней, когда уже все стало ясно, мать прорвало. Через закрытую дверь он слышал, как она говорила: “Симулянт проклятый!” Бабушка стыдила ее, сестры прятались за диваном, Москвич уходил колотить мячом в стену. Мать не подпускала его к отцу, цедя “предатель” каждый раз, когда он приоткрывал к нему дверь. “Как ты можешь, он же умирает!” – не выдержал. “А я шестнадцать лет умираю!”.
Все-таки он прорвался к отцу, в ее отсутствие. Бабушка гремела шприцами, утешала зятя: “Дура она. Весь свой ум на красный диплом истратила, а ты себе еще, может, другое найдешь...” “Найду... скоро”. – Кивал отец.
Протянул Москвичу конверт: завещание. Москвич кивнул. И быстро спрятал – в коридоре уже вернулась мать. Заглянула, с нехорошо молодившей ее стрижкой.
Потом сидела на кухне возле плиты и глядела на кипящий чайник. По щекам ползла тушь. “Мам, зачем ты так?” – “Чтобы он при жизни понял, как меня мучил! Ты же ничего не знаешь, тебе бы только мячик об стенку...”
На похоронах ее не было.
Москвич сам справился. Все сделал, как завещал отец.
Достал из-под отцовского матраса сплющенный рыжий парик и прозрачную робу.
Расчесал парик, поплевал на робу, поелозил утюгом.
Нарядил во все это отца, и, сосчитав бороздки на диске, поставил нужное.
“Не отрекаются, любя...”
“Ты что это, а? С ума сошел?” – Выкатилась на него из коридора бабушка, вытирая об халат масляные руки.
“Ты так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то...”
“Пугачева! Пугачева!” – кричали соседские дети, узбечата, когда выносили гроб.
Песня гремела на весь двор.
“Где? Где?” – Высовывались из окон люди. Кто-то, не разобравшись, начал хлопать.
“Где Пугачева?”
“Безобразие... До чего докатилась, уже она на похоронах поет!..”
“Да запись это, фонограмма...”
“Стойте! – К гробу продиралась мать. – Стойте, сволочи...”
“Явилась”, – сказала бабушка.
Мать добралась до гроба.
Сорвала с отца рыжий парик.
Нацепила его на себя:
“Я – Пугачева! Я! Я – Пугачева! Понятно?!”
“За это можно все-е-е отдать! И до того я в это ве-ерю...”
“Я – Пу-га-чева!”
Ее увели.
На поминках просила его сыграть для гостей “Андижанскую польку”.
“Ну давай, блум-блум, лакатум! Ну, ради отца! Ты ж его любил? Он его любил... Блум-блум, лакатум!”
Она сидела в рыжем парике и тыкала вилкой в маленький, все убегавший от нее соленый огурец.
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
Началась самая яркая полоса его жизни. Группка ребят, таких же легких, лобастых, с развитыми шейными мышцами. Победители математических олимпиад; чемпионы по гребле, летом и зимой гонявшие свою маленькую флотилию по Анхору; любители авторской песни, утащившие раз Москвича в Чимган и напоившие до потери невинности с одной певуньей под треск остывавшего костра. Он ходил, оглушенный своей взрослостью.
Их отбирали со всего города. По одному с района.
Даже по одному с двух, если не могли найти кандидатуру. Или если кандидатура артачилась, не в силах переломить буржуазные предрассудки.
Раз в неделю их собирали в Партшколе рядом с метро Горького. Вначале теория, зажигался диапроектор, в темноте поблескивали очки кандидата каких-то наук, молодого, с интеллигентной картавостью.
“Итак, учение о трех источниках и трех составных частях марксизма представляет собой диалектическое единство внешнего и внутреннего. Внешнее вы можете прочесть в любом учебнике. Уже прочли? Переходим к внутреннему. К материальной стороне. К объекту”.
Смысл слова объект они уже знали.
Кто-то прыснул. На него зашикали. “Я чихнул, говорю...”
Диапроектор высвечивал на экране серо-красную картинку. Внутреннее строение объекта. Красное – мышцы. Серое – кость.
“Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы...”
Ленин! Партия! Ком-со-мол!
После лекции они оставались поиграть в футбол или обсуждали нашумевший фильм Быкова “Чучело”. Или новую книжку Лутошкина по лидерству. Особый автобусик развозил юных гениев по домам. Иногда они ехали к кому-нибудь, всей оравой, заполняя хрущевки или узбекские дворы с овчаркой и клеткой с беданой на винограднике.
К себе Москвич обычно не звал. Мать приносила работу на дом, сидела ночью с чертежами, утром, сонная, вертела сковородку с подгоравшими гренками. Сестры взрослели и грубили. Москвич стоял почти каждую ночь под душем. “Ты чем там... занимаешься?” – ломилась в дверь мать. Он откладывал зеркальце, в которое рассматривал свой размягченный горячими струями объект, и выключал воду.
– По-моему, это гадость, – сказала Принцесса.
– Точно, – откликнулся из темноты Тельман.
– А вы об этом не знали – не слышали? – спросил Москвич.
Костер почти не горел, слабо перемигивались угли. Глаз пригляделся к темноте, проступили звезды и силуэт машины.
– Я думал, это в переносном, – Тельман наклонился к остаткам огня
и подул. – В переносном смысле.
Расположил несколько веточек на тлеющих углях, вроде икебаны.
Подул еще раз. Икебана загорелась.
– Рассказывайте уже...
– Скорее бы утро, – сказала Принцесса и зажала уши.
Посидев так немного, разжала, опустила ладони, наклонилась:
– А что было дальше?
Было слышно, как в ней скрипнуло что-то металлическое.
Огонь поднялся, стало видно схему, которую чертил на песке Москвич.
Тремя составными частями, согласно Внутреннему учению, являются Большая, Средняя и Малая мышцы Объекта.
Большая ягодичная мышца (gluteus maximus) – наиболее крупная из трех ягодичных мышц. Имеет ромбовидную, уплощенную форму. Это одна из наиболее мощных мышц человеческого тела. Она разгибает и поворачивает бедро, выпрямляет и фиксирует туловище.
Прямохождение человека, его эволюция от высших приматов, развитие производственных сил общества – все это было бы невозможно без Большой мышцы. В строении Объекта Большая мышца символизирует Пролетариат. Большая мышца играет главную роль в сидении человека, что также важно, поскольку эволюция самого человека шла от прямохождения к прямосидению (прямозаседанию). В некоторых пособиях можно встретить ее обозначение как “Ленинской мышцы”, однако на сегодняшний день это не является общепринятым. Взаимодействие языка с Объектом происходит преимущественно с Большой мышцей, что символизирует соединение инструмента речи – того, чем человек отличается от животного мира, – с другим важнейшим инструментом эволюции, Большой мышцей.
Средняя ягодичная мышца (gluteus medius) расположена под большой ягодичной. Участвует в отведении бедра, при фиксированном положении бедра отводит в сторону таз. Выпрямляет согнутое вперед туловище, при стоянии наклоняет туловище в свою сторону. Символизирует трудовое крестьянство. При определенной тренировке, можно обеспечить взаимодействие языка и с этой мышцей, не упуская, однако, взаимодействия с Большой ягодичной мышцей, как наиболее важной в построении коммунистического общества. Излишнее взаимодействие языка со Средней мышцей зачастую приводит к явлениям правого уклона, идеализации мелкобуржуазной психологии на селе, преуменьшению успехов колхозного строительства.
Малая ягодичная мышца (gluteus minimus), самая маленькая, однако глубокая из трех. Она также участвует в отведении бедра и выпрямлении туловища и символизирует интеллигенцию.
Взаимодействие языка с ней невозможно; утверждения ревизионистов о возможности бесконтактного массажа этой мышцы противоречат материалистическому учению об обществе и основаны на неправомерном преувеличении роли интеллигенции...
И было у великого шаха Ануширвана три сына.
Один – умный, другой – сильный, третий – дурак.
Состарился Ануширван.
Стал думать, кому бы из сыновей власть передать.
Позвал для совета мудрецов.
Говорит им: так и так, три сына. Один – умный, другой – сильный, третий – сами видите. Мы уже немолоды, телом некрепки, вот думаем, кому из них власть передать?
Достал первый мудрец волшебную трубочку со стеклышком, поглядел через нее на небо. И хотя ни одной звездочки на небе еще не виднелось, говорит:
“Сила – это хорошо. Сильных народ боится. Но сила правителя – в его уме. Если правитель умный, он и без телесной силы заставит народ повиноваться. И глупость – тоже неплохо, слишком умных народ не любит. Но и глупость правителя – в его уме: если правитель умен, он сумеет иногда глупцом прикинуться, чтобы народу понравиться.
Поэтому мой совет: передай власть самому умному!”.
Понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца медною чашей.
Но прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может скажут что.
Выпустил второй мудрец стаю ворон из клетки, последил, как они над ним летают-каркают, утерся от помета и говорит:
“Ум – это хорошо. Только к чему он правителю, если у него есть советники? Глупость – еще лучше. Только к чему она правителю, если у него есть жены? А вот если правитель телом немощен, здоровьем слаб, долго на престоле не усидит.
Поэтому мой совет: передай власть самому крепкому!!”.
Еще больше понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца серебряной чашей. Но, прежде чем совету последовать, решил остальных мудрецов выслушать, может, скажут что.
Третий мудрец покурил дурман-травы, запил маковым отваром, закусил мухомором и говорит:
“Ум и сила – это хорошо. Только для чего тебе, о Шах, умный или сильный преемник? Его же народ с тобой сравнивать будет! Если будет умный, скажут – о, наш новый Шах умнее прежнего, Ануширвана! Если будет сильный, скажут – о, наш новый Шах сильнее прежнего, Ануширвана! И только если дурак будет, тебе, Шах, опасаться нечего! Долго будет народ и ум твой, и силу с благоговением помнить и восхвалять!
Поэтому мой совет: передай власть самому глупому!!!”.
Совсем понравился Ануширвану этот ответ, наградил он мудреца золотой чашей. Так, думает, и поступлю! Только тут заметил еще одного мудреца, самого бедно одетого и неказистого... И решил из любопытства этого мудреца выслушать: что он-то посоветует?
А оборванец приволок барана, распорол ему брюхо и извлек печень, еще дымящуюся. Покрутил ее так и сяк. Присвистнул, ударил себя по лбу.
Ничего не говоря, обошел Ануширвана, подошел к нему со спины, опустился на колени, да и... сунул голову под шахский халат!
Что уж он там головой делал и как долго делал, о том в летописях не сказано. Только постепенно печать заботы на челе Ануширвана сошла, глубокие морщины разгладилась, а скорбно сжатые губы засверкали улыбкой. И когда закончил мудрец свое дело, поднял его Ануширван с колен, нарядил его в лучший свой халат и воскликнул: