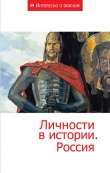Текст книги "Всё, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами"
Автор книги: Стюарт Джеффрис
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
I
Третьего июля 1973 года в лондонском концертном зале Hammersmith Odeon Дэвид Боуи объявил толпе слушателей: «Это не только последнее выступление в туре, но и последнее шоу, которое мы когда-либо делали. Спасибо»[77]77
См. воспоминания Ханны Бус об этом выступлении: Booth Н. During the Gig, David Bowie Told the Crowd He Was Retiring. People Were Crying // Guardian. 27 May 2018.
[Закрыть]. В то время Боуи был воплощением Зигги Стардаста – поп-звезды космической эры, чья андрогинная привлекательность делала его симулякром других реальных звезд глэм-рока, таких как Марк Болан. В альбом предыдущего года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, вошедший в топ чартов, Боуи включил песню, в ретроспективе ставшую хроникой предсказанной смерти.
В ту ночь в западном Лондоне Боуи убил Зигги и распустил группу. Он не предупредил об этом своих музыкантов, и говорят, что во время концерта басист Тревор Болдер наклонился к барабанщику Мику Вуди Вудмэнси и сказал: «Он, б***ь, нас уволил!» И затем группа исполнила композицию Rock ’n’ Roll Suicide, принеся Зигги в жертву толпе, с которой Боуи символически слился, когда пропел последнюю строчку песни: «Дай мне твои руки, потому что ты замечательный».
Личность Боуи-Зигги, утверждает философ и экс-рок-фанат Саймон Кричли, очаровала музыкальных поклонников тем, что отвергала доминирующие нормы общества: мальчик/девочка, человек/инопланетянин, гей/натурал. В терминах Анти-Эдипа Делёза – Гваттари, Боуи детерриториализировал себя, став андрогинным человеком со звезд, покинувшим унылые тупики спальных районов и устремившимся в фантастическую омнисексуальную сферу космического пространства, где не существует ограничений пола и сексуальной ориентации.
В конце песни Rock ’n’ Roll Suicide Боуи обращается к своей целевой аудитории, которую составляют, как пишет Кричли, «миллионы неловких маленьких Гамлетов, которые жили, не зная любви, в аду разобщенных деревушек, городков и мегаполисов». Подросток Саймон был именно таким мини-Гамлетом, мечтавшим о жизни за пределами своего родного Летчворт-Гарден-Сити. Утопавший в зелени Летчворт – как и Бекенхэм Боуи[78]78
Боуи родился в Брикстоне (см. ниже); Бекенхэм – исторически: маленький провинциальный город, расположенный в графстве Кент; ныне – часть Большого Лондона. В Бекенхэме находился рок-клуб Arts Lab, где Боуи репетировал и давал концерты в конце 1960-х годов. – Примеч. пер.
[Закрыть] – мог показаться одеревеневшим, заскорузлым, застрявшим в прошлом. В ту ночь в зале Odeon Зигги, принося себя в жертву на сцене и демонстрируя себя существом извне, указывал путь – ту делёзианскую траекторию полета, следуя которой его движимая революционной силой желания аудитория должна была устремиться из духовной изоляции душных пригородов к звездам. Мы «услышали это, – вспоминает Кричли, – и поразились тому, что нас простили. Нам нужно было лишь протянуть руки. И мы протянули. Мы купили альбом»[79]79
Кричли С. Боуи. Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 17.
[Закрыть].
За духовное возрождение через жертвенную смерть Зигги им пришлось заплатить. Но так оно и устроено: в конце постмодернистского шоу выход всегда через сувенирную лавку.
Смерть Зигги стала необходимой жертвой. Маска начала прирастать, поэтому Боуи сбросил ее. Он будет еще много раз творчески перерождаться после этого жертвенного заклания. Мальчик из Бекенхэма уже прожил жизни экзистенциального астронавта майора Тома и человека со звезд Зигги Стардаста; впоследствии он будет Изможденным Белым Герцогом, Человеком, который упал на Землю, наркоманом Пьеро, человеком-слоном, королем гоблинов. В конце концов, на альбоме Blackstar, который вышел за два дня до смерти Боуи в 2016 году, он оставит своим поклонникам непостижимое завещание, которое они могли бы попытаться – хотя, скорее всего, тщетно – интерпретировать.
Боуи был виртуозом скорее развития, нежели бытия, и его долгая артистическая карьера представляла собой серию антиэдиповых траекторий: он раз от разу всё успешнее менял маски одну на другую во избежание конфронтации с тем, что скрывается за ними. («Я никогда не улавливал даже признака, – пел он в Changes, – Что другие смогут разглядеть мой обман. / Я слишком быстр, чтобы пройти этот тест».)
Его песни стали пародиями бессмысленности, стаями летучих слов, которые наводили на размышления, но никогда не были отягощены чем-то определенным, каким-либо смыслом. Например, во время работы над альбомом Diamond Dogs (1974) он использовал метод нарезки, изобретенный писателем Уильямом Берроузом и художником Брионом Гайсином. Как и они, он брал ножницы, разрезал отпечатанные тексты на полоски и тасовал их наугад, чтобы создать стихи, которые выглядели бы глубокомысленными (или более-менее случайными: тот факт, что тексты песен Боуи всё же подчинялись ритму и рифме, свидетельствует, что автор следовал их порядку в большей степени, чем предполагал этот метод). Так появлялись пассажи вроде этого куплета из заглавной песни альбома:
Познакомьтесь с его маленькой бесстыдницей с его [её?] манерами города-призрака
У нее нет черт лица, но она носит брошь Дали
Сладко напоминающую что-то, что пекла мать
Разбитые и парализованные,
Алмазные псы стабилизованы.
Значение тоже стало маской: чем-то, что можно подобрать, надеть и затем успеть сбросить – прежде, чем она пристанет к коже. Как будто Боуи, как автор, покончил жизнь самоубийством способом, не предвиденным Бартом и Фуко, и оставил своим поклонникам бремя интерпретации того, что же это было, – если там вообще было что-то, что стоило интерпретировать. Отравленная чаша причастия: учитывая, что оно и задумывалось как бессмысленное – в буквальном смысле. Но неоднозначным был не только смысл текстов; если перевернуть конверт пластинки Diamond Dogs, то можно увидеть, что у обнаженного торса Боуи окажется собачье «продолжение» тела, как если бы он находился в процессе трансформации в собаку.
Боуи был рожден как Дэвид Роберт Джонс в Брикстоне, на юге Лондона, в 1947 году. В 1962-м он создал свою первую группу The Konrads, которая исполняла рок-н-ролльные каверы в молодежных клубах и на свадьбах. В шестидесятых он побывал фронтменом еще нескольких групп, включая The Lower Third и The Riot Squad, и стал прозелитом текучей идентичности. Уже в эти ранние годы Боуи показал, что он не следует моде, а пребывает вне ее, выступая для белых английских парней традиционной ориентации из этих групп в роли кого-то вроде Гок Вана[80]80
Вэнь Госин (род. 1974), известный как Гок Ван, – британский стилист, фэшн-консультант, популярный телеведущий. – Примеч. пер.
[Закрыть] и убеждая их освободить свой разум и нанести макияж. Когда, стоя посреди переделанного фургона скорой помощи, который служил группе The Lower Third концертным автобусом, Боуи настаивал, что они должны подражать классным мод-группам из Лондона, с их макияжем и элегантными костюмами ярких амфетаминовых оттенков, басист Грэм Ривенс «повернулся ко мне и сказал: „Да пошло оно всё в жопу“»[81]81
David Bowie: Finding Fame. BBC Two. Broadcast 8 February 2019. См.: Jeffries S. David Bowie: Finding Fame Review – A Pretty Tough Watch for Fans // Guardian. 9 February 2019.
[Закрыть], – вспоминает гитарист Денис Тэйлор в документальном фильме BBC 2019 года.
Позже Боуи убедил Мика Ронсона, Вуди Вудмэндси и Тревора Болдера – а они были, я бы сказал, самыми гетеросексуальными именами в пантеоне глэм-рока, – что им следует не только натянуть обтягивающий серебряный атлас на пивные животы, но и скрыть щетину тональным кремом. Только тогда они смогут стать «Пауками с Марса» Зигги Стардаста. «Когда до них дошло, сколько девушек они смогут склеить, выглядя как потусторонние пришельцы, – рассказывал Боуи за кадром, – оказалось, что они чувствуют себя в этом как рыба в воде».
Как этот мальчик из пригорода мог превратиться в такого ловкого аллигатора, майора Тома, пришельца, не говоря уже о военнопленном, закопанном по шею в песок японскими тюремщиками в фильме Счастливого Рождества, мистер Лоуренс? Одна из теорий, выдвинутая его кузиной Кристиной Амадей, состоит в том, что это – результат безответной любви. Боуи всегда пытался доставить удовольствие своей маме Пегги. Друг его детства Джефф Маккормак, написавший Боуи после ее смерти, что, по его мнению, она не одобряла его как друга Дэвида, получил в ответ от своего корреспондента: «Я ей тоже никогда не нравился». Примечательно, что у Боуи был сводный брат Терри, которого он вспоминал как мятежного аутсайдера и того, кто выступил катализатором его побега из пригорода, познакомив его с литературой битников и рок-н-роллом (Боуи вспоминал, что когда он в первый раз услышал Tutti Frutti Литтла Ричарда, это было равноценно тому, чтобы услышать настоящий голос Бога). Терри закончил тем, что попал в больницу с раздвоением личности и в 1985 году совершил самоубийство, – тогда как Дэвид, ставший звездой, менял личности как перчатки.
Несомненно, у Боуи было много масок. К 1975 году он превратился из алмазного пса в душевного парня, сменив стрижку и смело позаимствовав звучание из современной американской музыки черных для своего альбома Young Americans. Год спустя, на альбоме Station to Station, он уже Изможденный Белый Герцог – персонаж, представленный в заглавном треке словами: «Возвращение изможденного белого герцога, мечущего дротики в глаза влюбленным».
В следующем году Боуи уехал в Берлин, где записал серию из трех альбомов – Low, Heroes и Lodger, – в которых выступил как уставший от мира европеец. «Я пожил в каждой стране, – пел он в Be My Wife (безусловно, наименее убедительном предложении руки и сердца в поп-музыке), – Я все их покинул». Здесь слышится явное предупреждение об опасности следования делёзианской траектории: возможно, неутомимый путешественник на самом деле жаждет простого супружеского счастья и домашнего уюта. Или нет: Боуи нигде не показывал себя таким ярым постмодернистом, как в своих ироничных, уклончивых рассказах о человеке, которого мы принимаем за «Дэвида Боуи».
В 1980 году он иронично прокомментировал свою постмодернистскую личность, изобразив наркомана Пьеро, героя сингла Ashes to Ashes. Здесь Боуи, казалось, переселился в очередную антиутопию будущего. По крайней мере, в видео, снятом на песню с этой пластинки, белолицый Пьеро в клоунском гриме вещает о последних временах, погружаясь в светящиеся зеленоватым сиянием радиоактивные отходы из сталкеровской Зоны Тарковского:
Прах к праху, дрянь к дряни.
Мы знаем, что майор Том был торчок.
Улетая на небеса,
Валялся в грязи.
Несомненно, наркотики играли огромную роль в мутациях Боуи[82]82
Известно, например, признание Боуи, что в 1970-е годы он существовал на «красном перце, кокаине и молоке»; см. подробно: Buckley D. Strange Fascination: David Bowie – The Definitive Story. London: Virgin Books, 1999. Р. 258–275. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Он описывал, как употреблял в семидесятых промышленные количества кокаина, и считал результатом неумеренного употребления наркотиков скандальные эскапады вроде фашистского приветствия Изможденного Белого Герцога в автомобиле с открытым верхом, а также объявлял такое поведение театральным жестом, соответствующим образу, но лишенным политического значения. Боуи не заигрывал с фашизмом, как мы могли бы предположить, – он всего лишь играл очередную роль. Даже человеконенавистнический жест гитлеровского приветствия был лишь элементом зрелища.
Постмодернистское искусство Боуи было бесконечно изменчиво, но еще больше был изменчив сам художник. Так, Боуи стал человеком, оседлавшим чужие тексты и чужие личности, когда выступил в роли героя песни Игги Попа (своего друга и соавтора) The Passenger, которая была выпущена в виде отдельного сингла в 1977 году. Кричли предполагает, что название композиции могло быть вдохновлено фильмом Антониони[83]83
Упомянутый в начале настоящей главы фильм Профессия: репортер первоначально назывался
The Passenger (Пассажир); название признано каноническим в англоязычных странах. – Примеч. науч. ред.
[Закрыть]. Игги как-то заявил в одном из интервью, что этим пассажиром был он, а Боуи возил его по Соединенным Штатам, потому что у него не было водительских прав. В этой песне, записанной при участии Боуи на студии Hansa в Берлине, мир переосмысляется как созданная для потребления ночная фантасмагория.
Однако самым любопытным персонажем, сыгранным Боуи, был гуманоидный инопланетянин Томас Джером Ньютон из фильма Николаса Роуга Человек, который упал на Землю (1976). Не столько ретерриторизованный, сколько пытающийся обрести территорию, Ньютон, прикинувшись человеком, появляется на Земле в поисках источника воды после того, как его родная планета высохла. Поначалу его миссия кажется успешной: используя технологическое превосходство своей цивилизации, он патентует серию изобретений и становится невероятно богатым, а свои деньги использует для оплаты строительства космического корабля, который должен транспортировать воду для спасения его родной планеты. Тем временем он живет с Мэри Лу, простоватой служащей отеля, которая не осознает, что Ньютон инопланетянин, хотя и понимает, что он не местный. Ньютон говорит ей, что он англичанин, – этого, как ни странно, оказывается достаточно, чтобы рассеять ее подозрения.
Мэри Лу знакомит Ньютона с двумя главными удовольствиями своей родной планеты – телевизором и алкоголем, – и он попадает в зависимость и от того и от другого. Ньютон бесконечно сидит перед стеной из телеэкранов, которые он способен смотреть все одновременно, и поглощает алкоголь, ошеломленный и обездвиженный, – как олицетворение Общества спектакля Ги Дебора или как символ территоризованного конформизма, от которого Делёз и Гваттари так хотели нас освободить.
Ключевым эпизодом фильма является сцена, когда Ньютон раскрывает Мэри Лу свою истинную личность. Он не англичанин, он что-то еще более ужасное. Он исполняет стриптиз, инопланетный танец семи вуалей, разоблачая себя, срывая соски и волосы, снимая уши и вынимая контактные линзы, чтобы она увидела под ними глаза рептилии. Мэри Лу бледнеет и в ужасе мочится под себя. Ее желание увидеть его самое подлинное, лишенное притворства «я» за рамками спектакля удовлетворяется самым жутким образом.
Человечество, как писал Томас Стернз Элиот, не может вынести слишком много реальности. А реальность – истинное «я» главного героя фильма Человек, который упал на Землю – чужда людям в буквальном смысле.
Философ Чарльз Тейлор утверждал, что мы живем в эпоху аутентичности. Он предположил, что предписание быть настоящим пришло на смену императиву подчинения воле Божьей. Этот век подлинности, в котором мы – люди, которым поручено стать самими собой, найти свой путь и делать свои дела, – то, чем одарило или, возможно, прокляло нас Просвещение. Идея о том, что для поиска Бога необходимо использовать собственный разум и опыт, возникшая в эпоху Просвещения и нашедшая выражение в философии деизма, внушила нам чувство интеллектуальной автономии, которое привело некоторых к тому, чтобы полностью отказаться от Бога.
При чем тут Боуи? Бывший человек со звезды отказался быть привязанным к одной личности. Более того, в наш век аутентичности он стал напоминанием о важности недостоверности. Саймон Кричли писал: «Искусство преподносит скверный урок: урок совершенной неаутентичности. Всё – череда повторов, постоянная реконструкция событий. Фальшивки, обнажающие иллюзорность реальности, в которой мы живем, и сталкивающие нас с реальностью иллюзии»[84]84
Кричли С. Боуи. С. 15.
[Закрыть]. Раскрытие Ньютоном своего подлинного «я» – это то, чего Дэвид Боуи, художник постмодерна, человек, который всю свою карьеру менял одну маску на другую, никогда не делал публично. В самом деле, становясь – в русле той многослойной иронии, которой славится постмодернизм, – инопланетянином для съемок Человека, который упал на Землю, играя Ньютона, играющего человека, в те дни, когда шли съемки сцены, в которой его персонаж раскрывал свое истинное «я», Боуи скрывался за еще одной маской, проводил по восемь часов в гриме рептилии.
Всё это сводится к осознанию того, что микроанализ лирики Боуи на предмет скрытых смыслов упускает суть его искусства. В своей книге Против интерпретации Сьюзен Сонтаг утверждала, что нам нужна эротика, а не герменевтика искусства. Эта идея была вдохновлена ее другом, художником Полом Теком, которому надоело, что Сонтаг умничает и теоретизирует о художественных произведениях, вместо того чтобы заниматься тем, для чего они предназначены, а именно переживать их и возбуждаться от этого. Постмодернистская музыка Боуи точно так же пытается противопоставить себя интерпретации.
Что касается Томаса Джерома Ньютона, он так и не вернулся на свою родную планету. Плененного конкурирующим предпринимателем, его содержат в роскошном номере в отеле и подвергают медицинским исследованиям; во время проведения одного из них его облучают рентгеном, в результате чего контактные линзы фиксируются на его глазах. Так маска навсегда прирастает к его лицу, изоморфизируя его личность. Ньютон, неспособный даже умереть, оказывается территоризован в вечности.
Незадолго до своей смерти Боуи вернулся к этой роли, написав песни для мюзикла Lazarus и одноименную песню для своего последнего альбома Blackstar. Песня загадочная, но, поскольку ее автор мертв и больше некому выступить в роли неопровержимого авторитета, возможно, мы можем предпринять попытку ее истолкования. Пусть даже Боуи в роли Лазаря, предаваемого бесконечной посмертной интерпретации, предпочел бы, чтобы его оставили в покое. Как бы то ни было, он предложил свое, хотя и ироничное, объяснение, рассеянное по текстам его песен. Похоже, например, что Ashes to Ashes выражает фрустрацию детерриторизованных, бесконечно изменчивых персонажей Боуи, пойманных в ловушку сизифова труда бесконечной стратегии конструирования новых идентичностей. Он пел:
Я никогда не делал ничего хорошего,
Я никогда не делал ничего плохого,
Я никогда не делал ничего неожиданного, о-о-о,
Я хочу топор, чтобы пробить лед,
Я хочу прийти в себя прямо сейчас.
Тут, как мы можем себе вообразить, художник постмодерна дошел до точки, в которой у него возникает желание выразить свое недовольство тем, что влечет за собой погружение в постмодернистское творчество: кругом одни только маски и отсутствие аутентичности, всепроникающая ирония и леса кавычек. Но с одной изюминкой: Боуи часто добавляет в свой репертуар высказывания от лица духовно неудовлетворенного постмодернистского художника, размышляющего над экзистенциальными последствиями карьеры хамелеона.
Эта саморефлексия часто выражалась в трагикомически саморазрушительных терминах:
Я просто езжу кругами по подземному гаражу.
Должно быть, стрелка уже на 150.
О, но я всегда разбиваюсь в одной и той же машине,
Я всегда разбиваюсь в одной и той же машине.
Возможно, это очередной акт исчезновения еще одной маски. Возможно, Боуи играл постмодернистского персонажа – назовем его «Дэвид Боуи», – который просил топор, чтобы пробить стену между своими ролями и реальным «я», стоящим за ними. Но у Дэвида Боуи не было топора, не было пути к себе – у него не было ничего, кроме маскарада. Предвосхитив возможность, предоставленную каждому современным интернетом, участвовать в маскараде киберпространства, он превратил маски в человека и бесконечно вставал между нами и тем, что оставалось скрытым. Если, конечно, скрытое имело место. Ведь не исключено, что настоящий Дэвид Боуи просто хорошо защищал свою частную жизнь.
II
Так же как Дэвид Локк и Дэвид Боуи, Синди Шерман в середине семидесятых занималась исчезновениями. В то время как Боуи был хамелеоном, а Локк – постколониальным репортером, избавляющимся от своего прошлого, Шерман была художницей-фотографом, снимавшей себя, прячущейся за перевоплощениями: она исполняла роли персонажей, походящих на кинозвезд предыдущих поколений, таких как Моника Витти, Софи Лорен, Брижит Бардо и Ким Новак. В Complete Untitled Film Stills, серии из шестидесяти девяти черно-белых фотографий, Шерман, очевидно, стремилась ниспровергнуть кинематографические стереотипы о женщинах. «Я чувствую себя анонимной в своих работах, – сказала она. – Когда я смотрю на фотографии, я никогда не вижу на них себя; это не автопортреты. Иногда я исчезаю»[85]85
Цит. по: Collins G. A Portraitist’s Romp through Art History // The New York Times. 1 February 1990.
[Закрыть].
Но исчезала ли она? Оскар Уайльд утверждал обратное: «Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. Дайте ему маску, и он расскажет всю правду».
Ранние работы Шерман привлекли внимание критиков-феминисток, которые полагали, что та правда, которую рассказывает Шерман, касается мужской объективации женщин с помощью визуальных образов. В целом, там действительно было слишком много женщин, призывно возлежавших на взбитых постелях, чтобы увидеть в этом что-то иное. В Untitled Film Still # 52 Шерман лежит на смятых простынях, в светлом парике и шелковой ночной сорочке, по-видимому погруженная в задумчивость, беззащитная и раздетая, словно доступная для хищного потребления. Джудит Уильямсон полагала, что нетрудно определить, пастиш какого режиссера – Хичкока, Годара – или какой картины из множества фильмов категории Б представляет собой та или иная работа Шерман[86]86
См.: Williamson J. Images of «Woman» // Screen. Vol. 24. No. 6. November – December 1983.
[Закрыть].
Лора Малви проницательно отметила, что эти как бы кадры из фильмов изображают женщин эйзенхауэровской Америки 1950-х годов, когда в противостоянии холодной войны использовалась не только угроза ядерного Армагеддона, но и, возможно, более мощное оружие: желанное женское тело[87]87
См.: Mulvey L. A Phantasmagoria of the Female Body: The Work of Cindy Sherman // New Left Review. No. 1 (188). July – August 1991.
[Закрыть]. Америка этой эры, в воображении Малви, была мифическим местом рождения постмодернизма, в котором реклама, кино и упаковка товаров проповедовали культ гламура, а США высокомерно позиционировали себя как рай на земле, как если бы рай можно было определить, исходя из статистики снабжения населения потребительскими товарами. Действительно, мужские взоры жадно поглощают желанные женские тела с той поры, когда – приблизительно в 1480 году – из морской пены в Рождении Венеры Боттичелли возникла языческая богиня; возможно, и дольше. Но постмодернистский трюк, который Малви увидела в работах Шерман, заключался в том, что женщины на кадрах из этих несуществующих фильмов, где она играла, были вовлечены в социальный маскарад. Сконструированная женственность кинозвезд, которую Шерман имитировала в своих пастишах: бюстгальтеры-пули, затянутые талии и обильный макияж, – была частью культурной индустрии, склонной к лакировке действительности. Ужасы холодной войны, от маккартизма с его черными списками и запретом на профессию до концепции гарантированного взаимного ядерного уничтожения, прятались за гладкими поверхностями и чувственными изгибами, будь то линии бедер Мэрилин Монро или лакированные панели последней модели «кадиллака».
В Untitled Film Still # 15 Шерман играет роль танцовщицы, сидящей на подоконнике, как мы можем вообразить по высокому окну и деревянному полу, в помещении танцевальной студии. На ней облегающий топ с коротким рукавом, соблазнительно обнажающий ложбинку бюста, и короткие шортики, ее длинные элегантные ноги в носочках до щиколотки и лаковых туфлях с высокими каблуками, характерных для той эпохи, напоминают ноги Сид Чарисс или Ширли Маклейн. Словно отдыхая между дублями танцевальной сцены из Вестсайдской истории или Поющих под дождем, она скромно смотрит в окно, погруженная в свои мысли, – или, вполне возможно, вообще ни о чем не думая.
Как ни странно, это перевоплощение Шерман напоминает Джуди, которую играет Ким Новак в триллере Альфреда Хичкока о мужском вуайеризме Головокружение (1958). Джеймс Стюарт играет бывшего полицейского Джеймса Скотти Фергюсона, одержимого женщиной по имени Мадлен, следить за которой его нанимает встревоженный муж. После гибели Мадлен Скотти переносит свою одержимость на Джуди – женщину, которая очень похожа на Мадлен (на самом деле обе роли исполнила Ким Новак). Скотти, как и Синди Шерман – хотя и в более фетишистской манере, – посвящает себя превращению Джуди, с которой он сблизился, в покойную Мадлен, заставляя ее менять прическу, одежду и макияж, пока он не сможет влюбиться в двойника Мадлен.
Конечно, существует ключевое различие между Скотти и Синди. Шерман не занимается трансформацией других женщин в угоду своей эротической одержимости – она трансформирует себя ради своего искусства. Шерман рефлексирует ту эпоху кинематографа, когда герои-мужчины перебирали женщин с тщательностью на грани женоненавистничества до тех пор, пока они не начинали соответствовать их представлениям и фантазиям. Таковы маскулинные персонажи пятидесятых – от Скотти в Головокружении до Рекса Харрисона в роли Генри Хиггинса в Моей прекрасной леди.
Сцена в Untitled Film Still # 15 напоминает и другой фильм Хичкока о вуайеризме. В картине Окно во двор (1954) Джеймс Стюарт играет фоторепортера Джеффа Джеффриса (к которому я не имею никакого отношения), вынужденно запертого в своей квартире из-за гипса от ступни до бедра – своего рода символической кастрации, не позволяющей ему выходить за рамки визуальных удовольствий. Из окна, к которому Джефф подъезжает в инвалидном кресле, открывается вид на галерею окон в доме напротив – галерею преимущественно женской жизни. Каждое окно, в которое он от нечего делать заглядывает, оформлено как киноэкран, каждая женщина внутри его рамы находится под его пристальным взглядом.
Джефф подглядывает, как одна женщина, которую он для себя прозвал мисс Одинокое Сердце, готовит ужин при свечах для человека, который никогда не приедет, до тех пор, пока она не сможет более жить иллюзией и не рухнет в слезах. В другом окне он наблюдает балерину, духовную сестру танцовщицы Шерман с Untitled Film Still # 15, которую он прозвал мисс Талия и которая развлекает толпу мужчин, наслаждающихся выпивкой. Но если Джеффри занимается этим сексуально заряженным вуайеризмом (через телеобъектив, всё сильнее приближающий изображение по мере того, как его взгляд становится всё более сладострастным, – символический протез того, для расшифровки чего необязательно быть фрейдистом), безымянная женщина с Untitled Film Still # 15 просто смотрит в окно, а что она там видит и о чем думает – это остается загадкой. Она – ироническая инверсия мужского взгляда; женский взгляд в фильме Хичкока был бы неуместен на уровне концепции, как если бы Хичкок на вопрос Фрейда «Чего хочет женщина?» ответил встречным вопросом «А кого это волнует?». Всё, что вам нужно знать, – это то, что на женщину нужно смотреть, а мужчина получает удовольствие, глядя на нее.
К счастью, во всем этом есть одно «но». Лора Малви рассматривает кадры Шерман как trompe-l’œil – тромплёй, художественную обманку, иллюзию, – где художник словно уговаривает зрителя насладиться предполагаемым вуайеризмом, предлагая ему взглянуть на эротические образы пассивных, доступных, готовых к употреблению женщин в манере Джеффа Джеффриса, подглядывающего за их драмами из своего окна, – но затем выворачивает всё наизнанку. Зритель с ужасом осознаёт, что во всех этих стилизациях эротической доступности он видит саму Синди Шерман, и это разрушает четвертую стену, необходимую для фетишистской фантазии, неявного контракта между доступным объектом (женщиной) и взглядом наслаждения (мужчиной). Малви пишет: «Как хорошо известно кинозрителю, момент восхищения техническим исполнением иллюзии немедленно разрушает ее достоверность. Вуайеризм переворачивается, как захлопывающаяся ловушка, и зритель в конце концов осознает, что Шерман-художник в союзе с Шерман-моделью создала машину, заставляющую жадный взгляд некомфортно материализоваться»[88]88
Mulvey L. A Phantasmagoria of the Female Body…
[Закрыть].
Такое свойство восприятия называется эффектом перевертыша. Это похоже на зрительную иллюзию с картинкой, на которой можно увидеть то утку, то зайца, но никогда – по крайней мере, так утверждал Витгенштейн – и то и другое одновременно. Но есть разница между картинкой уткозайца и большинством работ Шерман. Если вы поняли, как работает иллюзия уткозайца, вы можете радостно переключаться между двумя восприятиями картинки. Вы можете видеть утку, а затем увидеть ее как зайца, снова утку, затем зайца. Но так не получится с Untitled Film Stills Шерман. Разобравшись с иллюзией, вы не сможете – ну или вряд ли сможете – снова обмануть себя, вновь увидев в этих снимках иллюзию, кадры из несуществующих фильмов.
Искусство Синди Шерман позволяет переключиться только в одну сторону. Лучше всего это видно в Untitled Film Still # 6, где она лежит, раскинувшись на кровати, в светлом парике и густом макияже, с блеском на призывно приоткрытых губах; раскрытый пеньюар демонстрирует несовпадающие бюстгальтер и трусики, тело услужливо повернуто так, чтобы избежать риска потревожить вуайериста неожиданной встречей взглядом: модель смотрит куда-то за пределы кадра, будто погрузившись в какие-то собственные, до некоторой степени непознанные мысли. Но что-то мешает потреблению этого эротического изображения. Женщина тянется к чему-то правой рукой. Что бы это могло быть? Телефон, вибратор, пистолет, клатч? Нет, это пульт дистанционного спуска затвора фотоаппарата: жест, таким образом, привлекает внимание к тому, что зритель попал в ловушку.
Шерман исполняет танец двух вуалей. Частичное обнажение тела в распахнутом пеньюаре, казалось бы, предлагает сексуальное возбуждение, но пульт спуска затвора камеры рассказывает другую историю: Шерман – создатель этого изображения, а не его объект, и тем более – не объект потребления. Такой вариант эффекта перевертыша превращает фотографию Шерман в постмодернистское произведение. «Зритель смотрит, зритель видит узнаваемый стиль, зритель сомневается, делает повторную оценку и понимает, что стиль здесь – цитата, а значения смещаются и меняют свои референции, как смещение восприятия перспективы из оптической иллюзии»[89]89
Ibid.
[Закрыть], – писала Малви.
По сути, Шерман облила холодной водой гениталии мужчины-хищника. Или, как говорят теоретики, она проблематизировала фетишистский мужской взгляд. В своем эссе Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф Малви утверждала, что мейнстримное кино предлагает два типа визуального удовольствия: скопофилия, вуайеристское наслаждение от наблюдения за обнаженными или вовлеченными в сексуальную активность, что, как настаивал Фрейд, означает восприятие других людей в качестве объектов; и нарциссизм, удовольствие от отождествления с изображением себя или подобного себе, описанный как стадия зеркала в теории Лакана.
Поскольку «удовольствие от просмотра было разделено между активным/мужским и пассивным/женским», скопофилия отводит привилегированное положение мужскому взгляду и делает женщин в кино вещами, на которые можно смотреть. Функция изображения женщины в патриархальном бессознательном заключалась в символизировании опасности кастрации по причине отсутствия у нее пениса, в то время как, по утверждению Малви, «в патриархальной культуре [женщина присутствует] для мужчины как символ другого, связанного с тем символическим порядком, в котором мужчина может воплотить в жизнь свои фантазии и навязчивые идеи через лингвистические команды, подавая их безмолвному образу женщины, всё еще привязанной к своему месту носительницы смысла, а не создателя смыслов». Синди Шерман разрушала этот символический порядок: она выступала творцом смысла, ниспровергателем патриархального взгляда.
Хорошо, допустим. Однако сама она не желала оказаться в жестких рамках подобной роли: «Я знаю, что не задумывалась сознательно об этом, о „мужском взгляде“. Для меня это был просто способ, которым я снимала, к самоосознанию этих персонажей меня приводила техника имитации стиля черно-белых фильмов класса Z, а вовсе не мои познания в теории феминизма. Полагаю, бессознательно или в лучшем случае полусознательно я боролась с каким-то собственным внутренним смятением по поводу понимания природы женщин»[90]90
Цит. по: Respini E. Cindy Sherman. New York: Museum of Modern Art, 2012. Р. 30.
[Закрыть].