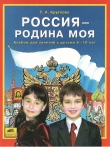Текст книги "Непознанная Россия"
Автор книги: Стивен Грэхем
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Стивен Грэхем = Graham Stephen.
Непознанная Россия = Undiscovered Russia / Пер. с англ. М. Ильюшиной. – Lnd: John Lane the Bodley Head, [1914]
ПРЕДИСЛОВИЕ
В Англии не знают русской жизни. Россия не так уж далека от нас и была бы нам вполне видна, если бы не пелена, заслонившая ее в последние годы. Сразу же в начале книги я хочу сказать – это вовсе не страна бомбометателей, невыносимой тирании и всевозможных бед, приходящего в упадок крестьянства, продажной, отвратительной церкви. Русские – нация сельских жителей, вскормленных на этой земле, они неграмотны, как дикари, и отнюдь не рвутся жить в городах. Сила у них великанья, но они просты, как дети, суеверны и загадочны. Они живут той жизнью, какой желал Рескин для англичан, какой он пытался убедить их пожить. Русские послушно религиозны, по-настоящему уважительны к старшим, верны земле, которую пашут, довольны своей старой материальной культурой, не используют механизмов и фабричных вещей, а изготавливают все, что им нужно, сами, в основном из сосны. Они абсолютно цельны, никогда ниоткуда не "выпадают", как то бывает с англичанами. В России не существует проблемы "возврата к земле", и еще сотни лет ее не будет.
Либеральная пресса и революционеры хотели бы просветить крестьянство, дать ему право голоса. Стремясь устранить ограничения в развитии промышленности России и в свободе городской жизни, они еще раз предают деревню городу, спеша повторить все ошибки Западной Европы. Англия "отпала" от земли, перестав производить собственный хлеб насущный, и ни Рескину, ни иже с ним не дано водворить ее обратно. Если "отпадет" Россия, на Земле станет одной скромной, работящей, хлебопашеской страной меньше. Кто-то сказал: "Глупость демократии в том, что она стремится вывести все низшие слои в высшие" – эта глупость может стать интернациональной. Англичане мощно проявили себя как нация, но кто сказал, что склонности их характера и пути их развития свойственны другим? В самом деле, трудно представить себе более не похожие друг на друга расы, чем тевтонская и славянская. Русские и англичане еще менее познали друг друга, чем мужчина и женщина.
In the words of Merezhkovsky, speaking to the rest of Europe -
" We resemble you as the left hand resembles the right ; the right hand does not lie parallel with the left, it is necessary to turn it round. What you have, we also have, but in reverse order ; we are your underside. Speaking in the language of Kant, your power is phenomenal ours transcendental ; speaking in the language of Neitzsche, you are Apollonian, we Dionysian. Your genius is of the definite, ours of the infinite. You know how to stop yourselves in time, to find a way round walls, or to return ; we rush onward and break our heads. It is difficult to stop us. We do not go, we run ; we do not run, we fly ; we do not fly, we fall. You love the middle ; we, the extremities.
You are sober, we drunken ; you, reasonable, we lawless. You guard and keep your souls, we always seek to lose ours. You possess, we seek. You are in the last limit of your freedom ; we, in the depth of our bondage have almost never ceased to be rebellious, secret, anarchic and now only the mysterious is clear. For you, politics knowledge ; for us religion. Not in reason and sense, in which we often reach complete negation nihilism but in our occult will, we are mysties.
Мы должны понять новую нацию, которая с каждым днем все более способна выразить себя, и проявить терпение. Со временем, по мере того, как на карте континента станут бледнеть пограничные линии, когда придет эпоха космополитизма, мы спросим себя уже не как англичане, а как европейцы: "Кто эти братья, что живут далеко на востоке и производят для нас хлеб? Кто они нам, и каков их вклад в общее дело?"
Россия где-то там, позади, неведомая страна, населенная самобытным крестьянством. Вдали от железных дорог, на лесных полянах, вокруг церквей, в зеленых речных долинах, там, куда никогда не доходили западная одежда и западная культура, живет забытая семья наших братьев. Среди них я скитался и жил. Вот русская жизнь, как она увиделась мне в тех дальних глухих селеньях, где не ступала нога западноевропейца.

Holy Russia, from the painting of Michael Nesterof
Глава 1
НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
Декабрь, а с ним и весь год, подходили к концу. Земля была почти без снега, а если он где и лежал, так уже старый, оставшийся от тех дней, когда небеса были щедры. Слегка дождило, слегка морозило, слабо дул ветерок, залегая в изнеможении среди туманов. Над убранными кукурузными полями плыл туман, он безмолвно окутывал зеленые крыши сельских домов. Ненадолго развеявшись, туман являл подножия гор. Я жил на самом юге России.
Как-то утром я отправился на небольшое местное кладбище. Туман, казалось, освободил только это место, ясно различались могилы, памятники, кресты, оставшаяся с прошлого лета трава, увядшие цветы, даже окружавшая кладбище низкая зеленая ограда. Вокруг же царствовал туман. На какой-то миг весь мой мир съежился, а неведомое безгранично расширилось. Туман все наступал, наступал – как забвение наступает на память, как будто мне остались лишь те семь футов, на которые падает моя тень.
Вокруг меня возвышалось множество деревянных крестов, покрашенных зеленым. Кресты мокли под бесчисленными дождями, высыхали под горячими лучами солнца, снова влажнели от дождей и туманов, белели под снегом, серебрились от морозов. Непрочные, неустойчивые, как будто их понатыкали дети, а ветры так их расшатали, что они смотрели во всех направлениях, на любую звезду в небе. На кресты были надеты иконки, венки из искусственных цветов, молитвенники, образки, а под ними виднелась надпись:
"Здесь покоится раба Божьего..."
Старое, полное мертвецов кладбище служило нескольким окрестным селам не меньше века. Рыхлая черная земля, казалось, пропиталась ладаном, воспоминаниями о слезах и молитвах.
Совсем близко к поверхности располагались бедные, грубо сколоченные гробы, большей частью сделанные для себя перед смертью самими мужиками. Растворилась, исчезла плоть, а с нею все, что отличало тех, чьи жизненные пределы отмечены крестами. У русских, однако, установленный на могиле крест отменяет самое могилу, обозначает торжество Христа над смертью. Здесь нет крестов из камня, все они из дерева, а для русского дерево – не просто дерево, оно – Древо жизни. Ибо в России нет мертвых, а тот, кто миновал темные врата, живет в вечности.
Вдруг из тумана обрисовалась фигура, как будто сам туман принял определенные очертания. Высокая, но согнутая временем старуха медленно приближалась, собирая по дороге хворост. Блуждая между могил, она не замечала меня. Пока я терялся в догадках, что такое она делает, с невидимого дерева слетела ворона, она уселась на крест под самым носом у старухи. Та поспешила прочь от дурного знака, а я понял, что она пришла устроить тризну на могиле. Неподалеку, там, где вокруг тусклозеленого креста стояли грубо отесанные скамейки, горела свеча и молодая женщина что-то пристраивала на низеньком могильном холмике – может быть, венок? Приблизившись, я узнал свою соседку, что жила в доме, выходившем окнами на белостенную церковь.
Я не стал подходить ближе, а они тем временем установили перед могилой елочку, украсили ее игрушками и свечами. Старая женщина разожгла небольшой костер из собранного ею хвороста, а молодая, ее дочь, расстелила скатерть и поставила на нее пирог с их рождественского стола. Они пришли разделить свой праздник с усопшей, что была их дочерью и сестрой.
Потрескивал огонь, посылая клубы сизого дыма. На елке, у могилы, посверкивали огоньки. Светились красные и желтые свечи. Текучий туман, как призрачное привидение, окутывал всю сцену, и я был единственным живым ее зрителем.
Перекрестясь и поцеловав землю, старая женщина поднялась, поставила на могильный холмик небольшой кусок пирога для усопшей и, взяв немного себе, подала его и живой дочери. И мне в сердце моем был подан священный огонь. Так миновало то необычное рождественское торжество. На нем присутствовали трое живых, а еще четыре тысячи теней кружились вокруг в тумане. Я чувствовал себя Улиссом в поисках Тирезия.
Умершая была любимой дочерью и слезы струились по лицу старой матери. Хотя молодая женщина и не плакала, я чувствовал, что в сердце ее не меньше слез. Старуха, бабушка, пришла из той, старой Руси, а молодая принадлежала к самой новейшей.
Я могу еще кое-что добавить. Снятые с елки игрушки они раздали детям бедняков из соседних домов, и пирог тоже. Молодая женщина понимала, что своих умерших мы обретаем в живых.
И на пасху, когда вся округа со священнослужителями, со свечами пришла разделить праздник с усопшими, старую женщину снова можно было видеть у могилы, а у креста, все еще украшенного пальмовыми ветвями, горела свеча. На грубых скамьях нищие делили с умершими поминальную трапезу из риса с изюмом.
И каждый раз во время причастия, когда у входа в церковь можно купить хлебец (просфору), чтобы передать его с написанным на листке бумаги именем священнику в алтаре, мать и сестра писали имя своей усопшей и посылали вместе с просфорой для того, чтобы свершился обряд причащения. Пишется великое множество имен – отцов, матерей, бабушек и дедушек, живых и скончавшихся друзей, тех, кто находится в России, в заключении, за рубежом, тех, кто пропал без вести, – и всегда имя сопровождается кусочком хлеба. Перед началом богослужения среди глубокой тишины священник зачитывает все полученные им имена. Не поймешь, кто жив, а кто умер, но чувствуешь, как тебя окружает большая толпа.
Как-то утром, придя навестить бабушку и ее дочь, я застал их за приготовлениями к причастию. Комната сверкала в лучах солнца исключительной чистотой, на покрытом белой скатертью столе стояли кувшины с цветами. Старая женщина вошла уже после меня, очевидно, из церкви, на ней была накидка, а в руке она несла узелок с просфорой. Волосы ее были исключительной белизны и душа сияла в ее глазах блеском благочестия. Когда она сняла накидку и осталась в белом платье и богатой старинной белой шали, в комнате повеяло чем-то ангельским.
Тихо и спокойно старая женщина села за стол, посреди которого кипел самовар. Она не брала в рот пищи с шести вечера предыдущего дня и теперь собиралась завершить пост освященной трапезой. Дочь налила чаю, мать разломила просфору и, перекрестившись на святой образ в переднем углу, приступила к трапезе причастия.
"Матушка желала бы встретиться с вами на небесах", – сказала мне дочь, вручая кусок просфоры.
Я люблю Россию. Временами она значит для меня больше, чем родная страна. В ее глазах – новые тайны, новые открытия, ибо Россия – дочь другой земли, не моей. Не только я, но и другие попавшие сюда англичане подпадут под те же чары, только трудно найти эту принцессу – она скрыта за горами, за лесами. Мне часто кажется, что я – тот счастливый принц, что нашел Спящую красавицу.
Я жил среди прекрасных людей, ведущих ясную, тихую жизнь вдали от шума и гама Запада. Жизнь их была так мистически чиста, что мне иногда казалось, а не привиделось ли мне все во сне. В Англии такого не знают. А для меня открылась любовь.
В России встречаешься с редкой доброжелательностью, тебя передают из рук в руки, как будто ты плывешь по реке. "Мне бы хотелось, чтобы вы узнали Россию, какой она осталась в старинных, отдаленных краях, – сказала мне молодая женщина. – Вам надо поехать на Север, там в лесах, как во льду, сохранилась прежняя Русь. Это Архангельская и Вологодская губернии, там нет железных дорог, вообще никакого прогресса двадцатого века. Если вы поедете, я напишу о вас своему другу".
"Степан Петрович покидает нас!" – воскликнула старуха, огорчение проступило на ее лице, но тут же исчезло. "Хотя он и уедет, все равно останется близок нам".
На том и порешили. Я должен был отправиться в Архангельск, провести на Севере все лето, передвигаясь как богомолец, или странник, и слиться с жизнью русских крестьян.
Друг ответил, что будет рад моему приезду, ибо Север полон чудес и очарований, однако, он не советует мне приезжать, если я слишком чувствителен, поскольку темные леса и печальные небеса могут сделать меня несчастным. Если же, тем не менее, я решусь, он познакомит меня со своими друзьями, достанет у губернатора рекомендательное письмо и вообще сделает для меня все, что возможно.
~
Глава 2
БЕЛАЯ НОЧЬ РОССИИ
Я проделал путешествие в три тысячи верст, что пролегли от крайнего юга царской империи до крайнего ее севера. Через степи к охваченному холерой Ростову-на-Дону, по предгорьям Донского казачьего края, по Малороссии – к Воронежу и Москве. Когда я покидал Юг, солнце там уже обжигало, однако в Москве было так холодно, что официанты в открытых кафе носили поверх передников пальто. Добравшись до северных губерний, я расстался с летом и опять вернулся в весну. Сначала из Москвы я отправился в Ростов Великий, называемый так потому, что когда-то был княжеством. Теперь это полугород-полусело, так тесно заставленное старинными храмами и крестами, что, как говорит пословица, "сатане туда не просунуться". Миновав прекрасные березовые рощи, поезд переехал Волгу, которая здесь еще подросток, у Ярославля, а оттуда через нескончаемые леса помчался к архангельской тундре. Там было еще холоднее, чем в Москве, среди деревьев виднелись остатки снега.

Погода стояла не по сезону, но в день моего приезда тучи разошлись и показалось такое же жаркое, как на юге, солнце. Местный житель просветил меня, что это дневной ветер сменился на ночной и, значит, в ближайшие сутки не будет ни снега, ни дождя. Obyednik дует с юго-востока, где солнце находится в то время, когда готовят обед, а polunotchnik дует с севера, солнце бывает там в двенадцать часов ночи... В полночь в Архангельске сияет солнце. Я оказался в краю, где два месяца в году не кончается день, а два месяца тянется бесконечная ночь.
Архангельск – красивый город в семь миль длиной, в нем множество церквей, их золоченые купола сверкают на солнце. Дома и мостовые сделаны из некрашеных сосновых бревен. На набережной кипит бурная жизнь, там грузят лес и выгружают рыбу. На деревянных мостках женщины из деревень, расположенных на другом берегу Двины, отмывают треску. Переправляющиеся в город четыре женщины в красных платьях мерно взмахивают веслами, заходя к пристани. Среди сотен лотков ежедневной ярмарки толпами бродят матросы из Шотландии и Норвегии, и какие же невероятные товары здесь выставлены – пироги с треской, корзины из березовой коры и трубки из резной моржовой кости, изображения святых и всякий богоугодный хлам для неимущих богомольцев. А тем временем непрерывно гудят пассажирские пароходики, приплывающие с островов в Белом море либо из придвинских деревень, паровые буксиры тянут горы бревен вверх и вниз по реке. Причалы заполнены нищими богомольцами, жаждущими добраться до Соловецкого монастыря, наиболее почитаемого из всех местных святынь. Многие из них отмерили не одну тысячу миль, пользуясь в дороге даровым гостеприимством, ведь зачастую у них в кошельке не завалялось и копейки. Я прокатился вниз по реке, где видел огромный, принадлежавший монастырю богомольческий корабль. Весь экипаж парохода от капитана до юнги состоял из длинноволосых монахов, они выглядели так живописно и старомодно в синих, перепоясанных подрясниках. Также и посадка богомольцев на пароход, их заношенные разноцветные одеяния представляли весьма занимательную картину, какую не встретишь в цивилизованной Европе.
Я поселился рядом с паломниками, богомольцами, как их называют русские, в гостинице у реки. Ее держала пожилая, весьма добросердечная дама, пускавшая к себе и нищих. Гостиничка состояла из маленькой общей комнаты да нескольких каморок. За столом помещалось не более дюжины. Снаружи этого прибежища лодочников и богомольцев висела выцветшая, голубая, как глаза старого моряка, вывеска – "Чайная", а для тех, кто не умеет читать, веселыми красками были еще нарисованы чайник, чашки, стаканы, булки, кренделя, рыба. Здесь давали чай всего по копейке за стакан, правда, к стакану прилагалось всего лишь полкусочка сахара. Соленую селедку подавали на обрывке старой газеты по две-три за пенни. Молоко и сухари тоже подавались без особых изысков, но это не говорило об их несъедобности. Хозяйка, опрятная пожилая дама, опускалась на колени, чтобы скрести свои полы и скамейки, не реже, чем чтобы помолиться перед святыми образами, что висели позади прилавка.
Мне всегда казалось, что Архангельск – это где-то на краю света. Хотелось узнать, что там за жизнь, какие люди, хотелось в нем побывать. И вот мечта моя исполнилась, еще одна точка нанесена на карту моего опыта. Каждый раз бывает немного жаль заменять мечту реальностью – когда-то и Кавказ был для меня лишь именем, за которым чудились безграничные возможности, а потом я поехал туда и узнал, что там на самом деле. Я почти завидую тем домоседам, для которых Европа, земной шар остаются неизведанными.
Думаю, если путешественник повидал какой-то край, описал его и сказал сам себе: "Вот он, этот край, и вот он что собою представляет", он этим согрешил против Святого Духа. У каждого города есть душа. Остановись в архангельской гостинице и ничего не увидишь, соверши поездку по России и получишь не больше, чем представление о местном колорите, а его способен предоставить любой современный романист. Многолюдье, кипучая, бросающаяся в глаза жизнь – всего лишь видимость, а неведомое – оно повсюду, прячется за легко узнаваемым.
Что такое Архангельск, этот таинственный город? Почти неохраняемый порт заполнен судами под флагами многих стран. Говоря языком детей, ты "на верхушке Европы". Широкое, низкое небо не бывает полностью ясным. По нему, как по лугу, ходят облачка, похожие на вытянутых овец и коров. Лучи солнца окрашивают их алыми и багровыми красками.
Когда в первый свой вечер я в одиннадцать часов возвращался с паломнического судна, все еще стоял ясный день. Улицы были пустынны, все спали. Город казался покинутым, дома необитаемыми. Ощущения были очень странными, ведь ярко светило солнце, а разум говорил мне, что оно не может сиять в такое время суток, что день не может следовать за днем без перерыва на темноту и отдых. Пестрившая множеством мачт река придала мне уверенность, ведь в покинутом городе не бывает кораблей. Но и корабли оставались недвижными, а быстрое течение, казалось, стихло. Даже облака в небе, и те отдыхали, дивясь, что ночь все не наступает.
Белая ночь оказалась реальностью. В двенадцать часов было так же светло, как в одиннадцать, и в час ночи читалось не труднее, чем в час дня.
Я сидел на высоком берегу неподалеку от домика царя Петра и смотрел на солнце. Оно стояло, подобно обручу, на поверхности Белого моря, и его свет струился вверх, не понять, то ли закат, то ли рассвет, багровые лучи скользили по волнам зачарованной реки. Далеко на западе посреди сосен неясно, сквозь дымку, виднелись высокие белые стены церкви. В ночи была добрая, мягкая, чудесная тайна. Природа сидела в задумчивости, подперев голову руками, а человек ощущал себя посреди мира и покоя, лицезрея облик Святой Руси; такой был свет вокруг, текучий, преображающий тьму, свет от слияния множества нимбов, свет мечты...
Ночь соотносится с днем, как смерть с жизнью. Как у Рихтера: "Миры один за другим стряхивают мерцающие души над океаном смерти, как водяной пузырек рассыпает по волнам плавучие огоньки".
А город спал, как будто стояла темнейшая южная ночь. Чтобы увидеть, понять видение ночи, надо поднять внутренние веки, тогда в зеркале души отразится сияние белых крыльев в воздухе. Я легко вздохнул и отдал свое сердце России. Россия – женщина. В ее глазах сосновые леса и
неизведанная тьма; в руках у нее – цветы. Россия – мать народов, святая, что сидит дома и молится за нас, пока мы, миряне, суетимся в ярком свете дня.
"Россия, какая она для вас? – спросил меня на следующий день мой новый знакомый, Василий Васильевич. – Не говорите "хорошая", "плохая", "интересная", вы понимаете, о чем я".
"Россия для меня – древняя, благоухающая, меланхоличная черная земля", – отвечал я.
~
Глава 3
ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
Василий Васильевич Переплетчиков относится к художникам новой школы. Он называет себя "импрессионистом" и, как любой русский художник, пишет не столько то, что доступно глазам, сколько то, что видно душе, чтобы тому, кто созерцает картину, передалось настроение природы, которое уловил художник. Прерафаэлит изображает то, что видят его глаза, живопись импрессионистов служит скорее вехой воображению. Василий Васильевич пишет Север таким, каким он его чувствует, и я уверен, что любой посетитель английской Академии художеств не принял бы его картин, заявив, что такое невозможно никогда и нигде. Тем не менее в галереях Москвы и Петербурга полно таких картин, а русское искусство – искусство импрессионизма. Важно не "что", а "как". Художник полностью свободен от традиций и условностей, он пользуется материалом так, как ему хочется. Создаваемые им образы ничего не скажут тому, кто смотрит только глазами. Чувство передается так же, как переносятся семена дикорастущих цветов – случайно, смысл ухватывается сразу, целиком, а отнюдь не путем методических усилий.
Переплетчиков – заметный московский художник, и одно то, что его живопись широко известна, говорит многое о здешней интеллигенции. Живопись его полна поэзии и печали. Холодные дремлющие сосны, багровые и лиловые отсветы на небе и реке, старые серые избы, старые церкви. В его картинах зима немилосердно обходится с землей, летние пейзажи полны грусти, а в картинах, посвященных белым ночам, природа, кажется, сожалеет о темноте.
В первый день нашего знакомства мы направились на пароходе вниз по реке в Соломбалу, пригород ночлежек и убогих трактиров. День клонился к вечеру, солнце слало свои лучи с запада, как будто стоя у ворот своего дома. Мы увидели весь город – собор, сады, дом, построенный Петром Великим, когда он жил в Архангельске. Старая городская тюрьма с черными закопченными стенами и множеством слепых окон стоит сейчас пустая. Великолепное предместье, где живут немцы. В Архангельске много немцев и англичан, правда, в основном это русские подданные, потомки тех, кто во время Крымской войны получил документы о гражданстве. Во время поездки художник все больше молчал и смотрел на левый берег, где почти не встречалось строений, лишь изредка izba да церковь. Воды разлились широко, как море, но были тихими и ясными, и краски необыкновенного северного неба растворились в них. Вдруг художник повернулся ко мне:
"Не правда ли, эта прекрасная земля принадлежит нам более, чем если бы она была нашей частной собственностью, ведь мы понимаем смысл ее красоты. Картина принадлежит не тому, у кого она висит на стене, а тому, кто понимает ее".
В порту, рядом со складом сушеной рыбы, у нас произошла интересная встреча с бродячим музыкантом, игравшим на goosia, старинном русском двадцатиструнном инструменте ручной работы, имевшем схожесть с гитарой или арфой. Goosia он сделал сам. Музыкант, старик в очках с синими стеклами, пришел из Нижегородской губернии, дома у него, однако, не было. Подобно многим другим круглый год он странствовал по России, от одного города к другому. Вообразите себе, как старик сидит на мешке сушеной селедки и играет старинные крестьянские песни, не одними пальцами, но и всей душой. Два хулигана взяли на себя труд восполнить недостающую часть программы, они плясали так, как пляшут одни русские, не только ногами, но шеей и плечами, носом и глазами, боками и руками.
По временам они обходили зрителей, а затем отдавали все собранное старику-музыканту.
Василий Васильевич – большой поклонник балалайки и струнных инструментов вообще – готов просидеть всю ночь, слушая их. Мы заказывали песни, осторожно прерывая старика всякий раз, как он затягивал нечто современное, вроде "Пой, ласточка, пой" на мотив "Очи черные". Нас тянуло послушать старинные разудалые мелодии этой страны – "Вниз по матушке по Волге", "По улице-мостовой", "Камаринскую". Аудитория веселилась от души, откликаясь на каждый поворот мелодии. Право, удивительно, как все, чем человек может гордиться, посылается Господу Богу под гром музыки.
"Дружище, ты молодец, – сказал художник. – Тебе бы на сцене выступать. Ты где остановился? Заходи ко мне".
Однако, старик отверг все славословия и заходить отказался. Ему был подозрителен хорошо одетый человек, интересующийся, где он остановился, и только после повторного вопроса он ответил: "Я нигде не стою... пока".
Мы отправились навестить охотника, живущего на Троицком проспекте, в надежде, что он поможет мне достать рекомендательное письмо, необходимое для моих странствий по губернии. То был господин Быков – Александр Александрович, как он представился, – и он действительно много мне помог. Весьма интересный человек, низкий, крепкий, с невысоким нахмуренным лбом, с глазами навыкате, состоявший, казалось, из одних окружностей. Все лето он сидит за прилавком собственной мануфактурной лавки, а зимой ходит на медведя. Он добирался до Новой Земли и фотографировал места, где до него никто не бывал. Отличный фотограф, занимающийся цветной фотографией, Быков к тому же хорошо гребет, хорошо стреляет, хороший наездник. Он женат и его маленькие дети играют в детской с медвежатами. Ему только двадцать шесть лет, но он уже носит бороду. Весьма широкоплечий и осанистый, в деревне Быков носит свободную русскую красную рубаху, подпоясанную ремнем. Нет, кажется, той области, в какой у него не было бы способностей, в том числе и по части умственных занятий. Мне говорили, Быков печатается не в одном русском журнале. Короче говоря, несмотря на несколько пугающий внешний вид, на самом деле это золотой человек.
В большой мрачноватой комнате сразу было понятно, что здесь живет охотник. Входящего встречал взгляд громадного черного медведя, медвежья голова выглядывала из-под письменного стола, другая располагалась над диваном. По стенам висели ружья, пистолеты, ножи, на полу расстелены шкуры. Из переднего угла смотрели святые образа. Над письменным столом висел портрет его жены. Внешность Александра Александровича могла не располагать, однако портрет улыбающейся молодой женщины ярче всяких слов говорил о его душе.
Мы пересмотрели у него не одну сотню фотографий, главным образом на них были Новая Земля, снег, самоеды, медведи. Видимо, опасаясь, чтобы по пути на юг я не встретился с неприятностями, Быков телефонировал губернатору с просьбой снабдить меня специальными письмами. В результате было договорено, что назавтра я наведаюсь с визитом в губернаторский дом и обговорю этот вопрос с вице-губернатором.
На этом мы распрощались и отправились с еще одним визитом к другу Василия Васильевича, только что переехавшему на новое жилье. В России существует обычай приносить на новоселье пирог, и потому художник, будучи горячим последователем старых обычаев, зашел к лучшему кондитеру города и купил там громадный пирог. Упаковать его оказалось нелегким делом и вот мы, вызывая немалый интерес, понесли пирог к дому господина Каретникова, губернского инженера, обещавшего мне всяческое содействие. Правда, какое мне, бродяге и страннику, могло понадобиться содействие, разве только что после дня пути мне необходим был ночлег.
К концу долгого вечера, проведенного с художником, трудно было определить, который час. Мы расстались в два часа ночи, а все еще стоял ясный день. Боже, как странно было идти по спящему городу в окружающем меня неестественном свете. По дороге я размышлял о том, что завтра или послезавтра оставлю Архангельск и начну жизнь среди мужиков.
На следующий день я встретился с вице-губернатором, он снабдил меня удостоверением и рекомендательным письмом, нагрузил брошюрами и даже произвел меня в члены ученого Общества изучения Русского Севера. В течение часа я рассматривал карты губернской топографической службы и пришел к мысли, что если Переплетчиков готов ехать, нет причины, почему бы нам не отправиться тотчас же. Он собирался в деревню на этюды, и мы имели возможность проехать вместе миль тридцать. Я намеревался пожить несколько недель в его деревне, а затем путешествовать в одиночку.
И вот ночью мы вместе с Быковым, его женой и детьми поплыли вниз по Двине к деревне Уйма. Быковы направлялись на datcha, т.е. в деревенский дом, желая отдохнуть от городского воздуха. Глава семейства собирался на следующий день вернуться в город. По какой-то причине мы не могли выехать ранее десяти часов вечера и в деревню должны были попасть уже ночью. Но над спящей рекой все так же стоял ясный день. Мы миновали портовые причалы, громадные баржи. Гребли мы по очереди и, поскольку ночь выдалась свежая, холодная, грести оказалось приятно. Путешествие заняло три часа, на каждого из нас пришлось по три получасовых смены. Гребешь в этот ясный полуночный час на широкой пустынной реке и, пожалуй, чувствуешь себя первопроходцем, подымающимся вверх по Миссисипи или по реке Св. Лаврентия.
Двина шире Темзы раза в три, к тому же она чище и течение более быстрое. Ее широкие желтые берега с сухими глинистыми обрывами похожи на морские. По верху обрывов, называющихся здесь, представьте себе, горами, тянутся ровные ряды изб, они – как аккуратные заметки на полях реки. За избами простирается сосновый лес – "непредставимый первозданный хаос". Деревня Уйма растянулась на четыре версты, а ее название, симпатичное слово, употребляемое только на севере, означает "много" – Uima domof. Ночью мы расположились кто как умел – на диванах, на стульях, а наутро вместе с художником двинулись дальше – к Бобровой "горе", что находилась в двадцати пяти верстах. Мы проделали этот путь на тройке, легком экипаже, запряженном тремя лошадьми.
~
Глава 4
ДЕРЕВЕНСКИЙ МЕХОВЩИК
Русские покорили и заселили Север в IX-X веках. Распространив влияние Новгородской республики на берега Онеги и Двины, балтийские славяне и финны осели на этих берегах. Местные жители бежали под защиту лесов, многие погибли от голода и холода либо были съедены медведями и волками; подобным же образом спасались от римлян и саксонцев древние бритты, правда, сегодня их потомство более многочисленно, чем потомство валлийцев или кельтов. Итак, по реке Мезень, в отдаленных районах вдоль Печоры по-прежнему живет древний народ, нецивилизованный, дикий, большей частью так и не овладевший русским языком, этой единственной связующей с Западом нитью. То самоеды, зыряне и лопари, древние обитатели Северной Европы, порождение земли и лесов, невежественные поклонники языческих богов. Не исключено, что в далеком прошлом какие-то дикие, воинственные племена пришли сюда из могучего южного княжества, осели здесь, покорились жестокой зиме, сонным чарам сосен. Ведь и русские, что явились в эти края, вооруженные пиками и мечами, с вином и боевыми песнями на устах, оказались поверженными Природой. Они забыли не только свое недавнее христианство, но и Перуна, других северных богов, стали поклоняться духам и чертям, во множестве населявшим темные леса. Пики и мечи были отложены в сторону, пришельцы превратились в бедных рыбаков и охотников, добывающих пропитание с помощью сети и лука. Может быть они, как и сейчас, сеяли рожь, с трудом вырывая у мертвой песчаной почвы тощий урожай. Они разводили оленей, питаясь их мясом, запрягая их долгими темными зимами в сани. Те, кому эта земля не пришлась по душе, вернулись в бурную жизнь средневековой Европы, сражались с монголами и турками; оставшиеся осели в лесу как глубокий мох. Никто их не искал, их покоя не нарушали войны. Зимой дули ледяные ветры, диковинные северные сияния превращали черную ночь в день, а летом деревья окружала, как вода, меланхолия белой ночи. По необозримому лесному пространству, где серебристые реки неведомо для кого намывали широкие долины, лишь кое-где бродили немногочисленные существа, называемые людьми. За исключением дикарей, живших небольшими общинами посреди болот, в лесах не было ни живой души. Представители человечества, как всегда, селились вдоль рек. Люди оседали там, где бегущий поток раздвигал лес и образовывал поляну, возводили деревянные или земляные обиталища. Там же, где река протекала по глубокой, узкой лощине, осененной деревьями, людского жилища было не сыскать. Ничего не изменилось и в настоящее время, только поляны, чистины, стали побольше да широкие долины населеннее.