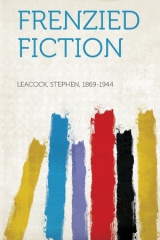
Текст книги "Сумасбродные сочинения"
Автор книги: Стивен Батлер Ликок
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
XVII. В сухом Торонто
(пер. М. Десятовой)
Локальный аспект мировой проблемы
Примечание: Нашим читателям – нашим многочисленным читателям – из Экваториальной Африки предлагается читать название как «В сухом Тимбукту», а жителям Центральной Америки – «В сухом Тегуантепеке».
Возможно, во всем виновата резкая смена влажности. Говорят, такие перепады пагубно сказываются на человеческом организме.
Как бы то ни было, в ту ночь – я ехал поездом из Монреаля в Торонто – мне никак не удавалось заснуть.
Меня замучила особо злостная бессонница, которая, мало того, распространилась, похоже, и на остальных пассажиров. Темную тишину вагона периодически нарушали отчетливые горестные стенания.
– Там что, больные? – поинтересовался я через шторку у проходящего мимо проводника.
– Нет, сэр, – ответил он. – Никто не болен. Это пассажиры из Торонто.
– Все в одном вагоне?
– Все, кроме того джентльмена, который пел в купе для курящих, – вы, наверное, тоже слышали. У него прямой билет до Чикаго.
В конце концов, как по обыкновению и случается, меня сморил непривычно тяжелый сон. Я выпал из жизни до поры до времени, пока не обнаружил, что сижу одетый и умытый в обзорном хвостовом вагоне, дожидаясь прибытия.
– Это уже Торонто? – спросил я у пульмановского проводника, вглядываясь в пейзаж за окном.
Проводник потер стекло пальцем и тоже глянул.
– Кажется, да.
– Мы здесь останавливаемся?
– Сегодня, вроде бы, останавливаемся. Помнится, начальник поезда говорил, что надо сгрузить накопившуюся груду консервных банок из-под молока. Пойду, пожалуй, уточню, сэр.
– Еще спрашиваете! – вмешался из соседнего кресла склочного вида джентльмен в сером твидовом костюме. – Останавливаются или нет? Еще как останавливаются. Вы что, не знаете? – напустился он на пульмановского проводника – Все поезда обязаны здесь останавливаться! На это есть особое постановление муниципалитета Торонто.
– Я не знал, – смутился проводник.
– Вы хотите сказать, – напирал склочный джентльмен, – что не читали постановлений муниципалитета Торонто?
– Нет, сэр.
– Вот ведь невежды! – припечатал серый склочник, разворачиваясь ко мне вместе с креслом. – Пора уже издать постановление, обязывающее их читать постановления. Немедленно начну кампанию. – Он вытащил красную записную книжечку и что-то в ней черкнул, бормоча: – Давненько кампаний не было.
И он резко захлопнул книжечку. Резкость была присуща ему во всем, я уже обратил внимание.
– Ну уж вы-то, сэр, – обратился он ко мне, – разумеется, читали наши муниципальные постановления?
– О, да, еще бы. Увлекательное чтение. Не оторваться.
– Для нашего города это весьма лестно, – вспыльчивый джентльмен склонился в полупоклоне. – Однако, я так понимаю, сэр, вы не из Торонто?
– Нет, – как можно скромнее признался я. – Из Монреаля.
– А! – Джентльмен откинулся в кресле и смерил меня пристальным взглядом. – Из Монреаля? Вы пьяны?
– Нет. Вроде бы.
– Но вы жаждете выпить? – гнул свое мой новый знакомый. – Душа просит? Чувствуете этакое томление, а?
– Нет, – ответил я. – Время ведь еще довольно раннее…
– Именно, – перебил склочник. – Но, если я правильно понимаю, в Монреале все питейные заведения открываются в семь утра, и там практически сразу яблоку негде упасть.
Я покачал головой.
– Это преувеличение. Мы, наоборот, всеми силами стараемся избежать давки и толкотни. Духовные лица, представители торговой палаты и университетские ректоры пропускаются вперед без очереди – из соображений общей галантности.
– Непостижимо! – воскликнул серый джентльмен. – Секундочку, я должен себе пометить. «Вся церковь, – вы же сказали „вся“, да? – пьяна уже в семь утра». Позор! Но вот мы и подъехали к центральному вокзалу Юнион-Стейшн. Какой размах, правда? Недаром им восхищаются во всем мире. Обратите внимание, – призвал он, когда мы, сойдя с поезда, проследовали внутрь вокзала, – первый и второй этаж соединены лестницами, необычно и очень удобно: если вы разминулись с приятелями внизу, достаточно всего лишь поискать наверху. Если их и там нет, просто-напросто спускаетесь снова вниз. Постойте, вы на улицу? Я вас провожу.
На выходе с вокзала – в полном соответствии с моими воспоминаниями – поджидали пассажиров носильщики и водители гостиничных автобусов.
Однако как они изменились!
Словно глубочайшее горе постигло их. Один, отвернувшись к фонарному столбу, уткнулся лицом в сгиб локтя.
– Отель «Принц Георг», – голосил он навзрыд через равные промежутки времени. – Отель «Принц Георг».
Другой, понурившись, сгорбился над узким поручнем, руки его висели унылыми плетьми чуть не до самой земли.
– «Король Эдуард», – стонал он. – «Король Эдуард».
Третий, поникнувший на табурете, поднял на нас полные слез глаза.
– «Уокер-хаус», – всхлипнул он. – Первоклассные номера для… – Его задушили рыдания.
– Отвезите этот саквояж, – попросил я, – в «Принц Георг».
Носильщик на миг прекратил свои стенания и обернулся ко мне в каком-то запале.
– Почему к нам? – возмутился он. – Идите к кому-нибудь другому. Вот, к нему, – он носком ботинка пошевелил скорчившегося на асфальте бедолагу, бормочущего: «„Королевский“! Отель „Королевский“».
Положение спас мой новый приятель.
– Возьмите багаж, – велел он носильщику. – Вы обязаны. Вам известно постановление. Берите, или я зову полицию. Вы меня знаете. Моя фамилия Фарисейс. Я из совета.
Носильщик приподнял шляпу и, бормоча извинения, принял багаж.
– Пойдемте, – пригласил мой попутчик, в котором я начал подозревать важную и влиятельную персону. – Я составлю вам компанию, покажу город.
Не успели мы пройти и нескольких шагов по улице, как я воочию увидел разительные перемены, вызванные введением сухого закона. Повсюду сияли улыбками лица рабочих, облегчавших себе труд песнями и прибаутками, а также, несмотря на ранний час, анекдотами и загадками.
Один из встретившихся нам тружеников в грубой белой робе увлеченно размахивал метлой, мурлыча себе под нос: «Как дорожит любым деньком малюточка пчела…», а другой, с поливальным шлангом, распевал: «Раз дождинка, два дождинка – будет радуга, от сухого от закона много радости».
– Что это с ними? – удивился я. – Почему они поют? Умом повредились?
– Поют? А что им остается? Они четыре месяца капли в рот не брали.
Мимо проехала угольная телега – вместо прежнего закопченного трубочиста на козлах восседал опрятный возница в высоком белом воротничке и белом шелковом галстуке.
Мой спутник повел рукой ему вслед.
– Четыре месяца стакан пива в руках не держал. Обратите внимание, какой контраст. Теперь ему работа в удовольствие. Раньше он все вечера просиживал в дальнем углу бара у печи. А теперь, как думаете, чем занимается?
– Даже представить не могу.
– Нагрузит телегу углем и катит за город дышать воздухом. Ах, сэр, вам и прочим, кто еще травит себя ядом зеленого змия, невдомек, каким наслаждением может стать работа, стоит лишь исключить выпивку со всем ее антуражем. Видите вон того человека на другой стороне улицы, с мешком инструментов?
– Да. Это, кажется, водопроводчик?
– Именно. Водопроводчик. Раньше пил горькую – на одном месте и недели не мог продержаться. А теперь его от работы за уши не оттащишь. Приходил ко мне чинить трубу под кухонной раковиной, в шесть вечера еле выгнали. Забрался под раковину и умолял, чтобы ему разрешили остаться: домой, мол, идти даже подумать страшно. Пришлось на аркане вытаскивать. А вот, кстати, и ваш отель.
Мы вошли.
Как же он изменился!
Наши шаги отдавались гулким эхом на каменных плитах безлюдного вестибюля.
За конторкой унылый молчаливый портье читал Библию. При нашем приближении он ее отложил, отметив закладкой и пробормотав: «Левит, книга вторая».
– Можно ли попросить у вас номер на первом этаже? – поинтересовался я.
У портье навернулись слезы на глаза.
– Хоть весь первый этаж, – ответил он, всхлипнув. – И второй в придачу, если хотите.
Я не мог не отметить разительные перемены в его поведении: прежде, стоило только заикнуться насчет номера, портье выходил из себя и обещал мне разве что раскладушку на крыше до вторника, а потом, если повезет, охапку сена в конюшне.
Да, небо и земля.
– Меня накормят завтраком в гриль-баре? – спросил я у меланхоличного портье.
Он печально покачал головой.
– Нет у нас гриль-бара. А что бы вы хотели на завтрак?
– Ну, что-нибудь яичное, – начал я, – и…
Портье пошарил в конторке и вручил мне крутое яйцо в скорлупе.
– Вот вам яичное. Воду со льдом возьмите на том конце стола.
Усевшись обратно, он снова принялся за чтение.
– Поймите, – вмешался мистер Фарисейс, все это время стоявший рядом. – Вся эта канитель с завтраками в гриль-баре – просто-напросто пережиток эпохи пьянства. Никчемная трата времени и никакой пользы. Вы съешьте яйцо. Съели? Ну что, готовы на труд и на подвиги? Что вам еще нужно? Комфорт? Мой дорогой, комфорт погубил стольких… Ох уж этот комфорт! Опаснейший, смертельный наркотик, разъедающий человечество изнутри. Вот, выпейте воды. Теперь вы достаточно подкрепили силы, чтобы приниматься за работу – если вам есть чем заняться.
– Но, – возразил я, – сейчас ведь только половина восьмого утра, все конторы закрыты…
– Закрыты! – воскликнул мистер Фарисейс. – Как бы не так! Теперь все конторы открываются с рассветом.
Дело у меня действительно имелось, хотя и не особенно мудреного свойства – уладить с главным редактором издательства пару несложных вопросов, из тех, которые нашему брату приходится периодически решать. В былые грешные времена на это иногда уходил целый день: за одним только злокозненным «комфортным завтраком» в гостиничном гриль-баре засидишься, бывало, до десяти утра. После завтрака наступает черед сигары для лучшего пищеварения и непременного просмотра «Торонто глоуб» с перепроверкой по «Торонто мейл» – без лишней суеты. Лишь потом можно прогуляться неторопливым шагом в издательство где-то к половине двенадцатого, обсудить, угощаясь сигарой, свои дела с милейшим главой данного предприятия и принять его приглашение на ланч в полной уверенности, что после праведных утренних трудов заслуживаешь небольшой отдых.
Склоняюсь к мысли, что в те недостойные доброго слова дни многим доводилось делать дела именно в таком режиме.
– Сомневаюсь, – признался я мистеру Фарисейсу, – что мой редактор будет на месте в такую рань. Он из породы сибаритов.
– Чушь! – воскликнул мистер Фарисейс. – В полвосьмого и не на работе? В Торонто? Быть такого не может! Где это издательство? На Ричмонд-стрит? Пойдемте, я вас провожу. Я всегда не прочь поучаствовать в чьем-нибудь деле.
– Я заметил.
– Здесь это в порядке вещей, – махнул рукой мистер Фарисейс. – Мы не делим дела на свои и чужие. Пойдемте, вы будете поражены, как быстро все уладится.
Мистер Фарисейс как в воду глядел.
Издательство будто подменили. Повсюду царили расторопность и деловой подход. Мой дорогой друг редактор не просто оказался на месте, он в поте лица, сбросив пиджак, выкрикивал в рупор указания – очевидно для печатного цеха.
– Да! – орал он. – «ВИСКИ» черной краской, прописными буквами, готическим шрифтом, двойного размера, разместите на самом видном месте, а внизу подзаголовок «Сделано в Торонто» – вытянутым курсивом.
– Простите. – Он на секунду прервался. – Сегодня очень большой объем работ у печатников, гоним большой каталог спиртового завода. Стараемся изо всех сил, мистер Фарисейс, – с должным почтением к представителю муниципалитета заверил он, – прославляем Торонто в качестве столицы виски.
– Отлично, отлично, – потирая руки, возликовал мой спутник.
– А ваш контракт, профессор, – скороговоркой объявил редактор, – здесь, у меня, только подпись поставьте. Я вас не задержу, буквально секунду, вот тут распишитесь. Мисс Сниггинс, заверьте, пожалуйста, бог вам в помощь, как там в Монреале, доброе утро.
– Быстро обернулись, да? – спросил мистер Фарисейс, когда мы уже снова стояли на улице.
– Поразительно. – У меня даже голова слегка кружилась. – Получается, я могу еще успеть на утренний поезд обратно в Монреаль.
– Именно. Вы не первый, кто обнаруживает преимущества. Дела делаются в мгновение ока. Те, кто раньше приезжал на целый день, выметаются за четверть часа. Я знавал человека, у которого производительность при новом режиме возросла настолько, что, по его словам, он теперь в Торонто и на пять минут не задержится, даже если ему приплатят.
– А это что же такое? – удивился я, когда на перекрестке нам пришлось притормозить, пропуская кавалькаду. – Что это за подводы? Неужто бочки с виски?
– Они, – с гордостью подтвердил мистер Фарисейс. – Виски на экспорт. Прелестное зрелище! Сколько там – двадцать или двадцать пять подвод? Попомните мои слова, сэр, этот город, с нынешней энергией и работоспособностью, в два счета всех обставит в производстве спиртного и станет северной столицей виски…
– Но мне казалось, – растерянно возразил я, – что с прошлого сентября здесь действует сухой закон, и виски запрещено?
– Экспортного виски, сэр, экс-порт-но-го! – поправил меня мистер Фарисейс. – Мы не ограничиваем и никогда, насколько мне известно, не ограничивали никого в праве производить и экспортировать виски. Это, сэр, чистое предпринимательство, не имеющее к морали никакого отношения.
– Понятно. Но тогда не подскажете ли, что за кавалькада подвод движется им навстречу? Это ведь пивные бочки, если я не ошибаюсь?
– В каком-то смысле, да, – признал мистер Фарисейс. – Но это импортируемое пиво. Оно поступает к нам из других провинций. Возможно, оно было сварено в нашем городе (здешним пивоварням, сэр, нет равных), но грех торговли, – мистер Фарисейс приподнял шляпу и застыл в благоговейном полупоклоне, – ложится на чужие плечи.
Тем временем поток телег поредел, и мы двинулись дальше под разъяснения моего провожатого о разнице между деловыми и моральными устоями, между виски-зельем и виски – источником дохода, которую я в итоге так и не уяснил.
В конце концов я осмелился его перебить.
– И все-таки немного жаль, что вокруг рекой течет пиво и виски, а нераскаявшемуся грешнику вроде меня не отведать ни глотка.
– Ни глотка! – воскликнул мистер Фарисейс. – Это как посмотреть. Вот, заходите. Здесь вы сможете отвести душу.
За дверью скрывалось просторное вытянутое помещение.
– Это же бар! – изумился я.
– Как бы не так, – возразил мой знакомый. – Бары в нашей провинции запрещены. Мы искоренили эту заразу навсегда. А это отдел доставки импортирующей компании.
– Но длинная стойка…
– Это не стойка, это конторский стол.
– А бармен в белой куртке…
– Что вы! Это не бармен. Это ответственный за доставку импортируемого товара.
– Что вам угодно, джентльмены? – осведомился ответственный за доставку, протирая бокалы.
– Два больших виски с содовой, – заказал мой знакомый.
Ответственный смешал напитки и выставил бокалы на стойку.
Я уже протянул руку за своим, но ответственный остановил меня жестом.
– Секундочку, сэр.
Сняв трубку стоящего рядом телефона, он вызвал Монреаль.
– Алло, Монреаль? Это Монреаль? У меня тут предложение на два виски с содовой по шестьдесят центов. Брать? Все в порядке, джентльмены, Монреаль одобряет сделку. Прошу вас.
– Какой ужас, а? – сокрушался мистер Фарисейс. – Насколько же ваш Монреаль погряз в грехе, что без зазрения совести торгует виски?! Позор! – И он уткнулся носом в шипящий пузырьками содовой бокал.
– Мистер Фарисейс, – начал я. – Вы не могли бы все же кое-что пояснить? Я несколько запутался после всего здесь увиденного, что именно гласит ваш новый закон. Я так понимаю, производство виски он в конечном итоге не запрещает?
– Нет-нет, не запрещает. Мы не видим здесь ничего предосудительного.
– Равно как и продажу?
– Разумеется, нет. Если продажа осуществляется должным образом.
– Равно как и распитие?
– Нет-нет, ни в коей мере. Закон не усматривает никакого криминала в простом распитии виски.
– Тогда объясните, пожалуйста, – если не запрещается ни производство, ни продажа, ни покупка, ни распитие виски, в чем же состоит сухой закон? Чем отличается Торонто от Монреаля?
Мистер Фарисейс поставил бокал на «конторский стол» и уставился на меня с искренним изумлением.
– Торонто? – задохнулся он. – Монреаль и Торонто? Чем Торонто отличается от Монреаля? Мой дорогой сэр, Торонто… Торонто…
Я стоял, дожидаясь разъяснений. И постепенно осознавал, что голос над ухом, твердящий «Торонто, Торонто, Торонто…» принадлежит не мистеру Фарисейсу, а кому-то другому.
Я рывком сел – на койке в пульмановском вагоне – и услышал, как идущий по проходу проводник выкрикивает: «Торонто, Торонто!»
Так значит, это был всего лишь сон. Подняв брезентовую шторку, я выглянул в окно. Там плыл старый добрый город, яркое солнце играло на церковных шпилях и плескалось в волнах залива. Он совсем не изменился, наш добрый знакомый – такой же веселый, чванливый, любезный, гостеприимный, сварливый, цветущий, праведный, преданный и отвратительный, как и прежде.
– Скажите, пожалуйста, – обратился я к носильщику. – Здесь действительно ввели сухой закон?
Тот покачал головой.
– Не слыхал о таком.
XVIII. Веселого Рождества
(пер. М. Десятовой)
– Мой дорогой юный друг, – возвестил старик Время, ласково кладя ладонь мне на плечо, – вы бесконечно молоды.
Тогда я оглянулся, сидя за столом, и увидел, что он стоит у меня за спиной.
Правда, я и так догадывался или чувствовал, по крайней мере, последние полчаса, что он где-то рядом.
Вам, дорогой читатель, я убежден, не раз доводилось испытывать это странное ощущение, будто рядом стоит кто-то невидимый, особенно в темной комнате с едва теплящимся камином, когда за окном глухая ночь и гудит басовито октябрьский ветер… Вот тогда-то через тонкую завесу, которую мы зовем Действительностью, и заглядывает в наше дремлющее сознание Невидимый мир.
Было у вас такое? Я уверен, что было. Можете не рассказывать. Стоп-стоп. Меня не интересует странное предчувствие, посетившее вас в тот вечер, когда тетушка Элиза сломала ногу. Оставьте свои воспоминания при себе. Я хочу поделиться своими.
– Вы ошибаетесь, мой дорогой юный друг, – повторил старик Время. – Глубоко ошибаетесь.
– Юный друг? – Как всегда в таких случаях цепляешься за самую несущественную деталь. – Почему юный?
– Прошу прощения, – мягко ответил старик. Он вообще отличался мягкостью манер, дедушка Время. – Глаза подводят. Я спервоначалу решил, что вам и сотни нет.
– И сотни? – задохнулся я. – Конечно, нет!
– Еще раз прошу меня извинить, – смутился Время. – Память тоже никудышная. Забыл. Вы ведь теперь этот рубеж редко перешагиваете. Жизнь у вас такая короткая стала.
Он горестно вздохнул. От стоявшей у меня за спиной фигуры веяло древностью и мраком, но я даже не обернулся. Не было нужды. Я видел его внутренним ясным взором, поскольку у каждого человека имеется врожденное представление о незримом облике старика Время.
Я слушал его бормотание у себя над ухом: «Короткая, такая короткая, какая же короткая у вас жизнь…», пока оно не слилось с тиканьем часов где-то в глубине притихшего дома.
И тут мне вспомнились его слова.
– Откуда вы знаете, что я ошибаюсь? – спросил я. – И откуда вам известно, о чем я думал?
– Вы говорили вслух, – ответил старик Время. – Но это не имеет значения. Вы сказали, что Рождество себя изжило.
– Да, – не стал отпираться я. – Так и сказал.
– А почему вы так решили? – поинтересовался он, склоняясь, как мне показалось, еще ниже над моим плечом.
– Понимаете, дело вот в чем. Я сижу тут битый час, хотя уже далеко за полночь, высасываю из пальца сюжет для рождественского рассказа. И никак. В наши жуткие времена это просто бессмысленно.
– Рождественский рассказ?
– Ну да. Понимаете ли, дедушка Время, – разъяснил я по дурацкой привычке нашего брата все время кого-нибудь просвещать, – все рождественские материалы – рассказы, анекдоты, рисунки – делаются загодя, в октябре.
Я думал его удивить, но просчитался.
– Надо же! Только в октябре! Какой аврал… Вот, помнится, в Древнем Египте – так он у вас называется? – к Рождеству начинали готовиться года за два – за три. Пока все принадлежности достанут, пока иероглифы вырежут…
– За два-три года?! – не поверил я.
– Это еще что, – фыркнул старик Время. – В Вавилоне рождественские истории заготавливали – глиняные, знаете ли, таблички обжигали в печах – за целое солнечное затмение до Рождества. Утверждали, если не ошибаюсь, что так народу привычнее.
– Египет? – усомнился я. – Вавилон? Но, дедушка Время, откуда там Рождество? Мне казалось…
– Мальчик мой, – перебил он суровым тоном, – неужели тебе неизвестно, что Рождество существовало всегда?
Я промолчал. Старик Время перебрался поближе к камину и застыл там, опираясь на каминную полку. Завитки дыма от догорающего огня сливались с очертаниями его расплывчатой фигуры.
Наконец он прервал молчание.
– Что же случилось с Рождеством?
– А случилось то, что вся его романтика, радость и красота исчезли, растоптанные алчностью наживы и ужасами войны. Хоть мне действительно нет и ста, я с легкостью, как и любой из нас, могу вообразить, каким было Рождество в старые добрые времена столетней давности: сказочные старинные домики в густом ельнике, отблески мерцающих свечей на снегу, внутри уют и тепло, в очаге пылает огонь, вокруг собралась веселая толпа гостей, и дети с горящими от восторга глазами ждут появления Санта-Клауса в красно-белом одеянии с опушкой из ваты и раздачи подарков из-под нарядно украшенной елки. Я все вижу так ясно, словно это было вчера.
– Это и было буквально вчера, – откликнулся старик Время, размякая от воспоминаний о минувшем. – Помню как сейчас.
– Да, – продолжал я, – вот это было Рождество. Верните мне те дни, полные доброго веселья, со старыми дилижансами, островерхими крышами маленьких гостиниц, горячим глинтвейном, святочными играми и нарядной елкой, – тогда я снова поверю в Рождество и даже, пожалуй, в самого Санта-Клауса.
– Поверите? – негромко переспросил старик Время. – Так за чем же дело стало? Он как раз стоит у вас под окном.
– Под окном? – изумился я. – Почему же он не зайдет?
– Боится. Напуган и не осмеливается войти без приглашения. Можно мне его позвать?
Я дал согласие, и старик Время, подойдя к окну, махнул рукой кому-то в темноте. Потом на лестнице послышались шаги, неуклюжие и робкие. И вот в дверях возник силуэт – Санта-Клаус собственной персоной. Он смущенно топтался на месте с нерешительным видом.
Как же он изменился!
Его образ с детства был у меня перед глазами, как и образ старика Время. Все его знают – или знавали когда-то: веселый пузан с толстым шарфом на шее и мешком подарков за спиной, с веселыми искорками в глазах и румянцем, который дарят лишь снегопады и проказливый северный ветер. А ведь было же время, не такое уж давнее, когда от одного звяканья колокольчика на его санях теплело на сердце и веселее бежала кровь по жилам.
А теперь он стал совсем другим.
Весь мокрый и в грязи, как будто за три прошедших года ни в одном доме он не смог найти приюта. Старый красный свитер висит лохмотьями, шарф размотался и протерся до дыр.
Мешок с подарками отсырел и зияет прорехами, сквозь которые просматриваются расползшиеся картонные коробки. Судя по их виду, некоторые он так и таскал с собой все три года.
Но больше всего меня поразила перемена в его лице. Исчезли бодрая уверенность и задор. Пропала улыбка, сиявшая в ответ на радостные взгляды бесчисленных детей, водивших хороводы вокруг несметного числа рождественских елок. Теперь он смотрел робко и настороженно, будто извиняясь, как скиталец, который долго и безуспешно ищет приюта – такой отпечаток накладывает наш жестокий мир на лица изгоев.
Санта-Клаус мялся в нерешительности у меня на пороге, неловко теребя в руках свой потрепанный колпак.
– Позволите войти? – Он умоляюще поглядел на старика Время.
– Заходи, – разрешил Время и повернулся ко мне. – Темно тут у вас. Зажгите свет. Он привык к морю ярких огней. А его уже три года заставляют дрожать в темноте.
Комнату залил ослепительный свет, и жмущаяся в дверях фигура показалась еще более жалкой.
Санта-Клаус опасливо переступил через порог. И тут же замер, отдернув ногу.
– Пол заминирован? – спросил он.
– Нет-нет, – успокоил его Время, поясняя мне приглушенным шепотом: – Боится. Подорвался на мине в ничейной полосе между окопами в Рождество 1914 года. С тех пор нервы шалят.
– Можно положить игрушки вот сюда, на пулемет? – робко поинтересовался Санта. – Чтобы не промокли.
– Это не пулемет, – развеял его опасения Время. – Смотри, это всего-навсего стопка книг на диване. – Из пулемета в него целились на варшавской улице, – шепнул он мне. – С тех пор они ему повсюду мерещатся.
– Все хорошо, Санта-Клаус, – нарочито бодрым тоном возвестил я, мешая угли в камине, чтобы пламя запылало повеселее. – Здесь нет ни пулеметов, ни минных полей. Это всего лишь жилище бедного писателя.
– Писателя? – Санта склонился в робком поклоне, и потрепанный колпак почти коснулся пола. – Вы, часом, не Ганс Христиан Андерсен?
– Не сказал бы.
– Тогда наверняка не менее великий писатель, – настаивал старик с учтивостью, идущей из далеких святочных дней его северной родины. – Мир многим обязан своим великим книгам. Самые великие я всегда ношу с собой. Вот… – Он принялся рыться среди отсыревших и разлезшихся коробок и свертков в мешке. – Смотрите! «Дом, который построил Джек» – отличная, очень глубокая вещь, сэр, а вот «Гензель и Гретель»… Примете ее в подарок, сэр? Скромный, но все же подарок. Когда-то я дарил эту книгу тысячами экземпляров на каждое Рождество. А теперь она, кажется, никому не нужна.
Он умоляюще посмотрел на Время, как слабый глядит на сильного в поисках поддержки и участия.
– Никому она не нужна, – повторил он, и на глаза его навернулись слезы. – Почему? Неужели люди забыли, как переживали за деток, потерявшихся в лесу?
– Люди, – со вздохом пробормотал Время себе под нос, – сейчас и сами блуждают в трех соснах. – Однако к Санте он обратился преувеличенно бодро: – Ну что же ты, дружище Санта? Не падай духом. Вот, садись сюда, в самое большое кресло, вот сюда, к огню. Давай мы его раскочегарим, подбросим дровишек. Послушай, дружище, как поет ветер за окном – почти настоящий рождественский ветер, а? Озорной и бесшабашный, хоть и повидал много черных дел на белом свете.
Старик Санта устроился в кресле и протянул руки к огню. Что-то от прежнего добродушного весельчака мелькнуло в чертах бродяги, пригревшегося у камина.
– Как хорошо… – пробормотал он. – Я совсем продрог, сэр, промерз до костей. Раньше со мной такого никогда не было. Даже под самым пронизывающим ветром мир окутывал меня теплом. Почему же теперь стало по-другому?
– Видите, – прошептал мне на ухо Время, – как он сломлен и унижен? Неужели вы его не выручите?
– Я бы с радостью. Если смогу.
– Все могут, – ответил старик Время. – Любой из нас.
Санта-Клаус посмотрел на меня вопросительно, однако в его взгляде мелькнул отголосок прежнего задора.
– А у вас не найдется, – застенчиво спросил он, – шнапсу?
– Шнапсу?
– Да-да, шнапсу. Хлопну стаканчик за ваше здоровье, и на сердце авось потеплеет.
– А, – догадался я. – Вы хотите выпить?
– Единственная его слабость, – пояснил вполголоса Время, – если это можно назвать слабостью. Не осуждайте его. Он с ней свыкся за столетия. Лучше действительно угостите, если у вас есть чем.
– Немного есть, держу на случай простуды, – неохотно признался я.
– Вот как, – прицокнул языком старик Время, и на его призрачном лице мелькнула тень лукавой улыбки. – На случай простуды? В древнем Вавилоне то же самое говорили. Давайте я ему налью. Пей, Санта, пей!
Приятно было смотреть, как он причмокивает губами, допив стакан до дна по старому норвежскому обычаю.
И еще приятнее было видеть, как возле жаркого камина от блаженного тепла, разливающегося по всем жилам, светлеет постепенно лицо Санты и возвращается к нему прежняя бодрость духа.
Он оглянулся вокруг с просыпающимся интересом.
– Уютная у вас комната. Лучше не придумаешь, сэр, чем когда снаружи завывает ветер, а внутри пылает огонь.
И тут его взгляд упал на каминную полку, где среди разбросанных книг и курительных трубок затесалась игрушечная лошадка.
– О! – воодушевился Санта. – В доме есть дети!
– Ребенок, – поправил я. – Самый чудесный мальчишка на свете.
– Даже не сомневаюсь! – радостно воскликнул Санта, заливаясь веселым смехом, от которого светлело на душе. – Боже милостивый, они все чудо. Все, кого я видел, все до единого – и абсолютно по праву – самые чудесные ребята в мире. А сколько ему лет? Два с половиной без двух месяцев и недели? Самый замечательный возраст, да? Лучшего и пожелать нельзя? У них у всех так!
И старик затряс седыми кудрями, снова заходясь добродушным хохотом.
– Но погодите-ка! – вдруг заметил он. – Лошадка-то сломана. Ох ты, задняя нога совсем отвалилась. Непорядок.
Он уложил лошадку на колени и принялся чинить. Пальцы его так и мелькали, проворные, несмотря на почтенный возраст.
– Время! – позвал он, и в его голосе послышались властные нотки. – Подайте-ка мне вон тот обрывок бечевки. Да, вот этот. Прижмите пальцем узел. Так! Теперь капельку воска. Что? Нет воска? Как плохо нынче с домашними припасами. Как же, сэр, вы чините игрушки без воска? Ну вот, теперь она хотя бы держится на четырех ногах.
Я принялся робко благодарить.
Но Санта-Клаус отмахнулся.
– Пустяки, не стоит. В этом моя жизнь. Может, мальчугану и книжка пригодится? Они у меня тут, в мешке. Вот, сэр, «Джек и бобовый стебель» – глубочайшая вещь. Сам до сих пор перечитываю. Отсырела-то как… Сэр, умоляю, позвольте мне высушить книги у вашего камина.
– Охотно позволю. Да, истрепались и отсырели они изрядно.
Санта-Клаус, привстав из кресла, принялся рыться в потрепанных свертках и вытаскивать оттуда детские книги, покоробившиеся и размокшие под дождем и ветром.
– Истрепались и промокли … – бормотал он, снова грустнея. – Я носил их с собой все эти три года. Смотрите! Вот эти были для маленьких бельгийцев и сербов. Как думаете, может, еще удастся их вручить?
Время безмолвно покачал головой.
– Но теперь-то, а? Если их подсушить и подремонтировать? Видите, некоторые даже подписаны. Вот здесь, к примеру: «От папы с любовью!» Почему ее так и не вручили? Что это за разводы – дождь или слезы?
Склонившись над книжками, он дрожащими руками перелистывал страницы. А когда поднял глаза, в них заплескался прежний страх.
– Гром гремит! Слышите? Это выстрелы!
– Нет-нет, – успокоил я. – Все хорошо. Это просто машина проехала.
– Слышите? – не унимался он. – Вот опять, плач и крики.
– Нет-нет, ничего такого. Это просто ветер в кронах деревьев.
– Это плачут мои ребятишки! Я слышу их повсюду, их плач в каждом порыве ветра, они стоят у меня перед глазами, когда я бреду сквозь ночь и непогоду. Мои ребятишки – взорванные, погибающие в окопах, втоптанные в землю – я слышу, как они стонут в госпиталях, как они взывают ко мне, такие, какими я их помню в детстве. Время, Время, – зарыдал он, умоляюще протягивая к нему руки, – верните мне моих ребятишек!





