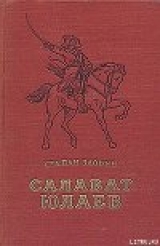
Текст книги "Салават Юлаев"
Автор книги: Степан Злобин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
По-прежнему Юлай был юртовым старшиной, Бухаир был по-прежнему писарем. Как и много лет назад, кочевали башкиры Шайтан-Кудейского юрта…
В августе кочевья повернули от Сюма к северу, к Юрузени, приближаясь к зимовью.
Но кочевое движение аулов не избавляло башкир от забот начальства: по дорогам скакали всадники, разыскивали кочёвки, вручали бумаги, требовали налогов и выполнения обязательств.
Российская империя вела большую войну с Турцией. Россия рвалась к Чёрному морю, и её продвижение на юг, к дедовским рубежам, стоило много денег.
После полудня Бухаир подъехал к кошу Юлая с новым пакетом, полученным из Исецкой провинциальной канцелярии.
– Опять бакет! Снова бумага! Куда пишут столько бумаги! Беда! Сколько денег, чать, стоит столько бумаг посылать, – покряхтывая, ворчал Юлай. – Ну, садись. Ишь, как жарко. Кумыс пей сначала, а там уж бумагу читать…
Бухаир присел в тени коша, отпил глоток кумыса и взялся за пакет.
– Погоди, – остановил старшина. – Ну, куда спешишь? Всё равно ведь добра не напишут!.. Намедни я сон видал: прислали такую бумагу, чтобы заводы ломать и земли, которые взяты, назад отдавать башкирам… Такую бумагу ведь не пришлют наяву!
– Наяву не пришлют, старшина-агай! – согласился писарь. – Наяву вот такие бумаги приходят, – зловеще сказал он. – Хоть ещё пять тухтаков будешь пить кумыса, всё равно тебе легче не станет!
– Опять ведь, значит, плохая бумага, писарь? – сокрушённо спросил старшина.
– Плохая, агай! – согласился писарь.
– Ну что же, куда деваться! Читай.
Бухаир развернул лист с сургучной печатью.
– «Шайтан-Кудейского юрта старшине Юлаю Азналихову сыну. С получением сего тотчас без всякия волокиты с твоего Шайтан-Кудейского юрта прислать в Исецкую провинциальную канцелярию в Челябинскую крепость его высокоблагородию горных заводов асессору и ремонтёру Ивану Дмитриевичу господину Петухову сто пятьдесят лошадей…»
– Опять лошадей! – возмутился Юлай. – Снова сто пятьдесят!! Ай-ай-ай, что делать будем? Не даст ведь народ лошадей, Бухаирка… Как пойдёшь-то к народу? Как скажешь? Сто двадцать голов ведь недавно совсем послали! Как народу лицо показать с такой нехорошей бумагой?! Ну, что делать! Ты поезжай по кочевкам, скажи народу… Ступай объявляй…
– Довольно уж мне объявлять, старшина-агай! – заявил с раздражением писарь. – Как что плохое стряслось, так опять иди объявлять! Бухаир не ворон, чтобы каркать всегда к беде. Иди сам, старшина-агай. Старшине бумагу прислали. Я не хочу старшиною быть вместо тебя. Мне твоего почёта у русских не нужно… Ты не умеешь сам за народ вступиться. Народ разоряют, а ты молчишь!..
Юлай испугался таких резких слов. Он знал, что в коше и возле коша нет никого, что он с Бухаиром сидит вдвоём – сыновья у себя по кошам, ребятишки все где-то в лесу, а женщины доят кобыл, – и всё же зачем говорить такие слова!
– Тише, тише! Чего ты шумишь в моём коше! Старшине ведь такие слова не пристало слушать. Ты такие слова у себя на кочёвке кричи!.. – взъелся Юлай на писаря, не доверяя ему.
– Не буду я требовать лошадей от народа. Сам поезжай! – настойчиво говорил Бухаир.
Юлай смягчился:
– Бухаир, ты ведь писарь. Мне как знать-то, что писано в русской бумаге?! Ведь ты бумагу по-русски читаешь – не я. Я как объявлять по бумаге буду?!
Писарь угрюмо молчал.
– Ну, ну, поезжай! Мало ли мы чего с тобой не хотим! Нас ведь не спросят. Иди объявляй. Чай, строго наказывать будут. В прошлый раз, кто лошадей задержал, с того ещё и штрафных лошадей на каждую сотню по десять голов забрали, – напомнил Юлай.
– Теперь ещё хуже: кто лошадей не даст, с того на каждые пять лошадей прислать на завод человека, – сказал Бухаир.
– Как так «человека»? – не понял Юлай.
– Писано тут: «…сто пятьдесят лошадей без промедления и волокиты, а буде противиться станут, – и с тех башкирских юртов для горных работ взять мужеска пола тридцать душ на заводы…»
– Не шутка!.. – растерянно и недоумевающе качнул головой старшина. – Ну, поезжай, объяви, – настойчиво повторил он.
Бухаир вышел, вскочил на коня и умчался в степь, где были рассеяны кочёвки шайтан-кудейцев.
Старшина остался один в своём коше.
«Ай, прав ты, прав, писарь, прав! – размышлял он. – Да как ведь, как тебе верить, собака?! Я нынче стар ведь. Мне как бунтовать? Нельзя!.. – Он горестно покачал головой. – Ай-бай! Никогда не бывало такого!.. Башкир на завод, в крепостные!.. Стар ты стал, старшина, ай, стар стал! Всего ты боишься, смелое слово сказать не смеешь… А может, народ старый стал? Может, народ боится сказать то смелое слово? Мне как самому за народ говорить-то такое слово, когда не хочет народ! – попробовал оправдать себя старшина. – Ай, прежде народ был – огонь! Ведь как вспыхнет – и не потушишь! Эй, народ, народ! Эй, башкиры, башкиры!.. Жягетов нет!.. Жягеты как старики! А в наше-то время и все старики жягетами были, пожалуй!.. Конечно, ведь Бухаир – удалец… А может, он так-то нарочно, может, он хочет, чтобы я взбунтовался, меня из старшин прогонят, и он старшиною станет… Ай, хитрый шайтан ведь какой!.. А мне-то зачем бунтовать? Лошадей, слава богу, довольно, найдём и ещё для царицы… Чего не найти? Меня на завод не возьмут!.. И сыновей не возьмут…»
И, как всегда, когда думал о сыновьях, Юлай припомнил ушедшего из дому и пропавшего любимого младшего сына.
– Эх, Салават, Салават! – вслух вздохнул старшина.
В это время услышал он топот копыт, кто-то подъехал к кошу, спрыгнул с седла, Юлай встал с подушки, шагнул к выходу, но кошма распахнулась, и рослый широкоплечий жягет столкнулся с Юлаем.
– Атам, арума! Салам-алейкум, атам! – воскликнул он радостно.
Это был Салават. Возмужавший и выросший, уже с бородой, это всё-таки был Салават.
Юлай от неожиданности отшатнулся.
– Эй, алла!.. – прошептал он.
Салават засмеялся и обнял его.
– Я живой, атам! Я не призрак…
– Живой! Ай, живой! Ай, живой, Салават!.. Жив мой сын, жив жягет удалой! – обнимая его, откидываясь и рассматривая лицо Салавата, радостно воскликнул старшина. – Ай, хитрый какой! Говорили, что помер, а ты и здоров!.. Откуда ты, Салават? – вдруг спросил Юлай, словно опомнившись. – С какой стороны приехал? Кто видел тебя на кочёвке?
– Никто не видал, атам. Я узнал твой кош. Да я не таился, атам. Кого мне бояться? Ведь время ушло! – ответил весело сын.
– Злых людей много! Ох, много! Что для них время! – забормотал старшина. – Ты Бухаирку не встретил?
– Никого я не встретил, атам. А что будет?
– Ох, сын! Схватят тебя, закуют в железы, на каторгу бросят… Гляди-ка, народ ко мне скачет. Уйди скорей в кош, схоронись и сиди потише… Я тут их встречу.
Салават скользнул в кош. Все тут было знакомо. Подушки, паласы, старый медный кумган, старшинское одеяние отца, его сабля и посох, два обитых железом больших сундука…
Салават вошёл за занавеску, отделяющую женскую половину. Два пустых опрокинутых чиляка, горкой стоят пустые тухтаки, одежда матери на деревянном гвозде…
Шумная ватага возбуждённых всадников подъехала к кошу старшины. Глядя в степь, Юлай видел, что вслед за этими первыми гостями к его кочевью мчатся ещё и ещё люди с разных кочевок.
– Объявил Бухаирка, собака! Вот тебе на! Объявил бумагу! – проворчал про себя старшина.
– К тебе, старшина-агай! – крикнул ещё с седла дюжий медвежатник Мустай.
– Суди сам, Юлай-ага, нельзя больше так!
– Не можем давать лошадей! – закричали приехавшие с кочевок башкиры.
– Давал, давал – и ещё давай! Хватит! – крикнул Мустай, уже соскочив с седла. Он ухватил старшину за полы халата и дюжими руками в забывчивости встряхнул.
– Мустай! Ты сбесился, шайтан! – закричал старшина.
– Не я сбесился – царица сбесилась! Опять прискакал Бухаир с бумагой – давать лошадей, а кто лошадей не даст, тот иди на завод в неволю!..
– Мустай! Так нельзя говорить у меня на кочёвке! Ведь я – старшина. Так нельзя про царицу, – взмолился Юлай. – Я сам бумагу видал. Раз канцеляр написал, что царицын такой указ, значит, надо…
– Конечно, так надо! – насмешливо «поддержал» Юлая старик Бурнаш. – Ведь как без коней воевать?! Царица с султаном воюет, ей лошади нужны!..
– А нам зачем воевать?! Нам зачем воевать?! – опять подступив к Юлаю, взволнованно выкрикивал Мустай. – Зачем нам против султана?!
– На что нам война? – зашумели вокруг. – Старшина богат, и пускай он своих лошадей даёт! А мы уже много и так платили!
– Овчинные деньги платили? Платили! И пчелиные деньги платили, и рыбные деньги платили.
– Охотничьи, базарные!.. – подсказывали в толпе, горяча друг друга.
– Коней давали. Сам знаешь: сто лошадей для солдат, ещё пятьдесят – для завода, ещё сто двадцать всего только месяц назад опять для солдат, – отсчитывал толстый Кинзя, сын муллы.
– И вправду, сбесилась царица! – выкликнул молодой Абдрахман.
– Замолчать! – повелительно крикнул на всех старшина.
Все замолчали, сойдя с коней, сгрудились толпой возле Юлаева коша.
– Бумагу ведь умные люди пишут, – поучающе, внятно сказал старшина. – Какую войну, с кем воевать – нас с вами не спросят. Я сам на войне был, войну понимаю… Надо отдать царице коней-то… Отдадим – и живи на воле, – стараясь утихомирить толпу, спокойно сказал старшина.
– На воле?! – снова ввязался Мустай. – А неделя пройдёт – и опять бумагу пришлют?.. Не дадим лошадей!
– Ну, пригонят солдат, людей заберут на заводы. Ты что, хочешь идти на завод?
Среди сотни засёдланных коней конь Салавата оказался неприметен, никто не мог заподозрить, что в коше у старшины находится такой необычный гость. Но Салават не стерпел. Покорность постаревшего отца, который утратил старшинскую твёрдость, и давнюю бунтарскую смелость, и уважение народа, привела Салавата в бешенство. Он загорелся и, не смущаясь более приказом отца, распахнул полог коша.
– Жягетляр, якши-ма![11]11
Джигиты, здорово!
[Закрыть] – выкрикнул он.
Все увидели его, но не сразу узнали. Кто-то откликнулся вежливым холодным словом приветствия.
– Салава-а-ат? – первым заголосил Кинзя, кинувшись к другу.
И вдруг за ним вся толпа разразилась весёлыми криками. К Салавату бросилось сразу с десяток людей. Все словно забыли про злосчастную бумагу, про то, что с них требуют лошадей. Салавата обнимали, хлопали по плечам, удивлялись его возмужалости, расспрашивали наперебой, откуда он появился, теребили за рукава и полы одежды…
Когда первый шум чуть-чуть приутих, Салават, чтобы видеть всех, встал повыше – на камень, лежавший возле коша Юлая.
– Не крепостными нам стать, башкиры! Не дадим лошадей и сами не поддадимся! В горы, в леса уйдём – ни коней, ни людей не дадим. Скоро выйдет новый закон, и никто не посмеет больше требовать с нас лошадей!
Бухаир в общем шуме, когда глаза всех съехавшихся к Юлаеву кошу были обращены на Салавата, не замеченный никем из толпы шайтан-кудейцев, подъехал из степи. Он услыхал лишь последние слова Салавата, но не узнал Юлаева сына. Ему и в голову не пришло бы, что Салават может вернуться.
– Откуда новый закон? – спросил писарь. – Где ты слыхал про новый закон?
Бухаир, как бык, исподлобья взглянул.
– Кто сказал? – повторил он вопрос. – Откуда закон?
– Я птичий язык понимаю, мне птицы сказали! – весело отшутился Салават.
– Что же тебе птицы сказали? – спросил Бухаир насторожённо и как-то назойливо-резко, не в лад с другими.
Старшина угодливо и торопливо засмеялся, за ним ещё несколько человек, но Салават, видя робкое унижение отца перед писарем, вдруг вспыхнул. Он позабыл всякую осторожность.
– Птицы все знают! – громко воскликнул он. – Они говорят, что жив русский царь, что он ходит в народе и скоро поднимет всех – и башкир, и татар, и русских…
– Сорока! – прервал Юлай сына. – Что сказки болтаешь!.. Какой там закон! Что за птицы? Какой там царь?! Замолчи!
– Сам замолчи, старик! – крикнул один из молодых башкир.
– Говори, Салават! – подхватил другой. – Старшина да писарь всем рот затыкают!
– Говори! Не слушай их, сказывай! – раздались голоса.
– Где кричите? У старшины во дворе кричите! – гаркнул Юлай, поняв, что теряет влияние.
Салават среди общего гвалта вскочил на арбу, вытащил из-за пазухи курай и заиграл. Чего не смог сделать окрик Юлая, то сделала музыка – все разом стихло. И Салават, тут же слагая, запел новую песню:
Я спросил у соловья:
– О чём песенка твоя?
Мне ответил соловей:
– Зиляйли, эй-гей лелей —
Звери рыщут по лесам,
Птицы прыщут к небесам,
Рыба плавает в воде,
Облачко летит к звезде.
Только ты из всех один
Сам себе не господин,
Не по воле ты живёшь —
Все царице отдаёшь…
– Кишкерма! – громко взревел Юлай. – Песни поешь? Пой по чужим кочевкам… Я – старшина!..
– Айда, Салават, на нашу кочёвку, – громко позвал Хамит.
– Айда ко мне! – подхватил Кинзя.
– Ко мне! – выкрикнул лучник.
– Ко мне! Ко мне! – стали звать многие, вскакивая в седла.
– Пой, Салават!
– Идём, Салават!.. – кричали кругом.
Салават, окружённый народом, вскочил на коня и поехал от коша отца. Он пел задорно, дразня оставшегося у коша Юлая.
Старшина, трусливый крот,
Не зажмёт народу рот;
Не хотим мы жить кротами -
Крылья вырастил народ, —
пел Салават, и толпа шла со смехом за ним. Шли все, кроме двоих – старшины и писаря Бухаира, который, вскочив на коня, ускакал в обратную сторону, к своему кошу.
– Сала-ва-а-ат! – вдруг раздался пронзительный вскрик.
Среди нескольких женщин, уронив на землю чиляк с водой, стояла Амина… Растерянная, она не знала, что делать, как верить глазам…
Она шла с речки, неся воду домой, и вдруг по степи, просто так, как будто не уходил никуда, как будто тут жил и вчера и сегодня, с толпою знакомцев едет её муж… её Салават… Салават, о котором твердили со всех сторон, что он, наверно, погиб, никогда не вернётся…
Испуганная собственным вскриком, растерявшись от неожиданности, смущённая видом множества мужчин, Амина закрыла краем платка лицо, подхватила чиляк и пустилась бежать в женский кош на кочёвку Юлая.
– Аминка! Амина! Аминка! – звал Салават, повернув за ней.
Толпа проводила его сочувственным смехом.
– Завтра нам допоёшь!
– Завтра расскажешь про новый закон! – кричали ему вдогонку.
– Завтра допою! – выкрикнул Салават. – Никаких коней! Все идём в горы. Пусть там найдут нас и заберут коней.
Салават настиг у самого коша Амину.
Разозлённый Юлай ушёл к себе в кош, а вся гурьба всадников, смеясь, ускакала, и в коше матери они были вдвоём… Амина уткнулась лицом Салавату в грудь и плакала, не умея сдержать своей радости.
Салават, смеясь, прижимал её к сердцу. Она стала как бы ещё меньше ростом. За годы разлуки он вырос и возмужал, а она осталась такой же девочкой, как была…
– Карлыгащ'м, акщарлак'м, каракош'м![12]12
Ласточка моя, белогрудка, чернобровка моя!
[Закрыть] – твердил ей ласковые слова Салават.
Во время долгой одинокой дороги он представлял себе её более взрослой, с ребёнком на руках. Он всю дорогу думал о них двоих – о ней и о сыне. Срезав бересты с молоденького ствола, на одном из привалов он сделал даже игрушечную берестяную корзиночку и теперь гордо извлёк её из-за пазухи.
Когда Салават должен был бежать из дома, сына, конечно, ещё не было. Но они заранее сговорились уже о том, чтобы назвать его Рамазаном, и потому Салават, протянув берестянку Амине, сказал:
– Вот Рамазану…
Он видел, как кровь сбежала с её лица, как от горя и страха стали вдруг шире зрачки, как голова ушла в плечи, когда, исподлобья взглянув на него, она прошептала одними губами:
– Вот Рамазану…
– Он умер?! – воскликнул горестно Салават.
– Он… он… не хотел, он совсем не родился… не было… – пролепетала в слезах Амина – Мать говорит… твоя мать говорит… что я не виновна… – оправдывалась она. – Мать говорит – ты придёшь, и родится сын… Я могу родить… Я… ещё не успела. Не прогоняй меня, Салават… – бормотала в отчаянии Амина.
Она знала, что по законам пророка муж может её отослать от себя обратно к отцу за бесплодие. Но за годы разлуки она сжилась с Салаватом, с вечными мыслями только о нём и о его возвращении. Он стал её мечтой. Она ждала его, и как было бы полно её счастье, если бы в час его возвращения она могла в самом деле вынести навстречу ему сына!.. Но его не было, и в своём трёхлетнем вдовстве семнадцатилетняя женщина успела уже ощутить тоску бесплодия и желание материнства. Она привыкла смотреть на бесплодие как на позор. Слова Салавата о сыне повергли её в этот позор.
Она плакала…
Грудь Салавата ещё никогда до сих пор не бывала влажной от чьих-либо слез. От того, что к нему доверчиво прижималась эта девочка, называемая его женой, он вдруг ощутил в себе прилив мужества, сил и особого мужского превосходства.
– Не плачь, ласточка. Разве ласточки плачут?! Я никуда не пущу тебя, никому не отдам… Ты моя… – сказал он покровительственно и нежно.
И вся её радость, все то тепло, с которым затрепетала она на его груди, в один миг дали ему попять, чем был он для неё за годы разлуки.
– Цветок мой! – шепнул он ей.
Но радость встречи с Аминой была в тот же миг нарушена разъярённым Юлаем.
– Нашёлся?! – воскликнул он. – Позорить меня пришёл?! У меня на кочёвке?! У старшины? Ты щенок, истаскавшийся по дорогам!.. Пришёл – так молчал бы, жил бы уж тихо, губишь себя и меня! Молчи! – крикнул он, заметив, что Салават пытается что-то сказать.
– Может, опять уйти? – вызывающе спросил Салават, сделав движение к выходу.
– Салават'м! – выкрикнула Амина, вцепившись в его рукав, словно он в самом деле, едва появившись, готов был исчезнуть.
И Юлай, заражённый её опасением, вдруг тоже сдался:
– Куда ты пойдёшь?! Только выйди с кочёвки – я тебя прикажу схватить и отдам русским…
– Меня?! – задорно спросил Салават, словно поверил тому, что запальчивость старика может его довести до подобного шага.
– Тебя, щенка! Своими руками отдам заводским командирам.
– Отдай! – весело сказал Салават, схватившись за рукоять кинжала. – Вот что для них!
– Салават! Салават!.. – испуганной горлицей стонала Амина.
И вдруг распахнулся полог – в кош ворвалась мать Салавата. Она была у жены муллы, болтала о всяческой чепухе уже не один час и могла бы сидеть там за чаем и сплетнями ещё, может быть, столько же времени, если бы прискакавший домой Кинзя не принёс радостной вести.
Не слушая мужа, она обняла дорогого, вновь рождённого сына, она ласкала его, гладила, причитала и приникала к нему… Амина – с одной стороны, мать – с другой, они не вызывали друг в друге ревности и неприязни. Делить его между собой было естественно для обеих, и у обеих в глазах было счастье…
Старик не выдержал.
– Ну, ну, повисли на малом! – сказал он строго. – Воды надо дать умыться ему да печку топить, варить… Иди-ка сюда, Салават, – позвал он по-деловому, как мужчина мужчину…
Оставив женщин заниматься хозяйством, Салават вышел к отцу.
– Садись, – указал Юлай на подушку. – Надо совет держать… – сказал он спокойно и положительно.
В кош вбежал брат Сулейман.
– Арума! – приветственно закричал Сулейман, тряся обе руки Салавата. – Вернулся!.. Ару, ару!..
Он держался восторженно, по-мальчишески, и Салават почувствовал себя старше его на несколько лет.
– Где был, говори скорей!.. Говорят, ты про новый закон слыхал?.. Когда новый закон? Скоро война? – сыпал вопросами Сулейман.
– Сайскан, кишкерма! – прикрикнул Юлай. – Сбегай за старшим братом, – велел он Сулейману.
Но Ракай вошёл сам.
– Салам-алейкум! – приветствовал он от порога строго и чинно.
В отличие от Сулеймана он был степенен, полон достоинства, толст и надут. И симпатии Салавата остались полностью на стороне среднего брата.
«Лучше сорока, чем сыч!» – подумал про себя Салават.
Юлай заговорил с сыновьями. Они уже знали о том, как вёл себя Салават перед толпою.
– Бухаир ускакал к себе, – сокрушённо вздохнув, сообщил Юлай главную причину своих опасений. – Писарь всё-таки он. Как знать, что начальству может сказать! Скажет, что ко мне сын воротился, что сын бунтовщицкие слова говорит, мятежные песни поёт у меня на дворе… Что делать?
– Придётся коней давать, деньги давать… – заметил Ракай.
– Много не надо, – сказал Сулейман. – Когда Нурали-старшина прислал тебе арабского стригуна, писарь глаз от него не мог отвести. Отдай аргамака и глотку ему заткнёшь. Подавится – будет молчать.
– Жалко конька, – причмокнув, сказал Юлай. – Молодой ещё и не кован…
– Я сам отведу его Бухаиру, – предложил Салават. – Писарь любит покорность. Приду к нему, приведу коня. У меня есть ещё и четыре новых подковы.
Юлай удивлённо взглянул на сына. Он не привык видеть в Салавате угодливость и покорность.
«Жизнь научила!» – подумал он. И странно – не ощутил никакой радости от того, что Салават оказался не так своеволен, не так горяч, как он ожидал. Ранняя мудрость и успокоение сына его не порадовали. Он промолчал.
– Отведи, – подтвердил за отца Ракай. – Сам отведёшь – лучше будет.
– Я бы ни за что не повёл! – воскликнул Сулейман. – Что он посмеет сделать? Салавата все любят… Салават песни поёт… Пусть Бухаир попробует натянуть лук Ш'гали-Ш'кмана!..
Салават, внутренне польщённый словами брата, скрыл честолюбивую усмешку.
– Мало жил, мало видел ты, Сулейман, – произнёс напыщенно Салават. – «Что знает живший долго? Знает лишь видивший многое!..»
Сулейман недоверчиво поглядел на него.
– Поседеешь на сорок лет раньше, если тебя послушать, – сказал он.
Порешили, что утром Салават доставит подарок писарю.
Оставшись вдвоём с Салаватом, Амина болтала без умолку.
Она рассказывала ему о себе, о том, как отец, мать и брат её убеждали, что Салават погиб, и уговаривали выйти замуж за другого, как один только толстый Кинзя оставался ему верен в каждый раз находил приметы того, что Салават возвратится домой. Он даже учил Амину гадать по стружкам, брошенным в реку, по камням и, наконец, научил наговору на дым от коры со скрипучей берёзы. После этого заклинания Салават должен был возвратиться во что бы то ни стало. Кинзя верил в это так же, как и Амина, свято и непреложно… И вот Салават возвратился…
От Амины Салават узнал о том, почему все так его слушали и заступились за него перед старшиной: он узнал, что разогнанные им рабочие больше уже не возвратились на место разрушенной стройки и не стали делать плотины.
Произошло ли это потому, что разведанные поблизости богатства недр обманули ожидания заводчиков, потому ли, что недра других участков оказались богаче, но то, что плотины не стали строить, заставило деревню считать Салавата своим избавителем, и, несмотря на его молодой возраст, он прослыл в своём юрте героем, он почти превратился в легенду, и его возвращение стало событием.
Салават был достаточно умён, чтобы это попять из беспорядочной болтовни Амины.
– Ты больше уже не уйдёшь, не уйдёшь, Салават? – дознавалась она. – Тебе больше не надо прятаться от солдат?..
– Как знать! Столько времени миновало. Собака лаять устанет, а волк ведь ходить не перестанет! Отец обещал всем начальникам подарить по кобыле и по две.
– А Бухаирке?
– Я к писарю сам поутру отведу арабского аргамака.
– Тогда останешься дома? – спросила она.
– Останусь, кзым. Буду жить дома. У нас будет пять косяков лошадей, большая отара овец, ты мне родишь сына, потом другого, потом третьего, четвёртого…
Салават, перечисляя, откладывал на пальцах, и Амина, улыбаясь, в темноте кивала каждому из его утверждений.
– Потом пятого, шестого, седьмого, – продолжал перечислять Салават.
– А дочку? – обиженно прервала Амина.
– Не дочку, а трёх, – поправил Салават. – Ты родишь семь сыновей и трёх дочерей, а я все буду жить дома… Я заведу себе восемь соколов и каждому сыну дам по одному. Восемь арабских аргамаков… Восемь коней будут стоять возле нашего коша, двадцать одна невестка будет покорна тебе… У меня будет большая белая борода и вот тако-ое пузо… У нас будет двести внуков, и будут бегать вокруг наших кошей.
Они хохотали, бегали, как дети, пользуясь тем, что в кунацкой, где их устроила мать Салавата, никто их не слышал.
– Салават, ты жил с русскими… Ты не женился на русской? Русская не любила тебя? – спрашивала, ласкаясь к нему, Амина.
И Салават был счастлив, что может ей доказать свою нерастраченную любовь, нежность, верность и получить в обмен такие же доказательства…
Поутру на голубом аргамаке Салават подъехал к кочёвке Бухаира. Оставив коня, он вошёл к писарю.
Бухаир указал на подушку, прося сесть, но Салават остался стоять у порога.
– Отец послал меня отвести коня в подарок тебе, – сказал Салават. – Тебя все боятся здесь, писарь, а я не боюсь.
– Все знают, что ты никого не боишься, – сказал Бухаир то ли с насмешкой, то ли серьёзно.
– У меня есть ещё новые подковы на все четыре ноги этому жеребцу, – перебил Салават. – Но жеребец полюбился мне самому, а подковы вот…
Салават достал из-за пазухи пару подков.
– Вот, – сказал он, – вот я ломаю из них две, как чёрствую ржаную лепёшку. – Салават разломил подковы и бросил обломки к ногам Бухаира. – Теперь пиши донос русским, что я возвратился и возмущаю народ. Вот вторая пара. Возьми, чтобы подковать свои ноги: если захочешь предать меня русским, тебе придётся бежать далеко.
Писарь поднял подковы и весь напрягся, не желая уступить первенство Салавату, разломил одну, за ней и вторую, небрежно швырнул на землю, словно не придавая значения этому.
– Ты глупость сказал, Салават! Садись… – настойчиво указал Бухаир. – Ты вчера говорил про новый закон. Расскажи мне, – неожиданно попросил он.
Салават с недоверием взглянул на писаря.
– Бухаира никто не знает, – сказал писарь. – Русские верят мне, потому что меня не знают. Башкиры не верят и тоже лишь потому, что не знают… А ты? Ты много ходил, много видел. Ты тоже не можешь узнать человека, взглянув ему прямо в глаза?
– Ты можешь? – спросил Салават.
– Я увидел, что ты не сам меня заподозрил, – сказал писарь. – Старик испугался меня и послал тебя… Старшина стал трусом, боится вчерашнего дня и своей собственной тени… Не правда? – спросил Бухаир.
Салават опустил глаза, удивлённый проницательностью писаря.
– Садись, – сказал Бухаир в третий раз, хлопнув рукой по подушке.
И Салават сел с ним рядом…
Бухаир расспрашивал о русских, об их недовольствах и о готовности к бунту. Салават говорил охотно и горячо. Он привык, как и другие, к высокомерному пренебрежению писаря, всегда занятого своей, более важной мыслью, и, сам не сознавая того, подкупленный проявленным им вниманием, подпал под его власть. Он отвечал писарю просто и ясно, хотя и не говорил ему про царя.
– Ты ходил три года и не набрался ума, – заключил Бухаир, когда Салават выболтал ему все свои мысли. – Ты прав в одном – час настал: пора восстать. Пора напасть на неверных… Лучшего времени мы никогда не дождёмся: у царицы война с султаном, там все её главное войско. Мы восстанем и выгоним всех неверных с нашей земли, мы разорим заводы, сожжём деревни…
– Ты забыл, Бухаир, – возразил Салават, – Алдар и Кусюм, старшина Сеит, Святой Султан, Кара-Сакал, Батырша – все поднимали башкир. Почти все восставали, когда была война с турецким султаном, и солдаты нас побеждали… Ты сам слышал от стариков. Сам знаешь… А если русские встанут вместе с нами против заводчиков и бояр…
– И будут жар загребать твоими руками! – перебил Бухаир. – Ты ничего не знаешь, малай. Смотри, что я покажу.
Бухаир поднял кошму, отковырнул ножом куст дёрна из-под того места, где сидел, и вынул кожаный мешочек, лежавший в земле.
Салават был поколеблен: в словах писаря была своя правота, был свой здравый смысл. С любопытством и нетерпением ждал Салават доказательств правоты Бухаира.
С таинственным видом писарь развязал мешочек и торжественно встряхнул содержимое.
В руках Бухаира блеснуло богатым убранством великолепное зелёное знамя, расшитое золотом и серебром. На одной стороне его была вышита эмблема ислама – полумесяц и звезда, на другой – изречение из Корана.
– Султан прислал его нам в залог дружбы, – шёпотом пояснил Бухаир. – Ко мне приходил его посланный. Когда мы начнём войну против русских, султан пришлёт нам войско и денег.
– Кто же поведёт башкир? – спросил Салават.
– Нам надо выбрать хана среди себя, – зашептал Бухаир. – Так указал султан. Под этим знаменем поедет башкирский хан, и ты, Салават, будешь первым батыром хана и правой рукой его.
Салават пристально поглядел Бухаиру в глаза и вдруг понял честолюбивые намерения этого человека, и в тот же миг писарь над ним потерял всякую власть.
– Я? – спросил Салават. – Я – первым батыром? Правой рукой?!
– Ты. Кто видел больше тебя?! – польстил Бухаир, не моргнув.
– Султан обманет тебя. Он обещал свою помощь Святому Султану, обещал Кара-Сакалу и Батырше, но ещё ни разу по нашей земле не ступала нога турка, кроме проповедников да соглядатаев, – сказал Салават.
– Султан поклялся на этом знамени, – горячо возразил Бухаир. – Мне сказал посланец султана, что видал, как султан поцеловал его край…
– Султан далеко. Его клятва с ним за далёким морем. Я был у берега моря. Оно сливается с небом, и края его нельзя видеть. Если клятва султана как птица, то по пути, утомив свои крылья, она упадёт в море и там утонет…
– Султану не веришь?! – воскликнул писарь. – Не веришь султану, а веришь гяурам?
– Ты легковерен, писарь, – с усмешкой сказал Салават. – Ты веришь тому, что тешит твоё властолюбие. А я верю в то, что нужно башкирам.
– Ты мальчишка, а я говорил с тобою как с равным, – раздражённо сказал Бухаир. – Нам не о чём говорить.
Салават встал.
– У тебя много хлопот. Надо собрать все бумаги, прежде чем выехать на новое кочевье, – почтительно сказал он. – Не стану тебе мешать. Хош.
– Хош, – угрюмо отозвался писарь.
– Я скажу отцу, что ты не хочешь взять аргамака. Пусть лучше подарит его мне, – обернувшись в дверях, насмешливо добавил Салават. И он уже не видал взгляда Бухаира, посланного вдогонку, потому что, не оглядываясь, вскочил в седло и помчался к кочёвке отца.
Весенний солнечный день пьянил. Бескрайняя широта неба манила, и Салават был счастлив, что он снова на родине.
Уйти в горы после получения бумаги о лошадях, не выполнив губернаторского указа, скрыться – это начальство могло рассматривать как бунт, но, видно, терпение народа истощилось. К кошу, который Салават поставил себе в стороне от кочёвки отца, целый день ездили люди. Салавата расспрашивали о слухах про новый закон. Не говоря ещё ничего про воскресшего царя, Салават говорил, что новый закон скоро выйдет и нужно лишь выиграть время. Ведь если отдать лошадей, то никто их назад не вернёт. Надо пока уйти в горы, чтобы посланные начальства не нашли их кочевий, а когда выйдет новый закон, то уж будет не страшно вернуться.
К вечеру на кочевье шайтан-кудейцев прискакали двое башкир из Авзяна. Они рассказали о том, что два аула башкир начальники целиком приписали к заводу, мужчин забрали солдаты и погнали на рудник…
Эта весть прибавила всем решимости. Сам старшина Юлай согласился, что надо идти в горы до времени, пока выйдет новый закон.








