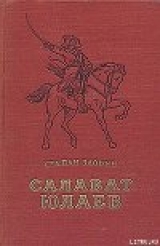
Текст книги "Салават Юлаев"
Автор книги: Степан Злобин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
– Какая напасть, Мустай-агай? Что за напасть? – спросил Кинзя.
– Ты спишь, Кинзя. Не видишь, что творится: со всех сторон нас окружают солдаты, а казаки бросают крепость, я считал – из ворот прошло пятнадцать возов с казацким добром. Они уходят к себе по домам, а нас покидают на растерзание солдатам царицы. У нас нет ни ружей, ни пушек… Нас тут одних окружат; кого перебьют, а кого и живыми захватят, судить нас будут, а с нами судить весь наш народ. Скажут: «Кто бунтовал? Одни башкиры бунтовали. Повесить вожаков на железные крючья за ребра, обрезать им уши, повырывать им языки, а деревни все сжечь, а детей забить плетьми, а женщин отдать в рабство!»
Вслед за Мустаем в кош Кинзи во время этой беседы один по одному пробирались башкиры. Речи Мустая слушало уже десятка два собравшихся воинов. Слова Мустая, которые он твердил, начиная ещё со вчерашнего дня, находили все больший отзвук в сердцах промокших, голодных людей.
– Пугаешь, Мустай! Чего же ты хочешь? Народ знает лучше сам, куда он идёт. Народ не бараны! – усмехнулся Кинзя.
– А за кем мы пошли? Кому поверили? Певцу Салавату? Его дело песни складывать… Певец всегда будто пьяный… Помнишь, Кинзя, что сказал пророк Магомет о певцах: «Они шляются всюду, горланят слова, нашёптанные им дьяволом, и увлекают заблудших…» Нам надо спасти народ от безумца. Мальчик в игре напялил себе на лоб коровьи рога, а вы подумали, что он и вправду Искандер Двурогий… Что за вождь для народа мальчишка, забывший родные обычаи, несколько лет таскавшийся по дорогам?! А может быть, правду шепчут в народе, что он крестился…
– Мутишь, Мустай!.. Писарь велел тебе всех мутить?! – вдруг накинулся с возмущением Кинзя на Мустая. – А ну-ка, заткни свою бабью глотку, не то вот как раз укажу тебя тут же повесить!..
– Повесить?! – Мустай вскочил. – Меня, что ли, повесить?! Башкиры! Кто не крестился – за мной! – позвал он окружавших.
С ним поднялся приятель Рашид.
– Я с тобой! – готовно выкрикнул он.
– Сто-ой! – У самого входа в кош из сумрака вышел Вали. – Никуда не уйдёшь!.. – Вали выдернул саблю из ножен.
Рядом с Вали вскочили Хамит и Муса с ножами в руках.
– Не пустим отсюда, – сказал Муса, преграждая Мустаю выход.
– А ну-ка с дороги!
Мустай и Рашид обнажили сабли, готовые с кровью пробиться через толпу. Клинки ударились о клинки. Народ раздался в обе стороны, остерегаясь случайных ударов.
– Разнять их! – крикнул Кинзя. Он вскочил и протянул между противниками пику.
Но в этот миг в кош вошёл Салават.
– Убрать сабли живо! – решительно приказал он.
Мустай и Рашид покорно вложили сабли, но их противники, чувствуя силу на своей стороне, преграждая выход из коша смутьянам, стояли по-прежнему с обнажёнными клинками.
– Всем убрать сабли, – повторил Салават, строго взглянув на Вали и Хамита.
Те опустили клинки в ножны.
– Я слышал все, – сказал Салават. – Мустай, уходи к своему Бухаирке. Трусам не место в войске. Иди от нас, я тебя изгоняю.
– Меня?! – Мустай ударил себя кулаком в грудь.
– Тебя, – твёрдо сказал Салават. – Уходи, без тебя не будет раздоров и робости.
– Я уйду, – заявил Мустай.
Он хотел уйти сам. Он хотел увести за собою людей, крикнуть башкирам, что Кинзя стремился его удержать насильно на царской службе. Он хотел вырваться силой оружия, стать героем в глазах многих… Но вот пришёл Салават, велел вложить саблю в ножны и без оружия, просто одним только словом, изгоняет его из войска…
Мустай принял гордую позу.
– Идём, Рашид, – позвал он своего союзника и взял его за плечо.
– А мне-то куда же? – растерянно спросил тот, оглянувшись на Кинзю.
– Туда же, за ним ступай. Ведь ты за Мустая поднял свою саблю, идите уж вместе, – сказал Кинзя.
– Мне куда от народа! – воскликнул Рашид. – Я буду как все… Мустай мне дул в уши со вчерашнего дня, ну и сбил меня с толку… Я буду со всеми…
– У-у, собака! – проворчал Мустай, с ненавистью взглянув на Рашида. – Оставайся, продайся русским. Будь одним из баранов в стаде Салавата… Уйду без тебя! – Он вышел из коша.
– Проводите его за табор, – приказал Салават. – Пусть идёт к своему Бухаирке.
Спокойная уверенность Салавата сделала своё дело. Его обаяние покорило колебавшихся воинов, которых Мустай завлёк было в свои сети. Все шумной гурьбой пошли из коша, чтобы выпроводить Мустая.
Салават и Кинзя остались вдвоём.
– Что сказал тебе царь, Салават? – спросил Кинзя.
– Меня не пустили к нему, – признался Салават. – После битвы царь с черным лицом воротился в крепость и заперся во дворце… Там Абдрахман остался. Как царь позовёт, он сюда прибежит.
– Сердит, что ли, царь?
– Указ там читали – кто водки напьётся в войске, того казнить. Кабаки указали закрыть и царскую печать наложили на двери. Двоих казаков каких-то повесили нынче, – рассказывал Салават.
– Да, царский гнев ведь не шутка! – понимающе отозвался Кинзя. – Лучше, конечно, дождаться, когда царь подобреет.
– А куда нам спешить! – стараясь держаться бодро, согласился Салават.
– Кабы не дождь, то куда и спешить! – ответил Кинзя. – Ты бы сказал казакам, чтобы нас хоть в крепость пустили. Казаки ведь ходят туда и сюда, а нас не пускают.
За кошем Кинзи послышалась многоголосая русская песня. Салават и Кинзя – оба вышли выглянуть на вновь подходящий отряд. Это была толпа пеших людей с косами, вилами, топорами, дубинами. В толпе в полторы сотни воинов всего о десяток людей сидело по коням. Они уверенно двигались к воротам Бердской крепости.
Салават и Кинзя с любопытством следили, что будет.
– Пойдём-ка поближе к воротам, – позвал Кинзю Салават.
Башкиры и тептяри с разных сторон толпою сбегались сюда же. Всем было интересно поглядеть, отворят ли казаки ворота для новых русских пришельцев.
Кто-то из русских уже дубасил в ворота.
– Эй, отворяй, воротные! Заснули, что ли?! – крикнул свежий молодой голос, такой молодой и звонкий, что показался женским.
– Крепость не гумно – держать ворота настежь! – поучающе откликнулся с воротной башни караульный казак. – Что там за люди?
– Казаки государю на подмогу, – ответил тот же женственный голос.
И, протеснившись сквозь толпу ближе к воротам, Салават увидал, что впереди отряда в самом деле была женщина, опоясанная саблею, с пикой в руке.
– Ишь ты, казаки?! А ты пошто ж? Ведь ты, похоже, не казак, а девка! – насмешливо сказал воротный.
– Я казачий ватаман. Отворяй, говорю! – нетерпеливо крикнула необыкновенная предводительница отряда.
– Вот так ватаман, – равнодушно зубоскаля, подхватил воротный казак с башни. – Ах ты, вояка с пушкой! Вот мать честная!.. Да ты бы лучше замуж, что ли!.. Нечистый дух, бедовая!..
– Отколе же вы прибрались? – спросил первый казак.
– Тебе небось с башни видно; где зарево от дворянских домов, оттуда и мы пришли.
– Отколь, где баре ножками дрыгают на воротах! – поддержали атаманшу голоса из её отряда.
– Эх, лапотные души! Да какие же вы казаки? Господска челядь вы… Казаки! Скажут тоже! Ёлки-палки – сме-ех!.. – забавлялись воротные, не сходя с башни и не думая отпирать.
– Да что вы, пёсьи души, зубы скалите на башне! Народ с дороги притомился, а вы не пускаете в крепость. Зови к нам главного полковника государева! – потребовала атаманша.
– И тут вам места хватит, вон поле сколь широко – выбирайте себе! – уже без шутки ответил казак. – Не велено в крепость чужих пускать.
– Да какие же мы чужие!
– Кто впускать не велел, ах ты, нехристь?! – послышались голоса из толпы крестьян.
– Не супостоты мы. Как можно к государю не пускать? Ить мы крестьяне православные.
– По избам тесно в крепости, не продохнёшь! – пояснил воротный.
– А что ж, что тесно! – возразили снизу. – Ведь теснота не лихость. Друг дружку потесним – и всем тепло!
– Да что ты, отец, с нами в спор! – уже сочувственно ответил казак с башни. – Начальники ведь не велели народ пускать в крепость. А наше дело малое: стой на воротах да посматривай – береги государево войско. Пождите до утра. Утром скажут…
Толпа у ворот стояла уныло, не расходясь, не подыскивая себе никакого места. Да и что им было в месте – не кочевники: с ними не было войлочных кошей, только вымокшая одежонка на плечах укрывала их от ветра и дождя.
– Видишь, русских тоже не впускают, – утешил Салават Кинзю.
Стоявшие за их спинами башкиры и тептяри шептались о том же.
Наступила ночь. Костры едва тлелись по широкой степи. Опять моросил дождик. Вновь прибылые крестьяне, не выбирая места в степи, прижались к самым стенам крепости, стремясь под ними укрыться от дождика… Салават хотел уже пойти к себе в кош, когда по ту сторону деревянной стены в крепости послышался топот копыт, скрип колёс, голоса людей.
– Эй, воротные! Давай-ка отворяй! – крикнул кто-то снизу.
– Кто едет? – спросил караульный казан.
– Слезь, тогда увидишь! Разуй глаза-то! – раздался повелительный окрик.
– Нам попусту спускаться не указ. Ты сам отзовись! – откликнулся воротный.
– Да ты что, сатана, оглох?! Ить я государев судья войсковой!
– Алекса-андра Иваныч! – зашумел казак. – Прощенья просим. Ить, право, я тебя по голосу не признал! Сей миг отворю!
Слышно было, как казак поспешно затопотал сапогами, сбегая по лестнице с башни.
Второй казак, склонясь с башни, негромко окликнул:
– Эй, ватаманиха! Сам Творогов едет. Он у государя в первых. Проси его. Укажет, то и в крепость вас впустим…
Салават услыхал эти слова и тоже зашагал к воротам.
Толпа русских крестьян, башкир, тептярей, мишарей сбилась у самых ворот. Слышны были какие-то переговоры и перекоры, пока отпирали замки на воротах изнутри крепости, но вот ворота со скрипом растворились, и с понуканием и хлёстом кнутов из ворот потянулись воза.
– Куды-то столько возов? – спросил воротный, которого Салават узнал по голосу.
– Не твоего ума! Сколько надо, столь и возов! – огрызнулся хозяин обоза.
– Тпру-у! Но-о, пошла-а!.. Давай, давай влево! Смотри, бес, колесом-то в яму! Зава-алишь!.. – кричали казаки-возницы, нахлёстывая лошадей, выводя их под уздцы и присвечивая фонарями под колёса возов.
– С дороги! Эй! Что за толпа сошлась?! – грозно прикрикнул рослый казак, войсковой судья Творогов. – Дайте-ка возам проехать!
Первой осмелилась подступиться к грозному начальнику крестьянская атаманша:
– Лександр Иваныч, укажи воротным нас в стены пустить.
– Отколь вы пришли, что за люди?
– Из крепостных крестьян мы, по государеву кличу сошлись…
– А мы ведь башкирцы, тептяри, мишари – всяких народов люди, – сказал Салават, подошедши к Творогову.
– Когда ж государь баб-то кликал? Для бабьей службы у него и казачек довольно будет! – обратясь к атаманше, насмешливо пошутил Творогов, даже не глядя на Салавата.
– А ты бы зубы-то не чесал, Лександра Иваныч, – отрезала атаманша. – Ведь люди дома побросали, семейки покинули, землю, господ побили, на государеву службу пришли, а ты над судьбой народной и над царским указом глумишься, как скоморох!
– Я вам без шутки, братцы, скажу – и башкирцам и русским, – серьёзно сказал Творогов, спрыгнув с седла. – Шли бы вы все по домам, откуда прибрались.
– Как по домам?! Ведь мы к государю! – воскликнул Салават, не веря ушам.
– Мы к батюшке пресветлому царю. Он нам письмо писал, – подхватили в толпе крестьян, окружая Творогова.
– Дьячок читал! – раздались голоса.
– Мы всем сходом слушали да сразу и взялись кто за топор, а тот – за вилы…
– Лихо! – воскликнул Творогов и добавил: – Да, вишь, ныне уж и нужда миновалась у государя.
– Аль с государыней примирился? – спросил пожилой крестьянин. – Ну, дело божье, любовь да совет… А крестьянам-то будет ли воля?..
– Да как ведь сказать… – неопределённо начал Творогов.
Но в это время воротный казак подошёл к нему.
– Лександра Иваныч, а дозволь-ка спросить тебя не во гнев: куды ты с собою из крепости пушки повёз?
– А ты что за спросчик? – одёрнул воротного Творогов.
– Я не спросчик, а караульный казак, – не унялся тот. – Я службу знаю! Пошто с тобой пушки? – настойчиво повторил он.
– Те пушки мои. Я сам их с Яика вёз на своих лошадях!
– А я мыслил – царские пушки! – сказал казак. – А где же ты такой закон взял, что пушки твои?
– Не твоего ума! – остановил его Творогов. – А сказываешь, что службу знаешь! Стратигия – тайное дело! – поучительно сказал он. – Куды государь указал, туда и поставлю их, чтобы способней палить. А перед тобой мне ответ держать не пристало. И недосуг мне с тобой.
– Ан я человек-то досужий и с любопытством тоже! – с дерзкой насмешкой возразил казак. – Стратигия – тайна, конечно. Не смею пытать, куды пушки поставишь, а с бабой пошто?
– С какой бабой! Ну-ка, с дороги! – оттолкнув воротного в грудь, нетерпеливо прикрикнул Творогов.
– А с той бабой, какая сидит на возу-то с тремя сундуками. Картечью её заряжаешь, что ли?! – не отступался казак.
– Пусти-ка ты, зубоскал! – в смущении и со злостью воскликнул Творогов и взялся за луку, ставя ногу в стремя.
Но воротный казак ухватил коня под уздцы, а другою рукой дёрнул Творогова за полу полушубка, так что дюжий судья повалился наземь.
– Не пущу! Так-то пушки из крепости не вывозят! – со злостью рыкнул казак. – Где проходная бумага на пушки?
– А вот тебе проходная! – Творогов живо вскочил, развернулся и ткнул казака под глаз кулаком.
Казак пошатнулся, схватился за глаз.
Салават решительно надвинулся на Творогова.
– А ведь мы тебя свяжем, казак! – твёрдо сказал он.
– Меня?! Да я вот велю моим казакам… – заикнулся тот.
– И тебя! – поддержал Салавата воротный казак, хватая за грудь войскового судью.
– И свяжем! – воскликнула мужицкая атаманша. – Куды от царя пушки тащишь?!
– Ах вы, нехристи окаянные! Да что вы к нему привязались! Ить он войсковой судья, ироды! – внезапно раздался бабий визгливый голос. И тучная казачка, расталкивая толпу, подступила к Салавату. – Не он один пушки тащит! А через те ворота сколь проехало люду – и пушки и порох увозят… Уж раз порешила на Яик…
– Молчала бы, дура! – крикнул Творогов.
– Вот ты с женой-то как – «дура»! А сам и умён. Говорила тебе – ну их к лешему, пушки! Говорила – гляди, попадёшься!.. Вот и вправду! – кричала вовсю Творожиха.
– Распахнула хайло-то! Уймись! – одёрнул её муж.
– Не уймусь! Говорила – идём через те ворота! – раскричалась баба.
– Так, стало, судья, ты на Яик собрался? – спросил воротный казак.
Салават не дослушал спора. Он мигнул стоявшим вблизи башкирам. С десяток сметливых парней отошли с ним в сторону, где, окружённые толпой народа, стояли атаманские возы и две пушки. Салават решительно подошёл к одной из них, вытащил из-за пояса топорок и мигом срубил постромки.
Ездовые казаки бросились на него, но толпа их мгновенно смяла. Кинзя отрубил постромки второй пары коней. Их отвели от пушек. Ездовых казаков повязали. На руках башкиры катили пушки назад к крепости, где продолжалось ещё препирательство с Твороговым.
– Постромки срубили?! Бунт! На царских слуг! – закричал Творогов.
Он выхватил пистолет и направил на Салавата, но прежде выстрела ринулся на него из толпы один из башкир. Грянул выстрел, и башкирин упал.
Воротный казак и двое-трое крестьян схватили Творогова.
– Вязать его! – сказал Салават.
– Измена! Братцы! Каза-аки! Изме-ена!.. – кричал Творогов, стараясь, чтобы его услыхали в крепости, но на голову ему накинули шубу, повалили, скрутили.
Только тут Салават узнал, что его спасителем от пули Творогова был Абдрахман.
Раненный в плечо из пистолета, пока ему перевязывали рану, он сказал Салавату, что Овчинников выдал ему проходную, велел поскорее вести ко дворцу башкир. Он сказал, что царю угрожает измена, и велел торопиться.
– Ей, дядька! Ты видел измену? – спросил Салават воротного казака. – Изменщики не велели пускать нас в крепость. Нынче давай мы скорее пойдём, а девка тут с вами станет беречь ворота. Никого из ворот не пускать. Кто с возами будет – возы вываливать тут прямо на дорогу.
Казак кивнул.
– Гасить костры! – приказал Салават башкирам.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Ещё до прибытия Салавата с башкирами к Берде яицкие главари сошлись на тайный советв избе казачьего полковника Лысова.
Им нечего было таить друг от друга: общие интересы во всём связывали их, и речи их были прямы и откровенны.
– Куды ни кинь, а все клин! – сказал старик Почиталин. – Мы тут осадничать будем, стоять, Оренбурх караулить, а в ту пору дома наши все разорят.
– Вставали за дело казачье, – начал Яким Давилин, – а стоим…
– …за собачье! – перебив, подсказал Лысов.
– «Царь-батюшка», вишь, орлом в облаках летит: мало ему почёта от яицких – он всю Расею хочет подмять под себя, – ворчал Коновалов.
– Крылышки надо орлу подстричь! – опять перебил Лысов. – Губим казачество за чужую нужду. Мужиков он, вишь, ублажает, чувашам пособить сулит, солдатам беглым он тоже отец родной.
– Да всем, окромя одних казаков, – подхватил старик Почиталин. – Заводским рубашки сулит раздать, рудничные беглецы да колодники с каторги ему дети родные…
– А чьи хутора пожгут? Чьё хозяйство на дым сойдёт?! – выкрикнул Дмитрий Лысов. – Я так сужу, атаманы: вечор Перфильева хутор сгорел от Корфа, сколь других горят, мы не ведаем, а надо идти к домам. Так и скажем царю: «Военной коллегией приговорили: больше осаде не быть. На Яик идём, да и все!..»
– Верно! Ладно сказал! Не удумать лучше! – разом заговорили собравшиеся казаки.
– Так-то так, – вдруг всех охладил Коновалов, – а кто же скажет ему?
Казаки быстро и воровато переглянулись.
– Ты старший у нас! – нарушив неловкую заминку, бойко сказал Лысов Коновалову.
– И то!
– Кому же больше! – обрадованно подхватили остальные.
Коновалов синим платком отёр со лба вдруг выступивший каплями пот.
– Говорить я красно не искусник, – забормотал он. – Вот, может, Давилин… Ближе ему… Он дежурный при государе…
– Яким?! Ась?! – спросил Почиталин.
– Нашли дурака! – усмехнулся Давилин. – Аль мне голова не мила!
– Андрей! – воскликнул Лысов, увидав в окно проезжавшего улицей Овчинникова, который, только что оставив в избе Салавата, скакал к царю. Лысов застучал в стекло, торопливо поднял раму окошка и крикнул: – Андрей Афанасьевич!
Овчинников оглянулся. Лысов поманил его, и минуту спустя, бросив коня без привязи у крыльца, полковник вошёл в избу.
– Куда? – спросил Коновалов.
– К государю.
– С чем?
– Башкирцы переметнулись к нам! Привёл больше тысячи, – довольный удачей, радостно сообщил Овчинников.
– Помолчи! – резко остановил Лысов.
– Как бы «сам» не прознал, – поддержал Почиталин, понизив голос.
– Куды ж медведя в мешок?! – шёпотом воскликнул Овчинников.
– К государю не допускать – пусть за стенами табором станут, – указал Коновалов, – а мы…
Он не успел закончить: крики на улице привлекли внимание всех главарей казачества – это промчался обстрелянный из Оренбурга разъезд казаков.
Яицкие казачьи вожаки, пошатнувшись при первом же смелом выпаде осаждённых, начали подстрекать казацкую массу к тому, чтобы, снявшись из Берды, оставив осаду Оренбурга, идти всем полчищем в Яицкий городок. Они говорили, что к рассвету от государя будет указ, что войско снимется быстро и, кто отстанет, тот может попасть в руки солдат Корфа.
Боясь за участь свою и своих семей, которых низовое казачество немало свезло в Берду, казаки начали с вечера по дворам готовить к отъезду добро, делая это втайне от скопища крепостных крестьян, заводских повстанцев и от нерусских воинов. Среди казаков шептались о том, что при переходе Оренбурга к наступательным действиям казаки окажутся отрезанными от яицкого понизовья, откуда большинство из них было родом и где оставили они дома и имущество.
Между тем сам Пугачёв, человек большой личной отваги и незаурядного воинского удальства, и не думал о том, чтобы покинуть Берду. Он знал, что легко забитый обратно в Оренбург гарнизон не отважится скоро на новую вылазку.
Привычный к походам и боевой обстановке, умеющий мыслить как воин, он рассчитывал, что прибытие Корфа в город хотя на сегодня и усилило гарнизон, но через несколько дней станет худшей обузой для осаждённых, когда истощатся привезённые Корфом в обозе фураж и провиант.
В то время, когда по всей Берде слышался шёпот напуганных обывателей, а казаки тихомолком вязали возы, Пугачёв, ничего не зная об этом, довольный удачей дня, победой над вылазкой Корфа, которую справедливо считал наполовину лично своей удачей, сидел вдвоём с сыном Трушкой.
При свете двух оплывающих свечей любовно вглядывался он в задорное личико одиннадцатилетнего Пугачонка, как называл его сам.
Трушка только вчера прибыл к отцу с надёжным человеком, сумевшим спасти его от врагов.
Сквозь своё бродяжное прошлое, через походы, скитания, тюрьму и мятежные замыслы Емельян Иванович Пугачёв пронёс нежность к сыну. И даже теперь, когда, отрекаясь от имени Пугачёва, он доказывал всем, что он «точной», единственный подлинный царь, – он не мог удержаться от сладостного соблазна держать при себе Трушку…
Пугачёв был довольно умён, рассудителен и дальновиден, чтобы не противопоставлять малолетнего казачонка великому князю Павлу Петровичу. Он не называл его своим сыном, но предоставить сыну лучшую участь, чем беспокойная жизнь небогатого казака, было великим прельщением. Держа его при себе, Пугачёв хотел для него использовать все возможности, представляемые судьбой.
– Есть у меня офицер. Третьёводни его в плен привели – Шванович. Грамоте он искусен на разные языки, – говорил Пугачёв Трушке, – велю тебя обучать, по-прусски и по-французски. Бог даст, одолеешь…
– Чего же не одолеть! – бойко сверкнув глазёнками, перебил Трушка. – Дьякон сказал – я вострый на грамоту. Во как перейму.
– Завтра начнёшь, – ласково усмехнувшись, сказал Пугачёв. Он погладил мальчишку по голове. – Только слышь, Трушко, – осторожно понизил он голос, – станет он тебя обучать – и ты полюбишь его. Станет тебе офицер тот как свой, как родня… А вдруг он и спросит: «Трушко, чей ты сын?» Как скажешь ему по правде?
– Государя Петра Фёдоровича, – напыщенно, с гордостью произнёс Трушка, довольный своей догадкой и хитростью.
– Ой, врёшь! Емельяна Иваныча Пугачёва ты сын!.. «А где же твой батька?» – тоном воображаемого офицера опять спросил Пугачёв.
– Да вот, на скамье! – бойко брякнул мальчишка, обрадованный тем, что однажды, хоть одному человеку, он скажет великую тайную правду…
– Опять врёшь, – с укором, тихо сказал Емельян. – Я государь Пётр Третий…
– А Емельян где же? – в тон ему шёпотом переспросил казачонок и опасливо оглянулся, словно ища по комнате двойника.
– Царство небесное! Засечён плетьми за имя моё, – сказал Пугачёв и истово перекрестился.
Трушка растерянно перекрестился, глядя на него. Пугачёв наклонился к сыну, желая что-то ещё пояснить ему, но распахнулась дверь, и он отшатнулся от Трушки, словно его застали за преступлением. В горницу вошёл «дежурный» при Пугачёве, казак Яким Давилин. Он почтительно поклонился, не глядя Пугачёву в глаза.
– К вам казаки, ваше величество, – произнёс он.
И Пугачёв ещё не успел ответить, как в избу целой толпой ввалились казаки. Это были Василий Коновалов, степенный и положительный, весом в двенадцать пудов, с бородой по пояс; молодой писарь, румяный, кудрявый Иван Почиталин; старик Яков Почиталин – отец Ивана, лукавый, с бегающими слезящимися глазёнками; тут был и не раз битый плетьми забубённый пьяница, смелый Иван Чика; Иван Бурнов, Михаила Кожевников и дерзкий, нахальный Дмитрий Лысов, о рыжей бородкой, без ресниц и бровей.
Все эти люди знали, что Пугачёв – самозванец. Иные из них, как Чика, слыхали от него самого, другие знали друг от друга – близкий круг людей, связанных прежде интересами своего казачьего войска, а теперь скреплённых общей великой тайной.
По тому, что почти ни один из них не глядел в глаза, перешагивая порог, по тому, что не выполняли они заведённого ими самими обычая – входить церемонно, и по докладу, и по их суровой молчаливости Пугачёв понял, что предстоит не обычное совещание с военной коллегией, членами которой являлись пришедшие казаки.
– К тебе, государь-надёжа! – сняв шапку, первый сказал Коновалов, и общим гулом вздохнули за ним остальные, словно невнятное эхо: «К тебе… надёжа…»
– Депутацией целой! – недовольно встретил их Пугачёв. – Садитесь, гостями будете, – попробовал пошутить он, но шутка не вышла, и он её сам оборвал со злостью: – Зачем пожаловали, господа атаманы?
Уже раза два приходили к нему атаманы такой же толпой, в такое же позднее время, и оба раза он вёл с ними споры и вынужден был уступать их давлению. В таком составе, в такую пору они приходили к нему для того, чтобы напомнить, что знают, кто он таков, и угрозой принудить все делать по их желанию и в их интересах…
На этот раз казаки так же, как и тогда, мялись, подталкивая друг друга.
– Скажи, Иван, – вслух шепнул старик Почиталин Бурнову.
– Ты постарше, тебе говорить, – отозвался вполголоса тот.
– Говори, Яков Васильич, – громко поддержал Бурнова Лысов. – Чего там бояться, люди свои!
– Мнётесь чего? – нетерпеливо и резво понукнул Пугачёв.
– Страшатся вас, ваше величество, то и мнутся, – пояснил Коновалов, шагнул вперёд, и под ним со скрипом погнулась половица.
– А ты не страшишься, Василий? – спросил Пугачёв.
– Я смелой, скажу за всех, – махнув рукой, ответил Коновалов. Он вдруг принял деланую позу и заговорил не своим голосом, словно самый склад заявления, его предмет и общность мнений товарищей заставляли отречься от самого себя ради защиты общего интереса. – Докладывает военная вашего величества коллегия, что пора на зимовку в Яицкий городок и по Яику становиться вниз до Гурьева и до самого моря. Судит коллегия, что Оренбурха не взять – силён, а зимовать тут, по рассуждению атаманов коллегии, голодно, да и войска с Питербурха нагрянут – укрыться было бы где! – Коновалов побагровел и, вынув синий платок, вытер с лица пот. – Хлопуша в заводах побит – значит, пушек не будет, а без них, знаешь сам, Оренбурха не взять… – Коновалов огляделся по сторонам, встретил взгляд Кожевникова и, припомнив, добавил: – Да инородческий корпус башкирцев супруга ваша, анпиратрица, призвала наши станицы грабить. Башкирская кавалерия рыщет уже недалече. Сам знаешь – башкирцы каков народ в драке! С той стороны марширует на нас Декалонг, с той башкирцы, тут Корф в Оренбурхе – мы как куры в котёл попадём!..
Коновалов замолк. Молчали и остальные…
– Испужались? – спросил Пугачёв. Молодые глаза его блеснули насмешкой. – Корф страху задал? А вы бы Чике сказали не воровать – пропил казачество! Кабы не он, мы б и Корфа отбили, не впустили бы в Оренбурх.
– Теперь не воротишь! – отозвался Лысов.
– Ладно, – остановил его Пугачёв, которому был всегда неприятен этот наглый, как жирный кот, атаман. – Яйца курицу не учат. Как время придёт, велю на Яик сбираться…
– Коновалов не все сказал, – прервал Пугачёва Лысов, и в «голых» глазах его сверкнула упорная решимость бороться.
– Ещё чего?! – грубо спросил Пугачёв, взглянув на Коновалова.
– Ещё, ваше величество… – запнувшись, заговорил Коновалов, – судит военная ваша коллегия… что… государю… мол… что непристойно, мол, государю казачонка за сына держать… От того народу сумленье…
Трушка, робко взглянув на отца, придвинулся ближе к нему.
– Чего-о?! – грозно привстав с места, спросил Пугачёв, словно загораживая собой сына.
– Отпустите, ваше величество, Трофима Емельяновича к матери, – сказал до того молчавший старший Почиталин.
– Во-он до кого добрались?! – еле сдержавшись, произнёс Пугачёв.
– К матери ж, не к кому! – вмешался Лысов. – Видано ль дело – дитя на войне держать! Ненароком и пуля сгубить его может, – добавил он с каким-то особым значением.
– Грозишь? – спросил Пугачёв.
– Голова моя с плеч! Чем грозить?! Все в вашей воле ходим! – нахально сказал Лысов. – Да что тебе за корысть, государь-надёжа, от казачонка?!
– Пустили бы, – поддержал Кожевников. – Сами бы его проводили, надёжного человека пошлём.
Казаки наступали со всех сторон. Пугачёв удивился. О большом деле, о снятии с Оренбурга осады, они не спорили, а о Трушке вдруг завели спор, словно то был большой военный вопрос… Пугачёв поглядел на них. Они напоминали ему стаю волков, окружившую однажды его в пустой, безлюдной степи… Их было одиннадцать штук, и он справился с ними, а этих меньше десятка… «Ужель не справлюсь?» – подумал он про себя.
– Чем в вашем стаде Трушку держать – и пустил бы, рад бы, – сказал Пугачёв. – Да боюсь. Любовь я ему оказал, а вы злы: кого люблю, на того у вас зубы…
– Напраслину говоришь, государь-надёжа! Кто тебе люб, того мы все любим, – возразил Коновалов с поклоном.
– Сержанта Кармицкого вы полюбили, да с камнем и в воду! – прямо сказал Пугачёв. – Я вам про то смолчал. А Лизу, Лизу Харлову за что убили?
– Что комендантская дочка на ласку к дворянам тебя склоняла, – вступился Лысов.
Пугачёв шагнул на него. Всегда растрёпанный, вызывающий, Лысов был особенно дерзок сегодня.
– Врёшь! Не за то! Любовь мою к ней увидали!.. – выкрикнул Пугачёв, брызжа слюной Лысову в лицо.
– Что ты, надёжа! Да ты оженись. Гляди, как мы все государыню новую станем любить, – сладенько сказал старик Почиталин, льстиво и вкрадчиво кланяясь.
– Слыхал и про то! – оборвал его Пугачёв. – С царём породниться хотите. Невесту смотрите из своих… Ан я женат! Не татарин – в двубрачье вступать!.. И Трушка вам оттого противен, что про семью свою лучше с ним помню… Не уступлю!
– Воля царская! – заметил Кожевников.
– Во-оля, во-оля! – передразнил Пугачёв. – Ванька Зарубин пьян пролежал и войско впустил в Оренбурх. Проспал… Повесить за то! Да ваш он, ваш, ваш, собака!.. Вот воля моя!.. – в исступлении рычал Пугачёв.
Чика Зарубин, испуганный, побледнел. Он понимал лучше Пугачёва, в чём дело: он знал, что коллегия пришла к Пугачёву с торгом, что дело было вовсе не в Трушке, а в том, чтобы противопоставить свою уступку уступке со стороны «царя» и порешить дело миром. Если Пугачёв станет настаивать на оставлении Трушки – сдать ему эту позицию, выиграв стратегический ход и добившись его согласия на снятие с Оренбурга осады и отступление на Яик.
– Помилуй, надёжа-царь, с кем не бывает, что пьян! – взмолился Чика Зарубин.
– Время для пьянства знай! – неумолимо сказал Пугачёв. – За такое – вешать!
– Эдак нас всех повесишь! – неожиданно для Чики вступился Лысов. Он тоже не стал бы бороться против Пугачёва за Чику Зарубина, но Чика, как и Овчинников, спорил с казаками об уходе на Яик… Надо было ему доказать, что казацкие интересы едины, что Чике ради спасения шкуры надо держаться вместе со всеми, да к тому же следовало одёрнуть и своевольного Пугачёва, который почувствовал себя вправду царём.
– Ты, государь, казаков не трожь! – поддержал Кожевников.
– Ты казаками силён, помни! – сказал старик Почиталин.
Они все снова пошли в наступление, ощерились:








