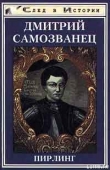Текст книги "Самозванец и гибельный младенец"
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Две быстро увеличивающиеся толпы все стояли друг против друга, а если и сближались мало-помалу, то потому только, что задние подталкивали передних.
Басманов приосанился, подбоченился, поискал взглядом трубача, чтобы приказать ему сыграть «Слушайте все!». Однако трубач по собственной воле уже вышел вперед, а за ним литаврщик и два барабанщика. Вместе они громогласно сыграли перед удивленными воеводами нечто, не предусмотренное ни в одном уставе, а князю Василию, как впоследствии выяснилось, напомнившее начало его любимой песни «Ой, не белы снеги…».
И вдруг немолодой трубач завел высоким, хоть и надтреснутым голосом:
А вскрикнули да два лебедя
Посередь моря да на камушку:
«Ох, дай Боже, дай половодье,
Чтобы нам на песке покупаться
И желтого песку позобаться!»
Нахмурился Басманов: в «желтом песке» привык он видеть страшноватую подробность причитания или песни о смерти царя Ивана Васильевича: мол, «рассыпьтесь, желтые пески, развалитесь, гробовые доски»… Фу ты! Музыканты тем временем проиграли свое, а трубач отнял трубу от губ, набрал побольше воздуху и продолжил:
Как ускрикнули да два молодца
Посередь поля да на площади:
«Ох, дай Боже, дай замиренье,
Чтобы наши цари замирились,
Чтобы нам на площади постояти
И на белый свет поглядети!»
Войска еще помолчали, переваривая услышанное, а потом две толпы-тысяченожки поползли друг к другу и слились. Одни московские стрельцы обнимались с казаками, другие подбрасывали в воздух свои шапки, третьи, опустив головы и сторонясь как своих, так и чужих, проталкивались к северному выходу из табора, откуда на дорогу в Тулу вытекал, неторопливо расширяясь, человеческий ручей. Впрочем, в таборе довольно оставалось еще войска, там кипел огромный котел, и трудно было представить себе, что эти вооруженные мужики еще несколькими днями раньше подчинялись приказам воевод.
Басманов, счастливо оскалив зубы, обернулся к братьям Голицыным:
– Такое сотворить из московского войска! Да только ради этого зрелища, братцы, стоило похерить присягу Борисову щенку!
У думного боярина и воеводы Петра Алексеевича Басманова мельтешило перед глазами огромное войско, превратившееся в неуправляемое человеческое месиво, и не хотел он тогда, да и не имел такой возможности, выискивать в нем и рассматривать отдельных людей, стрельцов и казаков. А вот юродивый Самсонко Московский, тот оказался внутри бушующей толпы и, надо сказать, растерялся. Ведь сразу после освобождения он слег: словно пружина, внутри его поддерживавшая во время бесконечных, на ногах, бдений в яме, вдруг ослабела. Пришлось отлеживался на попоне, подаренной слугою Басманова, разбитным Матюшкой. Чтобы вонь от юродивого не досаждала его господину и прочим воинским людям, попону Матюшка расстелил в десяти саженях за шатром своего хозяина, на безлюдном скате холма. Здесь и пролежал Самоха несколько суток пластом, то ли спящий беспробудно, то ли сознание терявший на долгие часы. Приходя на короткое время в себя, он всегда обнаруживал поблизости на свежей яркой траве плошку с кашей, иногда уже засохшей.
Каждый раз, как только в голове прояснялось, Самоха первым делом молился за разбитного слугу, лучше своего щедрого хозяина понимающего, в чем на самом деле нуждался юродивый после освобождения из смрадной ямы. Не стал ведь сей добрый самаритянин одевать и обувать его с головы до ног из запасов боярина и воеводы, не стал и мыть насильно, только выплеснул два ведра болотной воды Самохе на ноги, чтобы не засохла на них корка из вонючей тины. Помолившись же за Матюшку, Самоха принимался перекладывать кашу из плошки в заветный горшочек с «вечной» пищей, а затем перемешивать, тоже лежа, содержимое сосуда указательным пальцем, таким же черным, как и все остальные. Потом пытался он подкрепить свои силы смесью из горшочка, что не всегда удавалось. Если не выходило удержать в себе проглоченное, то позволял себе снова заснуть. Если же пища благоволила остаться в нем, пробовал подняться на ноги, чтобы продолжить путь к польской границе и выполнить порученное святой Параскевой. До сих пор не удавалось ему удержаться на ногах, а вот как раз сегодня вышло.
Никак нельзя сказать, чтобы неясный гул толпы, крики, музыка и даже песня, доносившийся из-за холма, что весь этот необычный шум не доходил до ушей Самохи, однако он был настолько поглощен попыткой овладеть снова непослушным своим телом, что просто не воспринимал ничего, что сообщал о себе внешний мир. Вот почему был ошеломлен, когда, обогнув на нетвердых ногах холм справа, оказался вдруг прямо перед спускающейся от «разрядной палатки» тугой кучкой стрельцов, тащивших уже связанного боярина Ивана Годунова.
Сын боярский с выпученными от усердия глазами, распоряжающийся перемещением воеводы-изменника, тот проскочил мимо Самохи, а вот стрельцы, его добровольные помощники, очень уж не желавшие пасти задних, когда дело дойдет до вытряхивания воеводы из дорогих одежд и до дележки прочего его походного имущества, буквально подхватили и пронесли с собою Самоху через весь беснующийся табор. Красные, черные от грязи и пороховой гари, бородатые и усатые рожи мелькали перед ним, блестели белые зубы, взлетали вверх сжатые кулаки, над шапками торчали копья, протазаны и стволы пищалей… Господи, а что сие? Невдалеке над толпой казаков в бараньих шапках начало взлетать в воздух нагое женское тело. Из восторженных выкриков понял юродивый, что это качают казацкую подружку, блудницу, она-де прославилась своими танцами и поносными песнями на ничейной полосе, под пулями… Хотел было отвернуться Самоха, да передумал: теперь уж смотри, не смотри, а любострастным желанием так уж точно не согрешишь. И в самом деле, ему было скорее противно разглядывать ее белые, молодые, однако уже несколько оплывшие бедра, и совсем не любопытен даже треугольник темных волос над заветным местом, мелькающий между двух черных от грязи подошв. Вот только, что кричит она, когда оказывается в высшей точке, зависает и начинает уже падение, а нечесаные волосы конской гривой взлетают над ней? Прислушался, а это: «Царевич Дмитро! Красавчик!» А чего еще ждать от бабы?
Тут замешкавшиеся было стрельцы оторвали глаза от того места в толпе, над коим в последний раз блеснула телесами бедовая блудница, снова сомкнулись вокруг Самохи и теперь не останавливались уже, пока не доволокли до слишком хорошо знакомой ему смрадной ямы, покрытой жердями. Тут свалился он на землю, потому что все сгрудились вокруг плененного воеводы. А Самоха на удивление быстро поднялся с земли, будто сдавливавшие его со всех сторон стрелецкие плечи, груди и спины передали ему, горячие и потные, часть своей тупой жизненной силы. Еще постоял, таращась, словно что доброе увидел, на то, как развязывают воеводу, бросают навзничь на землю и стягивают с него левый сапог, плюнул и начал осматриваться, чтобы определить, в какую сторону уходить ему из табора.
Уже на ходу, медленно и осторожно переставляя ноги, вдруг почувствовал на голове нечто лишнее. Остановился юродивый, снял потрепанную стрелецкую шапку и некоторое время вертел в руках, разглядывая. Повесил ее на сук ближайшей березки с ободранной понизу корой и осмотрелся тоскливо: посох, вот что ему нужно сейчас – или хотя бы нож, чтобы вырезать самому. Впрочем, может быть, удастся и просто выломать подходящую палку. Пожал плечами и, не удостоив прощального взгляда столь занимательное, для летописца какого-нибудь безумно привлекательное зрелище – разрушенные Кромы и под ними табор восставшего московского войска, поплелся загаженой обочиной дороги.
Глава 5. Доспех для лешачонка, немецкий шлем для домового и незваные друзья для юродивого Самохи
Поздняя весна незаметно перешла в лето, и, казалось бы, жизнь на Анфискином постоялом дворе потекла размеренно и спокойно. Бессонко усердно заметал во дворе и в покоях, по вечерам или рубился понарошку с паном Рышардом, или, если дождило, мечтал на чердаке с Домашним дедушкой о походе в Большой мир. Рысь еще ворчал для порядка, однако хозяйке как-то признался, что если по правде, то в мастерстве владения саблею ученик уже превзошел учителя. Он заявил даже, криво улыбнувшись, что в настоящей, а не примерной рубке сей необычный подросток (у него выговорилось «настолятэк», и это слово пришлось ему толмачить Анфиске окольно) наверняка победил бы его. Когда прекрасная корчмарка, загадочно улыбаясь, передала Бессонку это лестное для него мнение, он от радости подпрыгнул до потолка, за что впоследствии порицал себя: ведь сам он давно понял, что рубится уже лучше пана.
По-прежнему трудясь за обеденным столом за троих, а то и за четверых, подросток на вкусной Анфискиной стряпне продолжал, словно былинный богатырь, растеть-матереть, и уже мечтал о том, как вскорости ему станет впору вражеский рыцарский доспех. Благо и корчмарка в добрую свою минуту согласилась отдать искореженный шлем. Торжественно извлеченный из курятника, он был заботливо очищен от позорных следов восседания на нем пестрых Анфискиных кур-несушек.
Поездка в кузницу вместе с унылым Спирькой и невидимым Домашним дедушкой, ехавшим охлюпкой на пристяжной Савраске, стала для Бессонка настоящим откровением. После выхода из леса это было первое приближение его к городу Путивлю, к большому городу со множеством людей. И хотя лес, через который довелось на сей раз проезжать, не очень-то отличался от окружавшего Анфискин постоялый двор (не говоря уж о том, что и здесь все еще продолжались владения его приемного отца Лешего), Бессонко очень остро ощущал, что проезжает местами, где еще не ступала его нога.
Усадьба кузнеца стояла в двух часах пути от постоялого двора и была поставлена с разумной осмотрительностью: именно на таком отдалении от большой дороги, чтобы особенно не привлекать внимания путников, в кузнечных услугах не нуждающихся, зато чтобы подорожный, которому надо поправить ось, железный обод колеса или лошадь подковать, сразу же обнаружил кузницу, увидев выставленные на двух шестах тележное колесо и непомерно большую, для лошади-великанши, подкову. И внутри довольно мощной ограды сама кузница, из которой валил таинственно черный дым, была заметно отнесена в сторону от жилой избы и прочих хозяйственных построек.
– Это чтобы искрой из кузницы не устроить большого пожара, – пояснил Спирька.
– А для какой лошадиной породы та подкова, что на шесте? – осведомился Бессонко. – Не для богатырской ли? Не для тех ли коней, что реки и озера между ногами пропускают?
– Таких коней не бывает. Это Хмырь-кузнец отковал диковину, чтобы ее издалека было видно. Ты только не называй его, как я, Хмырем-кузнецом, это дразнилка такая, а величай по-уличному, Гатилой.
Заметно было, что желчный Спирька, никого в целом свете, кроме Анфиски, в грош не ставивший, к Хмырю-кузнецу относится с почтением. Что ж, и названый отец Бессонка, Леший, тот тоже говаривал, что кузнец кое-что «знает». Кстати, Леший бился с супостатами всегда в пешем порядке, но вот если бы, раздувшись и став выше дерева стоячего да чуть пониже облака ходячего, он захотел бы преследовать их верхом, то именно такие копыта должны были бы быть у коня, способного выдержать тяжесть лесного богатыря…
Тем временем подъехали они уже к воротам, слезли с телеги, и Спирька постучал кнутовищем. Бессонко ощутил шевеление за спиной и рывком обернулся. На телеге сидел ободранный тощий кот, усердно вылизываясь. Понятно, это дедушка Домовой решил подслушать разговор с кузнецом. Да, мало у старичка развлечений… Тем временем из кузницы появился высокий, здоровый мужик в кожаном почерневшем переднике. Гордо задрав полуседую окладистую бороду, он присмотрелся к Спирьке и отворил ворота. Поздоровались.
Заперев за телегой ворота, кузнец ловко завернул назад Савраске переднюю ногу, взглянул, отпустил и спросил удивленно:
– Не рано ли перековывать привел лошадок, Спирька, пустой ты человек?
– Да нет, мы по другом делу, Гатило. Вот паренек, сын Сопуна, челом бьет, чтобы ты ему одну штукенцию исправил.
– Некогда мне сейчас! Да уж ладно, пошли в кузню. А то у меня железо перекалится, еще и прогорит. А выну сейчас – так простынет.
Бессонко ровно ничего не понял, однако вытащил из-под соломы шлем, завернутый в дырявую тряпицу, и послушно вошел в страшную, пышущую пламенем кузницу. Впрочем, там паренек надолго спрятался за спиной Спирьки, а кот за его ногами. В большой кирпичной печи полыхал огонь. Кузнец, ловко орудуя клещами, выхватил из огня нечто светящееся красным, бросил на большую железяку, стоявшую на огромном пне, опоясанном поверху железной полосой. Ударил тяжелый молот, брызнули искры… Не успел Бессонко опомниться, как кузнец снял с железяки готовое, из ничего возникшее лезвие серпа. Да, велика она, кузнечная премудрость!
– Давай, что там у тебя?
– Не стой столбом, орясина, подай хитрецу шлем, – прошипел Спирька.
– А… Да, вот…
В ручищах великана-кузнеца (холщевые рукавицы он снял и сунул за пояс) изувеченный шлем показался Бессонку до обидного маленьким. Гатило повертел его и так и этак. Замычал:
– Немецкой работы, значится… Пищальной пулей, чем же еще?… Да, забрала и след простыл… Холодная ковка…
Ткнул кузнец шлем назад в руки Бессонку, а сказал почему-то Спирьке:
– Могу и забрало выковать и привесить, и края шлема выпрямить… Хотя работа тонкая… Вот только чей шлем-то? Если ляха-голяка, что у Анфиски в нахлебниках живет, то чем панок расплачиваться будет?
– Так ведь мой шлем, дядя Гатило! – взвился паренек. – А чем расплатиться, у меня имеется.
– Все так, – кивнул Спирька. – Малый не врет.
Кузнец сверкнул глазами на Бессонка, подумал. Наконец, заговорил:
– Не надобен тебе, парень, такой шлем… Коли без прочего доспеха, так и вовсе смешон будешь…
– Да есть он у меня, есть полный доспех!
– Правда? Ну тогда, как навяжешь все на себя, тебя за немца или поляка примут, вот что. Оно тебе надо?
– Вот еще…
– Гляди сюда, – и черный палец ухватился за железную трубочку на макушке шлема. – Это зачем, знаешь ли? Нет? Это чтобы сюда павлиньи перья вставлять… Если ли у тебя, парень, павлинье перо? Большое, с синим глазом на желтом яйце?
Плюгавец Спирька закудахтал-захихикал, кузнец смотрел на Бессонка, вроде и в самом деле ждал ответа, однако мысли его и читать не нужно: заметно было, что прячет усмешку в усы. Очень захотелось Бессонку взглядом уложить верзилу на землю, чтобы не задавал издевательских вопросов, но он пересилил себя.
– Ты пояснил бы, дядя Гатило, почему мне не нужно рыцарский доспех надевать, – выдавил из себя, потупив опасные свои глаза.
– Аль не понял? Тебе, уж не знаю как, достался доспех старого шляхтича-гусара, убитого покойным отцом твоим Сопуном – да будет земля пухом твоему храброму отцу! Небось, и седло тоже?
– Есть и седло там, большое…
– А к седлу сзади вроде как крылья приделаны?
– Есть такие, с гусиными да индюшачьими перьями, только обломано одно…
– А ты, небось, мечтаешь в войско царя Димитрия пойти? Правда ведь? А если явишься к царю в таком виде, то увидят там тебя польские гусары, кои царю Димитрию служат, увидят – и порешат на месте, оком мигнуть не успеешь.
– За что же? – насупился Бессонко.
– А за то! За то, что их товарища-гусара убил, а то и пуще того – мертвого ограбил. А тебе крыть и нечем будет, парень.
– Так что же делать? – Бессонко готов был уже расплакаться, однако сдержался и состроил умильную рожицу. – Посоветуй, именем Велеса тебя прошу, кузнец-хитрец.
– Именем Велеса, говоришь? – покосился на него кузнец и снова спрятал ухмылку в бороду. – Ну, ну… Уж если так, заради Велеса, то посоветую. В первую голову, сей шлем тебе не надобен. Если хочешь подберу я тебе из таких, каковые у русских ратников в почете – мисюрку или шишак, а если правду сказать, так тебе и по возрасту, и по чину подходит какая-нибудь железная шапка еще попроще.
Бессонко разочарованно хмыкнул. Кузнец услышанный им звук принял за согласие и продолжил:
– Слышь, паренек, если заменишь приметный немецкий шлем, сможешь напялить часть доспеха: нагрудник и наплечники, к примеру, еще ратные рукавицы присовокупить, если есть такие. Теперь сие полудоспех называется. А набедренники нынче не в чести у ратного люда, равно как и поножи. Найди лучше хорошие, крепкие сапоги, а я, если захочешь, сделаю им оковку на пятках и носках, чтобы дольше носились. Седло еще, говоришь? Если уж непременно приспичило тебе ехать на большом гусарском седле, то спили и выбрось крылья, и чтобы и следов от них на седле не осталось. Понял?
Бессонко кивнул. Грустно ему было: ведь только что рассеялся в воздухе выметанный им образ себя самого, повзрослевшего, всего в железе, верхом на Савраске и с грозным взором из-под забрала. Заставил себя спросить:
– А есть ли у тебя чем немецкий шлем заменить?
– Сейчас поищем…
Кузнец присел на корточки и принялся ковыряться в куче ржавого железа. Тут уже и Домовой дедушка не выдержал и просунул круглую усатую головку между онучей подростка. Наконец Гатила со звоном извлек на свет Божий железную шапку, показавшуюся Бессону в сравнении даже и с исковерканным рыцарским шлемом довольно убогой. Кроме того, он сразу приметил, что и этот шлем пострадал в бою: наушник имелся только один, а проволочная сеть, защищающая сзади шею, порвана и измята.
– Ну, да, да… – прищелкнул языком кузнец. – Сия ерихонка тоже починки требует. Ничего страшного: левый наушник выкую заново и приварю, а бармицу переберу и скреплю: есть у меня подходящая проволока. Ржавчину отчищу, сие само собою.
– Выходит, дядя Гатило, эта, что из проволоки, бармица, слабенькой оказалась?
– А чего ж ты хотел, парень, от переплетенной проволоки? От легкого посеку она тебя защитит, а тут, видать, супротивник от души приложился тяжелым палашом. А ты шею не подставляй! В бою во все стороны зыркать надобно!
– Ясно, – протянул Бессонко, взглянул на кузнеца и тут же понял, что тот начнет сейчас вилять и хитрить. – Давай теперь договариваться, дядя Гатило.
– А чего там договариваться, парень? – весело ответил кузнец. – Я тебе – ерихонку, уже починенную, само собою, ты мне – своего железного калеку и гривенник… нет, два гривенника сверху. Я, знаешь ли, охотнее беру московскими деньгами.
– Не обижай, Гатило, сироту! – встрял тут Спирька. – Ишь, цену какую запузырил за свое ржавье…
А тут еще кот принялся тереться об ноги Бессонка, мурлыкать, и тот расслышал, что Дедушка просит починить рыцарский шлем для него, а ерихонку для себя, и еще советует не скупиться, ведь на войне денег не в пр-р-рим-м-мер-р больше добудем-м-м, м-м-у-рр…
– Да уберите отсюда эту свою нечисть! – вспылил вдруг кузнец. – У нас тут и своей хватает, а сей твой котяра еще цену мне сбивает.
Кот фыркнул возмущенно и укрылся за Бессонкой, а тот хотел было пояснить, что это всего лишь Домашний дедушка и что он невредный, и уж во всяком случае цену не сбивает… Сумел промолчать, а потом сказал:
– Давай лучше так, дядя Гатило. Чинишь мне оба шлема. А тогда какая будет твоя цена?
– Полтина тогда за все.
Тут Спирька принялся упорно и столь страстно торговаться, словно его кровными придется расплачиваться, а Бессонко наклонился и принялся гладить по головке кота: за свои воинские подвиги да за свои бездомные невзгоды не заслужил разве славный старичок немецкого железного горшка на голову?
– Ладно, сорок копеек, – заявил наконец кузнец. – Больше не уступлю. Приедете через неделю. Только добавочное имею условие: привезите мне чернеца, что у вас живет. У меня на него большая надежда.
– Да уехал отец Евстратий, давно уже укатил вместе с подорожными купцами. Мы ему ноги подлечили, он и уехал. А тебе чего от него надобно, Гатило?
– Жаль… Придется с батькой Федотом договариваться, с приятелем твоей хозяйки. Авось хоть он побрызжет двор святою водой, отчитает да нечистую силу прогонит. А то уже спасу нет.
– Нечистая сила? – испугался Спирька. – У отца Евстратия святой воды так уж точно не было с собою, ограбили злодеи страдальца подчистую… А какая явилась на тебя напасть, Гатило?
– Да зачем без толку языком-то молоть, коль ушел от вас чернец? Упырь завелся у меня на хуторе, упырь. Сначала из домашних моих кровь высасывал, так я его шуганул серебряной пулей. Он тогда за скотину принялся. Неужто ты не заметил, Спирька, что мои псы не лают?
– И то… – ахнул плюгавец и даже присел от испуга.
Даже Бессонко, неприятно удивленный, отвлекся от созерцания предназначенной ему ерихонки, а кот снова укрылся за его ногами.
– Сей упырь хитрый, увертливый, не деревенщина какая-нибудь, – мрачно прогудел кузнец. И вдруг нехорошо ухмыльнулся. – Очень я надеюсь, что теперь к вам уйдет. Ваш ведь человек, не иначе. Смекаю, что из тех польских воинских людей, которых твои, парень, папаша и дед ухайдокали.
– Да ну тебя, затейник! – и Спирька перекрестился. – Те убивцы рядышком на дубе как висели, так и висят. Скажешь тоже…
– А вы их, мертвецов, хоть позаботились пересчитать? То-то же… Вам что, ребята, дома делать нечего? Встретимся через неделю, я же сказал. И деньги привезите точным счетом, чтобы не позориться передо мною и за недостачей к вашей Анфиске не возвращаться.
Попрощались, стукнул засов, глухо застучали копыта. Бессонко принялся обдумывать способы, коими можно вычислить, не ожил ли один из супостатов-мертвецов. И старался не подать виду, что заметил, как из лесу за ним наблюдают немигающие желтые глаза. Вначале он попытался было поймать взгляд волка, чтобы затем встретиться с ним и выяснить, с чего бы это хвостатый увязался за телегой. Ведь поздняя весна сейчас, о волчьей бескормице и речи быть не может. Или старый уже стал, зверье ловить не способен, а бывшей стаи своей сторонится – как бы не разорвали?
Однако зверь, наткнувшись на взгляд Бессонка, тут же скрылся в чаще. И приготовленное пареньком рычание, означавшее вопрос, напрасно растаяло в воздухе. Коли был то обычный волк, почему бы ему не пообщаться с человеком, знающим волчий язык? Волки ведь не только умны, но и любопытны.
Вот именно врожденное волчье любопытство тогда же, в ту самую минуту, однако в сотне верст севернее испытывал другой волк, на сей раз никакой не оборотень, а молодой еще самец, трехлетка, сделавший стойку перед лежащим на лесной дороге неподвижно юродивым Самохой. Ему нужно было время, чтобы определить, живой ли человек перед ним или труп, а для того принюхаться и прислушаться. Он и против свежего трупа ничего бы не имел, привык ведь. Всю зиму стая держалась за одним из больших скоплений людей с опасными палками разного рода, частично верхом на лошадях. Время от времени оно сходилось в драке с другим таким же множеством людей и лошадей. А тогда раздавались непонятные зимние громы, круглые камни, большие и малые, с поразительной скоростью летели во все стороны, звякало железо, кричали без толку люди, ржали кони. Зато ночами после таких столкновений стая до отвала отъедалась свежим мясом.
Сейчас же, однако, выяснилось, что лежащий испускает пахучее тепло и еле заметно шевелится. Жив, стало быть, и требовалось теперь повести себя с ним, как с опасным нарушителем лесного порядка. Волк, глаз не спуская с будущей своей добычи, ощерился и зарычал. Однако человек и не подумал испугаться и убраться с участка, принадлежащего стае. Тогда волк пришел к выводу, что противник его, хоть и жив, но беспомощен. Следовательно, в нем можно видеть просто еду, пока еще живую.
Осторожно ступая по твердому, в редких травинках полотну дороги, волк приблизился. Человек лежал навзничь, ноги его были голы, однако волк считал необходимым, прежде всего, во избежание неприятных неожиданностей, разорвать ему глотку, а для еды первый кусок оторвать с плеча или с груди. Именно так начинал общую трапезу вожак стаи, и молодой волк привык думать, что старшему лучше знать, где, в каких местах на человеке самое вкусное мясцо. Однако, чтобы сделать все по правилам, следовало перевернуть добычу на спину. И тогда волк, сердито рыча, вцепился зубами в одежду на правом плече и, действуя передними лапами, принялся переворачивать. Сердился он, потому что резкий запах человека забивал и щекотал ему ноздри, а одежда рвалась под его клыками. Внезапно человек зашевелился, а на волка уставился его глаз, уже открытый, но еще бессмысленный. Волк отскочил на полшага, зарычал и вернулся к добыче. Однако тут же в воздухе просвистело, а в бок ему, под позвоночник, воткнулась острая прямая палка.
Как же он не уследил, почему завозился? Сам себя оглушал рычанием, вот в чем его ошибка. И сороки, почему они промолчали? Все это промелькнуло в голове у волка, когда он отпрыгивал, всеми четырьмя лапами от земли оттолкнувшись, в сторону и высматривал, в какую сторону сейчас убегать. Тотчас же вломился в кусты, и хотя палка цеплялась за прутья и ветки, усиливая боль в боку, не останавливался, пока не оказался на еле заметной звериной тропке. Там он изогнулся, попытался зубами вытащить палку, а когда не вышло, потрусил, на сей раз стараясь не трудить рану без толку. Повизгивал потихоньку, не от боли, нет: жаль ему было своей молодой жизни.
А над Самохой натянул уже поводья всадник, только что выпустивший стрелу, а за ним подъехали другие, тоже обвешенные оружием – первый и с хоругвью еще, второй с барабаном, а там и начальник прискакал на прекрасном вороном жеребце. За ними стеснились их товарищи, но все не могли увидеть, что произошло, потому что узка была дорога через лесную чащобу.
– Что у тебя стряслось, Трохиме? – спросил длинноусый начальник негромко, с некоей даже и снисходительной подковыркой. Снял шапку и поправил на бритой голове оселедец. – Як поставлю тебя в дозор, ну непременно с тобой яка-небудь Троянская история приключается.
Сухопарый Трохим, убрав уже лук в налучье и спешиваясь, оглядывался раздраженно. Ответил сварливо:
– Та той волчара, язви его в печенку, утащил стрелу, пане сотник. Добрая была стрела, татарская. Из того еще колчана, что я его с татарского мурзы под Перекопом снял. Тебе еще тогда его, мурзы, золоченый сагайдак достался – помнишь ли, пане сотник?
– Зачем же мне помнить, если пропито давно? – протянул пан сотник безмятежно, надел шапку и проверил, ровно ли сидит. Вдруг встрепенулся. – Посмотри лучше, Трохиме, кого это там твой волчара тормошил. Живой ли еще подорожный? И знай, что не дозволяю тебе идти искать свою стрелу, хоть бы и ханская была она, самого Кази-Гирея. И без новых задержек придумать не могу, чем объясню атаману Кореле наше опоздание, если вообще удастся нам теперь прорваться в Кромы. Придется теперь исхитряться, как цыгану перед приставом.
– Та что вы, панове, все – «волчара», «волчара»? – зазвенел тут тщательно одетый подросток, отставив в сторону копье с красным древком. – Мне даже из-за ваших плеч, панове, разглядеть удалось, что всего только переярок волчий.
– Чия бы корова мычала, джура, а твоя бы молчала, – блеснул зубами Трохим. Он уже склонился над пытающимся уползти путником.
– Ты, Юрко, уважай старших, если не желаешь попробовать канчуков, – поддержал его сотник и тут же Трохима поторопил. – А ты, дозорный, давай, телись, наконец, кто там у тебя?
– Та якось не вгадаю я, пане сотник. Чи то птичка, чи то синичка, чи то шпак невелычкий… Голый, замурзанный, в одной сорочке, и та черная, как земля. А на плечах котомка.
– А в котомке что имеет? – полюбопытствовал сотник.
Стащил Трохим с плеч вновь замершего подорожного котомку, развязал и руку вовнутрь засунул – с такой осторожностью, будто ожидал наткнуться там на свернувшуюся змею. Воскликнул изумленно:
– Та туточки книжка, пане сотник! Из застебкою!
– Книга, говоришь… – поднял брови сотник. – Без Расстриги не обойдешься… Гей, Расстригу мне сюда!
Имя вызванного, десятком всадников повторенное, ушло вглубь конной толпы. Тотчас же оттуда раздался ропот, прояснившийся в громкие, с матерком, крики, в недовольные конские всхрипы и ржание. Вот и причина заварушки: бородатый казак среднего роста, одетый как и прочие, в жупан и широкие шаровары, пробирается вперед, если не по головам товарищей, то ногами в сапогах на колени их и на крупы коней становясь бесцеремонно. Чуть не проткнув напоследок барабан, спрыгнул на землю. Выдохнул, потирая ушибленную чьим-то увесистым кулаком поясницу:
– Здесь Расстрига…
– Явился не запылился… – пробучал Трохим.
– Так чего тебе, пане сотник?
– Вон разлегся на дороге. Волк едва его не приголубил… Мы вот с Трохимом не разберемся никак, что за птица. У него книжка в котомке. Так не по твоей ли поповской он части, пане Расстрига?
Названный Расстригой бородач встал возле путника-оборванца на колени, бросил на него беглый взгляд, потянул носом, скривился. Вытащил книгу из котомки, отстегнул застежку, разогнул…
– Читай! – приказал сотник.
– «В свя-тую и ве-ли-кую не-де-лю Пас-хи. Ис-ко-ни бе сло-во, и слово бе от Бога, и Бог бе слово…». Евангелие сие, пане сотник. А сам мужичок… Москальский юродивый он Христа ради, вот он кто.
– Москальский дервиш какой-то, прости меня, Господи.
– Юродивый, говорю же, подвижник. У нас на Украине таковских не водится, только москали способны на такую истовую веру. Наши церковные верят поспокойнее, они…
– Берем с собою, – принял решение сотник. – Ты, Расстрига, собери его манатки и с ним в кустах пропусти сотню, а тогда на телегу Фитиля уложи. Немец же пусть на цепи за телегой бежит, не рассыплется. Фитилю моим именем прикажи подсилить голяка горилкой и накормить.
– А на хрена нам такой грязный? – удивился Трохим, на ноги поднявшись и руки зачем-то отряхивая.
– Нахрена? А книжку свою почитает нам, поучит чему доброму на привале или вечерком у костра, а глядишь, и посмеемся еще над ним. Чем плохо? А ты, пане Трохиме, не умничай, а лучше паняй вперед, тебе еще час ехать в дозоре.
Глава 6. Радость и плач в Анфискиной корчме
Едва успел Бессонко в первый раз в жизни отпраздновать Петровки, как брюхатой красавице Анфиске пришла пора рожать. Суматоха тут поднялась невероятная, а Спирька запряг Савраску и покатил, нахлестывая животинку немилосердно, в ближайшее село за бабкой-повитухой.
Анфиска стонала, и негде было спрятаться на хуторе от ее жалостных стонов. Найда сочувственно подвывала хозяйке, пока ее Бессонко не шуганул. Сам он подумывал, не сбегать ли в лес за тетей Зеленкой, однако очень сомневался, чтобы русалка, да еще не бывшая никогда замужем, смогла помочь в таком стыдном и тонком деле. Пан Рышард, тот спрятался в конюшне на чердаке, невольно вытеснив оттуда Домашнего дедушку, которому пришлось теперь, местного домового опасаясь, в образе кота путаться под ногами у Бессонка. Впрочем, Дедушка отомстил пану Рышарду, посмеявшись над ним: тот-де, ведет себя ну точно. словно муж роженицы, на что, конечно же, никаких прав не имеет. Впрочем, именно Домашний дедушка сумел дать Бессонку дельный совет: