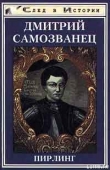Текст книги "Самозванец и гибельный младенец"
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Каша снова кивнул. Черт ухмыльнулся, протянул вдруг удлинившуюся руку к скелету пана ротмистра и ткнул снизу острым черным пальцем в костлявую, воронами обклеванную ступню:
– Красиво тут у тебя! И пахнет превосходно! И вижу я, что тебе очень не хочется меня отпускать – слушал бы меня и слушал! Да только хватает у меня и других дел, вынужден я тебя покинуть. Передай от меня привет своей сговорчивой волчихе – смотри не забудь!
Темнокрасная, глухая темница. Живая, безысходная. Место и время неизвестны
Младенец раскрыл глаза – и увидел перед собою все те же колеблющие стены своей живой тюрьмы, и ровный стук сердца своей дуры-матери услышал. А на что иное можно было надеяться? Ведь и во время восхитительного сна, только что преогорчительно растаявшего, ему бил в уши все тот же надоедливый ритмичный гул, и когда он снился себе вольным и могучим, черной тенью распростертым над всею вселенной, сознавал, к несчастью, что на самом деле, маленький, скорченный, беззащитный, лежит, словно пленный княжич в заплечном мешке великана-разбойника, в тесном матушкином животе.
Он с упоением и злорадством ощущал, что растет, наливается живительными соками, что руки-ноги с каждым днем становятся сильнее. Что умнеет, умнеет – вот что важнее всего на свете! Еще совсем недавно он чувствовал ту же обиду и ненависть, но только чувствовал и не мог еще облечь ее даже в смутные образы, а не то что в слова-мысли. А вот теперь он и некоторые слова человеческого языка различает. Ему ведомо глупое, низкое имя своей случайной матери, и даже ее ничтожного слуги-приспешника, и хоть не совсем понимает значение того же слова «княжич» (похоже, такой же несчастный и беспомощный младенец высокого происхождения, как и он), но ведь сумел же уже применить это сочетание звуков и положение того младенца в окружающем пространстве к себе! Застряли в памяти «щи», «дрова», «капуста», «кость»… Пусть непонятно, о чем тут речь, пусть, быть может, вещи и явления, стоящие за этими звуками, настолько ничтожны, что ему и знать о них не положено. Однако он не станет забывать и эти слова, расслышанные невнятно через живую стенку материнских мышц, ребер и кожи.
И тут улыбнулся младенец прихотливо изогнутыми своими губами, одного, розового цвета со всем его маленьким тельцем, сжал пальцы правой ручки в кулачок и легонько ткнул им в мягкую стену своей темницы. Это было поощрение! Он додумался поблагодарить тюремщицу-мать за то, что пела ему дурацкие песенки про какого-то «кота», что много раз рассказывала сказку про маленького княжича и великанов-разбойников, что разговаривает с ним, оставшись наедине, хоть и убеждена, безмозглая, будто он ничего не понимает.
– Ишь – нож-кою-то-как-мы-бьемся… Род-ну-леч-ка-мой!
Вообще-то приговор дуре давно вынесен, вот только надо позаботиться, чтобы не слишком страдала, когда придется лишить ее жизни. А ведь придется обязательно. Деяние это во сне подсказывал изумительно красивый черный… «Князь», наверное. В сказке это был так называемый «отец» княжича, тот жил с ним и его матерью вместе, в одном «тереме». Здесь же, в темно-красной пульсирующей действительности, его окружавшей, и за ее неведомыми пределами, не слышно было никакого отца, очевидно, причастного к появлению младенца во чреве матери и к появлению у него осознания самого себя. И теперь, запомнив главное в сказке, он не мог, как ни мучился, припомнить, упоминала ли мать-тюремщица, над ним бестолково тараторя, о каком-либо отце. Но если бы и вспомнил он, едва ли теперь удалось бы установить, о ком именно она говорила.
И ослепительно черный красавец, немыслимо умный и сильный, тот, кто приходит к нему во сне, едва ли есть его отец. Уж слишком красив, слишком умен. И это он милостиво подсказал, что нет иного выхода, как убить мать. Ведь ему, младенцу высокого происхождения, предстоит вырасти и совершить во вселенной великие дела, и у него не может быть такой простой и глупой матери. Так пусть ее и не будет рядом с ним. Это славно, что темноликий красавец словно бы разрешил ему устранить свою мать, но, пожалуй, обошелся бы он и без разрешения – слишком много проступков и прегрешений накопилось за этой дурой.
Да, главная ее вина в том, что посмела, низкая, стать его матерью, однако и других, второстепенных провинностей хватает. Почему заточила его в свою подлую и грязную телесную оболочку? Ему мерещился уже хрустальный кубок с матовыми и прозрачными стенками, чтобы мог он, когда захочет, жадно всматриваться в окружающий загадочный мир – и прятаться, в поисках отдохновения, от любопытных соглядатаев. Где уж там… Внутренности ее издают отвратительные звуки: за его спиной булькает, переливается, вздыхает, журчит – точно так же, как в месте под названием «поварня», куда мать имеет наглость таскать его в себе. Там жарко, словно во владениях ослепительного Темного красавца, там надоедливо стучит, гремит, булькает, там мать и ее приспешник обмениваются визгливыми речами – малопонятными, однако, несомненно, о низких предметах.
И уж точно никогда не простит он матери пережитого довольно давно, когда и глаза у него не открывались, страха и унижения: тогда после размеренных и довольно приятных звуков человеческого голоса и вроде как бы звоночков, друг друга догоняющих, мать принялась хихикать, внутри стало очень жарко, а потом младенца придавило добавочное человеческое существо, при этом, пожалуй, побольше и потяжелее ее. Оно стонало вместе с матерью и настойчиво пробивалось в ее утробу, чтобы выгнать оттуда младенца или размозжить его на месте. Да за один тогдашний ужас она повинна смерти! Он не хотел задумываться над тем, как исполнит свой приговор. Вполне возможно, что, внутри нее оставаясь, он возмужает настолько, что сможет ударом ноги прорвать стену живой темницы и вырваться на волю.
Стук, приближается. Хлопает нечто, «дверью» называемое, потом голос подлого приспешника, глухо так:
– Хо-зяй-ка-там-Най-да-у-ка-лит-ки-раз-ры-ва-ет-ся.
И грудной голос матери:
– Так-пой-ди-по-гля-ди-че-го-стал.
Где-то в месяце априлии года… да, этак после семи тысяч и сотого от сотворения мира. На Свином шляху, не доходя двух верст до городка Кром
– Стой! Кто идет! Ясак говори!
– Я прегрешный Самоха Московский, юродивый Христа ради.
– Кой такой юродивый? Ясак сказывай, мать твою…
– Да взгляни ты на меня только, добрый человек… Какой там с меня ясак?
Стрелец, заступивший Самохе путь, открыл, наконец, заслонку своего фонаря, ранее дававшего о себе знать вонью горелого железа, и на юродивого легла полоса света, в потемках его ослепившая. Самоха невольно приосанился – и тут же выругал себя за этот мирской порыв души, в его положении совсем неуместный. Тем более, приосанивайся не приосанивайся, вид все равно до безобразия жалкий: голова непокрыта, в нечесаных волосах колтун, борода и усы на грязном лице растут, как Бог им расположил, нестиранная рубаха подпоясана веревкой, штанов и следа нет, босые ноги покрыты грязью и в цыпках. Хорош, и плюнуть некуда!
– Котомку сюда, образина!
Снял с плеч Самоха и сам услужливо развязал свою котомку. Стрелец покопался в ней, хмыкнул и, не завязывая, взял под мышку.
– Пошли. Пусть наш десятник с тобой разбирается.
Недалеко пришлось идти. За холмом, в распадке, горел костерок, с дороги совершенно не видный, да и носом своим чутким Самоха его не учуял раньше. Возле костерка на камне сидел второй стрелец, рыжебородый и толстый, а перед огнем спал, кожух подстелив и кулак сунув под щеку, третий. Возле еще одного камня был составлены шалашиком пищали и бердыши.
Сидевший на камне поднял голову и взглянул на подошедших к костру начальственно. Юродивому показалось даже, что он доволен неожиданным развлечением. И доклад стрельца десятник выслушал с явным удовольствием. Обратил к юродивому давно неумытое, блестящее от жира лицо и вопросил:
– Святой человек, а, святой человек! Скажи, кем был ты в миру, пока святости не набрался?
– Был я посадский тяглец, мастерство мое было хлебы печь. Имел на Москве, в Кадашевской слободе, пекарню, дом, семья у меня была, – привычно поведал Самоха. – Заради жизни во Христе все оставил на волю Божью.
– Ага… А теперь, Семен, давай посмотрим, чего у святого человека в сумке.
Когда первый стрелец уразумел, что от него начальству требуется, он просто перевернул котомку над утоптанной землею сразу перед костерком. Они и высыпались – книжка в восьмерку, горшочек, завязанный поверху тряпицей, да почти полный полуштоф.
– Святой, святой – а горелое вино пьешь, – протянул десятник, поднимая с земли бутылку.
– Там святая вода, господин стрелецкий полуголова, – пояснил юродивый.
– А зачем тебе столько святой воды?
– Долго рассказывать, господин.
– Вот посажу тебя для начала голым задом на костер, быстро и коротко все мне расскажешь.
– Так я же не отказываюсь поведать, господин, – спокойно, будто ему не пригрозили только что пыткой, объяснил Самоха. – Я только сказал, что долго придется рассказывать.
– Ладно, потом. А в горшке что у тебя?
– Еда, подаянием собранная. Я все, что мне из съедобного подают Христа ради, в сей сосуд складываю и с собою ношу. Угощаю из него нищих, а не едят – собак бродячих, а ежели и они не едят, тогда уж сам питаю грешное свое тело.
– Да твоя еда так называемая и через тряпку воняет! – возмутился десятник. – Разве можно такое есть?
– Господь терпел, и нам велел. Сказал же Иисус Христос, что не то сквернит человека, что в уста ему входит, а то, что он сам из уст своих испускает.
– Да ты еретик, не признаешь, видать, посты! Где же Господь наш говорит такое?
– В Евангелии говорит это господь, в той самой книге, кою твой клеврет бросил на землю.
Десятник брезгливо, двумя толстыми пальцами ухватив, поднял с земли книжку в черном от грязи переплете. Отстегнул, скривившись, оставшуюся исправной застежку, всмотрелся. Забормотал скорее для себя:
– Давно хотел такую иметь, в походе зело удобна… Печатную бы только, исправленную, а то в рукописных – ересь…
– Бери себе на поучение души твоей, – предложил юродивый, в собственной своей душе подавив греховное сожаление. – Если будет на то Господня воля, для себя я и новое Евангелие перепишу.
– Да взял бы, взял бы, – сварливо ответствовал начальник, – если бы не полпуда грязи на ней! Это как же ты посмел божественную книгу столь бесстыже замарать? И застежка сломана! Застежку зачем сломал?
– Виноват, господин стрелецкий полуголова, – поклонился юродивый. – Понеже и сам живу в грязи, аки свинья, право.
Главные вопросы были впереди, и он мучился, не решив еще, как поступить. Сказать правду означало почти наверняка потерять голову, а мертвым ему никак не выполнить поручение святой покровительницы, ею данное в последнем, судьбоносном видении. Однако же соврать, свою ничтожную жизнь спасая, означало такое прегрешение совершить, которое заведомо не позволит исполнить поручение пресвятой Параскевы. А тогда уж точно антихрист пронесется победно по Русской земле.
И он решился говорить только правду. И только вздохнул, когда услышал, наконец, начальственное:
– Откуда ты идешь? И что потерял здесь, где война?
Перекрестившись, ответил Самоха правдиво, и судьба его повернулась так, как и ему самому нетрудно было предсказать.
Московское войско хлебало сваренную на завтрак кашу, когда Самоху с подбитым глазом и плечами, ноющими после дыбы, привели уже другие стрельцы и другого полка к яме на окраине лагеря. Матерясь, они оттащили в сторону часть бревен, перекрывающих яму сверху, и вонь, уже стоявшая в воздухе, стала почти нестерпимой. Злой стрелец предложил просто спихнуть в яму юродивого, а добрый сбегал за лестницей, сбитой из жердей, и опустил ее в смрадную дыру. Прежде чем толкнуть Самоху к яме, он накинул ему на одно плечо котомку и даже попросил благословения.
Самоха пояснил, что благословлять других не может, понеже сам великий грешник, но не пожалел для благочестивого стрельца слов благодарности, предсказал, будто кто за язык тянул, прибавление в семействе. Не медля, спустился по лестнице, затрещавшей даже под его легким телом. Бестрепетно ступил босыми ногами в смрадную жидкую грязь, устилающую дно ямы. Увернулся от замаранных понизу продольных жердей лестницы, когда поползли они вверх, и, не рассмотрев еще в полутьме соузников, низко им поклонился.
Так, один пленник лежит прямо в грязи, не жилец, наверное. Еще двое прижались к стене, светят, словно бесы темнозрачные, белками глаз. Что ж, юродивый, желал ты в гордыне своей пройти через земной ад, теперь получай желаемое.
Путивль, городское подворье Пустынного Молченского монастыря, 18 апреля 1605 года
– Государь! Государь!
Голос Молчанова, начальника тайной службы «царевича Димитрия», впервые за полгода, наверное, прозвучал радостно, даже ликующе.
Некрасивый юноша, развалившийся в кресле, поставленном на галерее церкви Рождества Богородицы, даже не пошевелился. Однако серые глаза, хоть и остались неподвижными, уже не воспринимали заречных лесных далей, покрытых роскошной весенней листвой. Давненько уже, ох, как давно ждал некрасивый юноша доброй вести, снова подарившей бы ему счастливый поворот судьбы!
Ведь в середине зимы Фортуна отвернулась от него, и казалось – надолго. В решающей битве под никому до того не известными Добрыничами Борискин боярин, князь Василий Иванович Шуйский массой огромного московского войска прогнал и рассеял искусно выстроенные капитаном Гонсевским отряды стрельцов и казаков. Всем на удивление, на сей раз некрасивый юноша храбро бился в первых рядах, и потому едва ушел с поля сражения и только благодаря самоотверженной защите своих драбантов, польской охраны из крылатых гусар, не угодил в плен и сумел укрыться здесь, за стенами Путивля. Неудача не устрашила загадочного юношу, напротив – раззадорила, и войску это было известно, а кто не видел его после страшного поражения веселым и уверенным, тот услышал об этом. С тех пор число сторонников «царевича Димитрия» только преумножилось. Разбежавшееся войско снова собралось в Рыльске и Путивле. Леденящие кровь рассказы о резне, устроенной московскими воеводами по приказу царя Бориса Годунова в Комарницкой волости, первой признавшей «царевича», ожесточали его приверженцев и приводили в стан мятежников новых бойцов. А вот у московского войска не было за что или за кого воевать усердно и с упорством, ведь царя Бориску никогда в Московской Руси не любили, только терпели.
С тех пор война шла ни шатко ни валко: московские полки осаждали Кромы и Рыльск, оказавшиеся у царевых воевод в тылу, а продвигаться на юг, к Путивлю и Чернигову, бояре Борискины, сменявшие друг друга на высших военных постах, не спешили. Тем временем, огромное правительственное войско, начавшее уже голодать и терять от зимней бескормицы коней, постепенно таяло: стрельцы и казаки расходились по домам. Главный воевода князь Мстиславский вынужден был снять осаду Рыльска, за что получил, как сообщали перебежчики, резкий выговор от царя Бориски. Однако московское войско продолжало разбегаться, и Мстиславскому пришлось бросить все свои силы на осаду Кром.
Воспользовавшись этим, умный юноша всячески, казаками-добровольцами, пороховым зельем и свинцом, помогал стойким защитникам маленькой крепости Кромы, уже обеспечившим себе вечную славу у потомков, а сам с помощью воспрянувшего духом Гонсевского собирал войска в Путивле, готовя ударный кулак, чтобы освободить Кромы от осады и тогда уже, обойдя неповоротливое московское войско и отрезав его от Москвы, двинуться прямо на царствующий град.
Топот сапог Мишки Молчанова прекратился. Поднялся уже, значит. Ждет, когда государь на него внимание обратит. Что ж, некрасивый юноша явил ему свой государский лик – и обнаружил, что начальник тайно службы прямо-таки сияет и лучится счастьем. Что ж там такого доброго стряслось?
– Государь, прискакал московский перебежчик из-под Кром, сын боярский арзамасец Абрам Бахметев. Загнал коня, сам ранен, по лестнице к тебе не поднялся бы, но я выспросил, государь…
– Неужто, Михалка, князь Мстиславский снял осаду Кром? Озолочу атамана Корелу!
– Бери выше, государь, бери выше! Бориска помер, вот радость-то! Только что войско под Кромами присягнуло новому царю, Феодору Борисовичу.
Некрасивый юноша скрестил руки на груди и снова замер в кресле неподвижно. Не по-мужски гладкое, бритвы не знавшее лицо его вытянулось. Спросил скорее даже торжественно:
– А как помер царь Борис Феодорович?
– Да не спрашивал я, государь, – смутился Молчанов.
– А ты спроси.
Снова топот сапог. Некрасивый юноша неторопливо поднялся с кресла и прошелся вдоль перил галереи. Лицо его осветилось изнутри напряженной работой мысли, только думал он отнюдь не о призрении сирот и об утешении вдовиц милостынею.
И опять топочут сапоги, но уже с заминкою. Высок ростом, ладен и крепок Мишка Молчанов, однако после таких пробежек и он запыхался.
– Говорит… Странно как-то помер царь… Ел-пил в свою меру, а как поднялся на вышку свою, Москву сверху обсматривать… Стало худо, постригли его и в схиму, да… уже без сознания был.
– Отравлен – как мыслишь?
– Да некому вроде бы травить, государь, – развел руками Молчанов. – А если и объявится такой герой, когда мы уже в Москве засядем – так нахрен он тогда нам будет нужен?
– Ты вот что, Михалка, – насупился некрасивый юноша, – распускай по дороге слух, что царик Бориска отравился, ибо не вынесла совесть его многих преступлений, а паче того неправедного захвата царской власти. Запомнил? Или повторить? Худо, что щенка Борискина успели царем объявить и будут венчать на царство, уж лучше бы патриарх Иов, этот козел долгобородый, управлял до венчания, или хотя бы семибоярщина… Да, ладно, сыграем теми картами, что нам сдали.
– Ты сказал, государь, что «по дороге»…
– Разве не приказал я уже? Да, тебе выпала далекая дорога. А кстати, ты забыл сказать, кто именно приводил войско, что под Кромами, к присяге?
– Если гонец не перепутал, то митрополит какой-то, вроде нижегородский, да бояре-воеводы князь Катырев-Ростовский и наш «лучший друг» боярин Петр Басманов.
– Петруха Басманов вернулся к войску? Вот это новость… Знаешь, я тотчас же напишу ему грамоту, а твой человек пусть отвезет. Пообещаю хоть полцарства, если приведет мне московское войско, вот что я сделаю!
– Позволь тебе напомнить, государь, – кашлянул Молчанов, – что первого твоего гонца этот богатырь повесил.
– А второго не повесил, придержал живым – и это при старом псе в короне посмел сотворить, а теперь, ты думаешь, он коронованного щенка побоится?
– Государь, у нас сказали бы: «венчанного», – теперь Молчанов потупился. – Ты сказал вроде как по-польски. А мне куда прикажешь поехать?
– В Москву, куда же кроме, – поднял на него глаза некрасивый юноша. – Тебе я даю поручение еще более опасное, чем гонцом к Басманову. Ибо в Москве два дела будет у тебя: как только ты узнаешь, что я вместе с Басмановым иду на Москву или даже, что я иду к Москве, а Басманов или иной какой воевода меня преследует со всем московским войском… Запомнил? Тогда царица Марья и царь так называемый Феодор должны покинуть наш грешный мир. Вот мое первое тебе поручение.
Молчанов побледнел. Некрасивый юноша усмехнулся и продолжил:
– Что такое, Михалка? Да ты же сам мне это предлагал. Забыл разве? От щенка Борискиного нам с тобою непременно следует избавиться, а царица Мария Григорьевна, как никак дочь Малюты Скуратова, после смерти сына может быть объявлена правительницей – у нас такого отродясь не бывало, зато в Английском королевстве тому примеры есть. Объявишь, что сами отравились – из страха перед природным царем, то есть меня устрашились. Еще Ксения-царевна… Вот она не опасна, спрячь ее в каком-нибудь монастыре. Говорят, что Ксения – красавица… Глядишь, и женюсь еще на ней, если задавака-полячка мне надоест! Второе дело. Ты ведь уверял меня, что тайными делами при Бориске (как приятно добавить – «дохлом» Бориске!) ведал его родич боярин Семен Никитич Годунов?
Молчанов молча кивнул.
– Его надобно схватить одновременно с Годуновыми и укрыть в тайное место… А потом я решу, как с ним поступить. Что закручинился, Михалка-друг?
– Есть отчего… Трудны задания твои, государь.
Некрасивый юноша отцепился от перил, подошел к Молчанову и обнял его.
– Но этого не сделает никто, кроме тебя. Убить легко будет, вот увидишь. Труднее в Москву проникнуть и на месте все обделать, подготовить. А я помогу, сделаю, что в моих силах… Увозишь хоть и половину моей казны, подкупаешь всех, кого надо, в охране Годуновых, а главное, нанимаешь ведомых московских разбойников (сам руки не пачкай!), этим платишь щедро, а того больше обещаешь. Если же поймает тебя боярин Семен Годунов, смело заявляй ему, что тайное поручение покойного царя Бориса выполнил…
– Ты о чем это, государь?
– Забыл уже, для чего приехал в Самбор? Говори, что наконец-то исхитрился и сумел отравить меня медленным ядом и что прискакал доложить об этом лично царю Борису, да вот не успел… А я тебя выкуплю или выменяю, как буду под Москвой стоять. Согласен?
– А куда ж мне деться, всемилостивейший государь! А за выдумку с медленным ядом – век за тебя буду Бога молить!
Краков, столица Речи Посполитой. 2 мая 1605 года
Отец Клавдий Рангони, нунций апостольского престола в Речи Посполитой, повторно перечитал письмо кардинала Боргезе – и не обнаружил в нем и тени сочувствия, не говоря уже об элементарном понимании трудностей, связывающих руки ему, послу далеко не могущественного сейчас Ватикана в огромной и полудикой славянской стране. Легко им оттуда брезговать стоившей таких трудов унией и настаивать на прямом окатоличивании миллионов русинских схизматиков! А теперь опять требуют напомнить этому выскочке-«царевичу» его обещание привести в католическую веру подданных Московии!
Напомнить, конечно же, не грех. Вот только как это сделать? Внедренный в личную охрану «царевича Димитрия» иезуит в миру, шляхтич Адам…, а фамилию не сразу и вспомнишь… Сорочинский, вот! Сгинул, ни слуху от него, ни духу… Отправил иезуита, некоего Игнация, с посланием «царевичу», так о том монахе вообще удивительная весть достигла ушей нунция – и Бог весть какими окольными путями! Будто сумел тот монах разыскать «царевича» прямо в поле, во главе войска на марше, и вручил ему послание. Да только будто бы тут же догнал его кот верхом на лошади, вырвал у иезуита горло и ускакал. Сказки темных людей! Однако, так или иначе, а сгинул иезуит Игнаций и ответного послания от «царевича» не привез.
Патер Рангони задумался, выпятив нижнюю губу. Потом вызвал настольным звонком слугу. Велел Джузеппе прихватить с собою фонарь, сам же с трудом выбрался из кресла. Снял с золоченой вешалки орденскую шляпу с широкими полями и приплюснутой тульей. Далеко ему идти не придется, секретная тюрьма спрятана в том же здании, что и его резиденция. Хорошо еще, что покои нунция выходят на улицу, а вентиляционные отверстия подвала-тюрьмы – во двор.
Явно погрузневший за последние годы, патер Рангони успел запыхаться, пока спускался дубовой, с точеными балясинами лестницей на первый этаж, потом мраморными ступенями крыльца, семенил улицей вдоль стены здания, а потом двором, покрытым свежей зеленой травой. Ожидая у двери в подвал, когда Джузеппе приведет стражника, он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы подольше попользоваться сладким свежим воздухом. В предвечернем городском шуме прорезывались звуки лютни, а в ушах нунция звучали малопонятные ему обрывки разговоров принаряженных краковских ремесленников, под ручку с женами направляющихся на вечернюю праздничную службу… Что ж, служение Господу требует иногда от тебя и лишений. Уж и за то надо быть благодарным Провидению, что тебе служить назначено не в пустыне Аравийской.
Вот хорошо смазанная железная дверь распахнулась, не заскрипев. Стражник в круглом шлеме и кожаном колете поцеловал руку у патера (перегаром пахнуло, но разве мужика в том упрекнешь?), потом, по-пьяному суетясь, помог слуге зажечь фонарь от своей свечи. Они начали спуск в подвал ступеньками, и на сей раз показавшимися нунцию скользкими от крови.
– Спроси его, сколько сейчас народу в общей камере? – осведомился патер Рангони на латыни.
– Шестеро, – перевел верный Джузеппе польский ответ стражника, прозвучавший как сплошное шипение какое-то. Ну что за язык!
– И все принадлежат к одной семье? – удивился нунций.
– Да. Но не только… Это еще и одна компания… Одна, как бы это сказать… Comitas… дружина.
– Понял. Я задохнулся бы от миазмов в общей камере. Скажи, пусть приведет в камеру для допросов одного предводителя.
Нунций уселся на скамью и успел отдышаться к тому моменту, как стражник привел еретика, поклонился, вышел и запер за собою двери камеры.
Еретик, обросший каштановым волосом и немытый мужчина под сорок, пригожий и статный, этого у него не отнимешь, сощурился на тусклый фонарь, как будто было это полуденное солнце.
– Это ты Збышек из Лемберга 2, мещанин? – спросил патер Рангони, с трудом произнося польские слова.
– Я, святой отец, – поклонился подследственный.
– Почему ты не поздоровался? – спросил патер Рангони по-латыни.
– Предшествующий отец инквизитор научил меня только отвечать на вопросы. А что, этот допрос не будет записываться?
– Нет. Имеющиеся протоколы я прочитал. Ну как, теперь ты уже не отрицаешь существования святой инквизиции в Польше?
– Куда деться, святой отец? Видно, его королевское величество подписал указ, а нас, своих подданных, забыл оповестить.
– Что ж, эта позиция уже более разумна, – усмехнулся одними губами нунций. И заговорил скучным голосом. – А вообще же каждый христианин должен только радоваться, когда в его стране водворяется святая инквизиция. Разве не в одной только вере человек может обрести спасение? И разве долг служителя церкви не состоит в неуклонном обращении неверующих на путь истинный? Те, кто упорно отказываются принять учение церкви в его целом или частях, создают соблазн для других и угрожают их спасению. И неужели ты думаешь, что церковь может оставить таких людей в покое, чтобы они, как гангренозный член человека, заражали и обрекали на гибель все христианское человечество?
– Как не согласиться с этим, святой отец? Но вот в чем проблема… Лично я как раз не еретик, и члены моей семьи тоже.
– Ладно, об этом позже. Ты, значит, имеешь степень бакалавра.
– Ну да, нашего Краковского университета. Это же было в протоколе.
– Разные бывают бакалавры, тем более выпущенные из провинциальных университетов… Лицо у тебя смышленое, латынь твоя вполне прилична. Отчего же ты занялся позорным ремеслом?
– Да, я знаю, что в немецких землях нет более бесправных людей, чем актеры. Но вот в Британии, мне рассказывали, актеры и драматурги объявлены королевскими слугами, а в больших городах построены огромные театры, как это было в древнем Риме, и они процветают.
– Грустно мне, что ты завидуешь происходящему в стране, покоренной богопротивной англиканской церковью, – тонко улыбнулся нунций. – Мы же с тобою не в нечестивом Лондоне.
– Хорошо, но ведь народ переполняет театры и в католической Испании, где знаменитый…
– Бог с тобою! Я пришел сюда не для того, чтобы препираться с вонючим еретиком. Отвечай на вопрос, почему подался в комедианты.
– Проповедников в Польше много, еще больше бродячих клириков. А я признанный мастер среди рыбалтов, нет лучшего, чем я, комедианта во всей Короне, святой отец.
– Понятно, в комедианты подался из нечистой гордыни. Что ж, теперь оправдывайся в своей ереси.
– Как это, святой отец?
– Ты же сказал уже, что не еретик. Теперь докажи подробнее.
Узник зазвенел цепью, и на стене из дикого камня шевельнулась его густая тень .
– Я был обвинен в том, что написал и несколько раз поставил «Трагедию русинскую», при этом для поляков мы всем моим семейством (я, жена моя Ягна, трое сыновей и дочь) играли ее на польском языке, а для русинов – на их, русинском.
– Откуда знаешь русинский язык? – встрепенулся нунций.
– Мать моя была русинка, вечная ей память, а вот отец мой – поляк, верный католик.
– Что же еретическое узрел в твоей комедии отец квалификатор святой инквизиции 3?
– Я… я не понимаю, о ком ты говоришь, святой отец.
– Да, верно, – скривился патер Рангони, вспомнивший, что по правилам святой инквизиции квалификатор работает только с письменными доносами и показаниями обвиняемого. – Я имел в виду отца инквизитора, который тебя допрашивал.
– А… В моей комедии высмеивается православный поп, от которого сбегает жена, их языком попадья, потому что он не дает ей покоя, все время делает детей. Это смешная история, и она не может произойти с католическим священником, святой отец…
– …если католический патер не вступит в предосудительные отношения со своей домоправительницей. Расскажи эту историю кратко.
– Уж лучше я продекламирую пролог к комедии, где ее фабула изложена стихами.
И комедиант Збышек расставил ноги, подбоченился, потом протянул в сторону патера Рангони правую руку и принялся не то выпевать, не то выкрикивать на польском всякую чушь. Патер Рангони понял немногое: комедиант выдавал себя за русинского попа, который то ли подрался со своей женой, то ли побил ее, а она сбежала в лес. Дело улаживают какой-то «король Сандро» и вовсе уж непонятный «владыка».
Когда по требованию нунция комедиант, запинаясь, перевел «Пролог» латинской прозой, слушатель, оттопырив толстую нижнюю губу, спросил:
– А что это вдруг за король Сандро?
– Да Александр Македонский – кто же иной, как ни этот герой всех времен и народов? – слабо улыбнулся драматург. – Мне бы попить…
– Не нужно никакого Сандро, поверь мне. Пусть вместо него будет царь Димитрий – и сам увидищь, бакалавр, народ к тебе толпою повалит.
– Благодарю коленопреклоненно за бесценную помощь, господин святой отец.
– И еще – кто таков «владыка»?
– «Владыка» – по-русински так обращаются к епископу. Это самозваный епископ у схизматиков, ведь он сидит в Макарове, маленьком местечке под Киевом… Прикажите дать мне вина, святой отец. Или хотя бы глоток воды. После декламации совсем горло пересохло.
– Обойдешься, – бросил нунций и, коротко усмехнувшись, добавил. – Далеко тебе до славного Лопе де Вега… Так в чем же твоя ересь, сын мой?
– Говорил отец инквизитор, что нельзя смеяться над священником. Я на то отвечаю, что священник православный, схизматик, и что он попадает в смешное положение именно потому, что не придерживается целибата. На то мне отец инквизитор: теперь в Речи Посполитой принята уния, и никаких православных священников нет. Значит, в комедии высмеивается греко-католический священник, а это ересь. Я же на это почтительно заметил, что в комедии нет ничего, что указывало бы на греко-католическое вероисповедание священника, а высмеивается грязный и любострастный православный поп, каковыми на самом деле в Короне хоть пруд пруди. Однако отец инквизитор не прислушался к моим аргументам, и мы остались в…