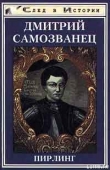Текст книги "Самозванец и гибельный младенец"
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
САМОЗВАНЕЦ И ГИБЕЛЬНЫЙ МЛАДЕНЕЦ
Второй роман трилогии о Смутном времени
Пролог
Проселок, проходящий Черным лесом к Бакаеву шляху, невдалеке от русского города Путивля. Тринадцатое лето с рождения Бессонка, а с Рождества Иисуса Христа 1605-е. Весна
Быстро и сторожко шагал Бессонко заросшим густою травой проселком. Берегся же он, потому что вел проселок из родного ему Черного леса через пройденное уже отечественное пепелище к людям, а людей, как не уставали предупреждать паренька названный отец его Леший и подруга настоящего покойного отца, русалка тетя Зеленка, следовало опасаться куда больше, чем, скажем, незнакомых медведей или волков.
Замер вдруг Бессонко – в нос ударила ему резкая, отвратительная вонь. Он потянул носом, и хоть оба запаха, смрад составлявшие совокупно, ему ранее не встречались, догадался, что один принадлежит падали, а второй – людям– мертвецам. Запахи струились волнами из-за поворота дороги. Бессонко высунул из-за куста голову, потом, крадучись, вышел на небольшую поляну. Тут и увидел он удивительное украшение, человеческими руками сотворенное для могучего красавца дуба. На двух мощных ветвях висела череда человеческих скелетов, покрытых серыми обрывками рубах и клочьями не содранного еще стервятниками гнилого мяса, а под ними валялся почти полностью обглоданный остов большого, с оленя, животного.
Приблизился Бессонко – и с трупов нехотя, каркая, слетело несколько воронов, а один, самый большой, остался на черепе крайнего слева скелета и только распустил свои черно-синие, с зеленоватым отливом, крылья, словно прикрывал от человека свою добычу. Болтовня молодых воронов не была подростку любопытна, а матерый спросил: «Забр-р-рать нор-р-ровишь?». «Да завтр-р-акайте, – прокаркал в ответ паренек, – не тр-р-рону». «Хр-р-рен тут позавтр-р-ракаешь, – пожаловался ворон. – Р-р-разве вот р-р-ребяток пор-р-развлечь».
Старый ворон сложил свои крылья, а Бессонко, жесточайшее желание испытывая заткнуть ноздри, присмотрелся. Останки животного под дубом сохранили темно-коричневый хвост метелкой и такие же длинные волосы на вытянутом черепе. Следственно, не корова то была, а лошадь – едва ли не первая лошадь, увиденная юным лесным жителем. Ну, и Велес с нею. Что ж до человеческих скелетов, то Бессонко сразу догадался, кому они принадлежат. Кому же еще, как не иноземцам, спалившим родной хутор паренька и замучившим его родичей? Плюнул он, целясь в ближайший череп, и с омерзением принялся рассматривать трупы преступников, справедливо не удостоенных принятого у людей погребения. Первым делом пересчитал. Девять оказалось скелетов, и все они висели на гибких длинных корнях, однако рядом колебалась на ветру еще и десятая петля, пустая. Один мертвец, стало быть, некогда сбежал. Бессонко оглянулся в тревоге, но тут же вспомнил, что ему рассказывал названый отец: шустрый тот иноземец обратился в упыря, принялся высасывать кровь из своих же товарищей, и его в ночь перед последней битвой сумели обезвредить и сжечь мстители – оживший мертвец дедушка Серьга и отец Бессона, Сопун.
Приметил Бессонко, что все супостаты были повешены уже мертвыми – и большинство, когда война уже закончилась. Он хорошо помнил, как Лесной хозяин отправил Медведя, чтобы навел, наконец, порядок в лесу. Вот тогда старательный зверь и стащил к дубу, на котором уже висели несколько супостатов, всех остальных, тогда и украсил дерево жутким ожерельем. Даже дохлую лошадь притащил; хорошо, ее хоть не повесил. Но если подумать, то в чем виновата лошадь?
«Безобр-р-разие! – каркнул тут старый ворон. – Ни р-р-рук, ни ног!». И перелетел на действительно самый неприглядный труп, настоящий обрубок. Остатки светло-русой шевелюры на черепе, кости ног криво отрублены прямо у таза, рук тоже нет, только клочки рубахи на плечах черны от запекшейся и высохшей крови. Больше других достал белокурый молодчик мстителей – или в злую минуту под руку попался? Двое иноземцев был подвешены за ноги: у одного от головы мало что осталось, у другого – вырвана половина шеи. Преодолевая отвращение, всех тщательно осмотрел Бессонко, и смекнул он, что вовсе не случайно довелось ему перед тем, как увидеть живых людей, встретиться с мертвыми в самом позорном и отвратительном виде: великие боги решили напомнить, что он, в отличие от приемных лесных родителей, смертен, как и все люди.
Вздохнул Бессонко и сказал старому ворону: «Пр-р-рощай, тр-р-рупоед». Тот взмахнул крыльями и каркнул: «Бер-р-регись, чтоб не вздер-р-рнули!». На том и разошлись.
Повернув, как было сказано ему, налево, задумался Бессонко – и не заметил, как оказался на выгоревшей в прошлом году пустоши, а отсюда до Бакаева шляха два шага. На самом же деле, отшагать пришлось куда побольше, и сначала разведал он, нет ли на шляху подорожных, тогда только вышел на знаменитый Бакаев шлях. Оказалась большая дорога широкой, а утоптанной плотно, совсем как узкая звериная тропка к водопою. Виднелись на ней многие выдавленные полосы – наверняка, следы от колес. Не довелось еще Бессонке увидеть ни колесо, ни повозку, и вообще о многом в мире людей знал он пока только понаслышке.
А вот над лесом показался и шест с охапкой сена на верхушке. Стало быть, Анфискина корчма уже рядом. Однако тетя Зеленка строго настрого приказала сначала удостовериться, что в корчме не хозяйничают разбойники или ляхи-жолнеры. Для этого надо залезть на курган, стоящий слева от Бакаева шляха и наискосок от корчмы, и все на корчемном дворе хорошенько высмотреть. «И еще, – сказала русалка, хлюпнув бледно-зеленым носиком, – найдешь там каменную бабу, с вершины кургана сброшенную. Окажи ей почтение, не забудь». И с чего бы это у тети Зеленки глаза оказались тогда на мокром месте?
Вот и курган. Мигом взлетел бы Бессонко на его макушку, если бы не разглядел в густой траве сброшенное с вершины какими-то нечестивцами каменное изваяние мужика с чашею в руке и при сабле у пояса. Тогда встал он рядом с идолом на колени и на всякий случай помолился Велесу. Потом вскарабкался на вершину, взглянул, наконец, с высоты на корчму – и разинул в изумлении рот.
В жизни не видал Бессонко таких огромных и роскошных палат, сотворенных человеческими руками – да и где мог бы увидеть? Родился он на лесном Серьгином хуторе, и почти тотчас же Лесной хозяин подменил его своим младенцем, а Бессонка забрал себе. Лето проводил он в лесу, зиму – в теплой берлоге лешего и считал себя его сыном, пока в прошлом году лютые иноземцы не уничтожили Серьгин хутор, не убили настоящую мать его Марфу, а там и мститель погиб – отец Бессонка охотник и колдун Сопун. Тогда Лесной хозяин и открыл Бессонку, кто были его настоящие родители, и пообещал отпустить к людям через полгода, тем несказанно огорчив подростка. В утешение пообещал научить некоторым хитростям, людям неизвестным 1.
В усадьбе Анфиски-корчмарки поразила подростка прежде всего сама придумка выгородить частоколом в лесу свое, человеческое пространство для жилья. Любопытно, спрашивали ли строители разрешения у Лесного хозяина и заплатили ли ему отступное? Удивительна была и огромная изба на два жилья, нижнее и верхнее. Не боятся ли живущие в верхней избе упасть на землю? И как они туда попадают, если вход есть только у нижней избы?
Возле этой огромной избы закопан в землю давешний высокий шест с пучком сена на конце. Бессонко знал, что это знак для проезжающих Бакаевым шляхом: тут кормят, поят и спать укладывают за деньги, мелкие кругляши, иногда блестящие. В предназначении разбросанных за огромной избою построек поменьше следовало разобраться впоследствии. Вон колодец с журавлем, такой же на Серьгином хуторе стал братской могилой для всех родичей Бессонка. Из окошка одного из бревенчатых домиков тянется дым – значит, это, судя по рассказам Зеленки-русалки, поварня, а вот длинное строение с двумя телегами перед нею – конюшня, небось. Бессонко принялся было во все глаза рассматривать замечательные устройства, придуманные людьми для того, чтобы возить на смирных лошадях грузы и ездить самим, однако понял, что просто тянет время. Ведь опасных людей на хуторе не обнаружилось.
Пора ему идти к тете Анфиске-корчмарке и проситься у нее пожить. Бессонко вздохнул, встал с камешка и отряхнул зеленый, из крапивы вытканный кафтан, с запахнутой, как у леших водится, левою полой на правую. Скатился с кургана, прошел, ног под собою не чуя, укатанными колеями большой дороги. Вот и забор, а вон в нем ворота для лошадей, а рядом и калитка для людей. Все, как рассказывала тетя Зеленка. Тут же о жерди калитки со стороны двора ударилось крепко сбитое звериное тело, звякнуло железо, рычание сменилось злобным лаем.
А вот о цепном псе тетя Зеленка не предупреждала. Что ж, невелика беда.
Поздняя осень полугодом ранее. В Черном лесу, у старого дуба, под ветвью с висельниками
Каша, беглый надворный казак князя Острожского, стал упырем. Что он последним остался в живых, никак нельзя сказать: не живой он был, конечно, однако землю, в отличие от своих товарищей, топтал по-прежнему.
Тогда, прошлой осенью, долгую череду голодных дней и ночей тому назад, Каша стоял в ночном дозоре у корчмы. Когда внезапно явился перед ним Федко, не успел он почуять опасность и только в последнее мгновение увидел, как у красномордого живого мертвеца, напялившего на себя кафтан и кунтуш Федка, и с его самопалом, вдруг выросли огромные клыки. Обматерил Каша мнимого Федка и полез было за пазуху за давно припасенным осиновым колышком, однако оплошал, опоздал бесповоротно… Челюсти упыря сомкнулись на его горле, невыносимая, острая боль оглушила и непонятно каким образом тут же растаяла, а ночь вдруг рассеклась оранжевыми кругами. Круги эти то сходились, то расходились, они сужались, расширялись, иногда пересекались. Потом растворились во тьме. «Вот и все, надо бы попросить Бога простить мои грехи», – пронеслось у него в голове, однако даже и такой простой мысли не успел он до конца додумать…
Очнулся казак Каша уже днем, в лесу. Что светит солнце и что вокруг лес, он увидел странно – будто через овальную прорезь в маске, темновато как-то, причем это поле зрения все время пронизывали красные росчерки, напомнившие следы далеких молний на грозовом небе. Однако, если хоть этак, но все-таки видел, а там и пение птиц расслышал, значит, жив он! Жив! Вот только на поляну и ближайшие дубы смотрел с высоты, как доводилось в детстве, когда разорял с товарищами птичьи гнезда. Казака Кашу горестно изумило, однако, что тело его свисало вниз, шею стягивало будто обручем, а голову – его собственной тяжестью, как почти сразу же сообразил, – тянуло кверху, едва ли не отрывая. На шее еще ныли ранки, оставленные, как это с ужасом припомнил Каша, клыками упыря.
Казак повел глазами влево, вправо – и разглядел только неясные тени, справа более громоздкую. Почти сразу же смекнул, в каком находится окружении, но тут же испугался этой догадки. Природная сообразительность вернулась к Каше, и он понял, что бессмысленно было бы раскачиваться, надеясь узнать, рядом с кем именно он висит. А если, допустим, между Хомяком и Тычкой, что из того? И если дергаться заради пустого любопытства, есть риск, что петля на шее затянется сильнее. Рисковать этим стоит только для того, чтобы попробовать освободиться. Он сначала обдумал, что для этого следует сделать, а потом вдруг решился – и выбросил правую руку вверх, ухватился за гибкий корень ивы, на котором висел, и подтянулся на нем. Потом левой рукой принялся судорожно ослаблять петлю, и ему удалось это, а там и высунуть голову из петли только тогда, когда правая рука его, несмотря на всю обретенную им теперь нечеловеческую силу, уже занемела и вот-вот могла самопроизвольно разжаться.
Мешком свалился Каша на жухлые остатки осенней травы, однако ничего себе не поломал, вот только голова скверно держалась на шее и упорно склонялась к плечу. Едва ли, впрочем, повредил он себе шею именно сейчас. Какое еще утреннее пение птиц ему, недотепе, послышалось? Это вороны каркали! Один из них слетел с дуба и, опустившись в половине сажени от Каши, уставился на него, серую голову склонив к плечу, будто передразнивал. Каша хотел было шугануть нахала, однако обнаружил, что утратил и тот тонкий свой, не мужской вроде голосок, которого втайне стыдился. Он уселся, посипел-посипел, да и отогнал ворона рукою. Потом собрался с духом и посмотрел, наконец, вверх, та ту ветвь дуба, на которой помнились ему повешенными Хомяк и Тычка. Увы! Не только они, но весь их отряд висел теперь там, и длиннотелый пан ротмистр тоже, странно и жалостно смотревшийся в виде полуобглоданного скелета, в одной рваной сорочке и без своего палаша.
Каша снова присмотрелся к останкам пана ротмистра – и отвел глаза. Уважал он старого гусара, вот что, и неизвестно почему ожидал такого же уважения и от супостатов. Жуткая это месть – оставить врага без человеческого погребения. Он глянул осторожно себе на руку: нет, плоть была цела на ней, хоть и непривычная, не его вроде – красно-синяя, тугая. Прислушался ко всему телу: не болят ли раны, оставленные клювами мерзких воронов? Покалывание ощущалось здесь и там, это да, пронизывающий холодный ветер донимал, но тело его осталось целым и даже, как оно ни нелепо звучит, вроде бы здоровым. Почему же он, Каша, а почти забытым христианским именем – Семен, в отличие от товарищей, ожил, обретя как будто и новое тело?
Не в силах больше сидеть на ледяной земле, Каша подхватился на ноги и взглядом нащупал среди висельников Федка. Ведь если подобравшийся к нему, Каше, упырь напялил на себя кафтан Федка и его шапку, следовало признать, что прежде он высосал из парня кровь. Однако же вот он, Федко, висит, пялится кровавыми впадинами пустых глазниц, светит сквозь прорехи рубахи розовыми ребрами, скалит белые по молодости зубы, потому как губы у него выклеваны! Стало быть, в упыря самборский мещанин не превратился. Почему же тогда это случилось с ним самим? Черт знает, почему! И не следует ли теперь…
– Да, я знаю! – пронеслось вдруг лесом.
Каша подпрыгнул на обеих ногах срезу и завертел головой. Оказалось, что со сломанной шеей это опасное занятие. Он отвлекся на крайне неприятные ощущения в затылке, вынужден был удерживать голову на месте руками и как-то вскользь отметил, что по поляне пронесся порыв ледяного ветра. Затем слева зашумели остатки листвы, а вороны, напротив, умолкли. Еще мгновение – и на краю поляны нарисовался, будто спрыгнул с крайнего дуба, одетый во все черное иноземец. Его черные, без белков, и выпуклые, как у летучей мыши, глазки скользнули по казаку, он кивнул в подтверждение какой-то своей мысли, подошел, заметно прихрамывая, к остолбеневшему Каше, встал рядом с ним фертом, руки в боки, а вот глаза не в потолоки, а на ветвь, отягченную висельниками. Иноземец так задрал голову, что Каша удивился, почему это с нее не свалился щегольской бархатный берет со страусовым пером.
– Красиво висят, не правда ли? – спросил черт (а кто же еще?), небрежно спросил, на Кашу и не глядя. – Вот только девятеро их, повешенных, ненавижу это число. Что тут можно сделать? Можно оживить еще одного и позволить ему спрыгнуть с дуба. Осталось бы восемь повешенных, хорошее число. Обожаю его! После глупой гармонии семерки оно возвращает хаос, разливает мутную водичку, а в ней души хоть сетью лови. Вот рожает, например, молодка семерых одного за другим, и все дети как дети, а восьмой – урод или безумец. Умора! Однако не люблю я лишний раз встревать в человеческую судьбу, вроде как в твою сейчас. Не по душе мне, знаешь ли, любители умертвить сиротку, чтобы побыстрее оказалась в некоем Царствии Небесном. Я же вмешиваюсь только в крайнем случае! Только в случае крайней моей сатанинской необходимости! Ибо мне это претит с философской точки зрения, и даже, хоть ты меня, Каша, все едино сейчас не поймешь, с практически-мифологической.
Каша замычал отчаянно. Хотел было покачать головой, однако испугался, что только больше повредит шею, и в результате придал своему телу нелепое колебание, вполне возможно, что и непристойное. Черный щеголь небрежно отмахнулся от него.
– Ведь как на самом деле определяется человеческая судьба? А выходит старинная моя приятельница, Фортуна из своего храма во двор. Выносит под мышкой мяч. Ты, небось, видел на гравюрах, будто она, престарелая наша красотка, стоит на шаре или шар имеет возле себя? Ошибаются художнички! Это не шар у нее, а мяч – из крепкой бычьей кожи сшитый, тряпками набитый до отказа. Спускается Фортуна с золотого своего крыльца, ставит мяч перед собою на землю и повязывает себе на глаза повязку из златотканой парчи. А потом заносит назад свою стройную, хоть и несколько уже сухопарую ножку, обутую для этого случая в добротный козловый башмачок из Трира на Мозеле – и р-р-раз по мячу! А мяч и взлетает над двором. Когда в бассейн у фонтана с чистейшей водой попадет, а когда в выгребную яму, когда средь ветвей яблони застрянет, а когда и в загородке для свиней у милых нерях под ногами окажется. Запросто может выкатиться мяч за пределы усадьбы Фортуны, в благоухающий весенний сад, и с той же легкостью – плюхнуться в бочку проезжающего мимо золотаря. Понятно ли сие тебе, Каша?
– Зе-зе-зе, – просипел бывший надворный казак.
– Не хочется мне убавлять число мертвецов и вот по какой причине. В их, костлявых красавцев, игры вообще не стоит ввязываться. И не вздумай никогда, Каша, становиться на дороге Дикой охоты, когда мчится она звериной тропою в глухую полночь! Я понимаю, что ты, как знаток всей и всяческой нечисти, обожаешь ночные танцы мертвецов, что не боишься и сам, выделывая затейливые коленца, входить в их веселый круг. Однако берегись, одурманенный ритмом и похотью, выдергивать свою прелестную даму, костями позванивающую и челюстями постукивающую, из хоровода! Мало того, что рискуешь оторвать изящную ручку, сожрут ведь тебя костяные ревнивцы. Итак, убавлять число повешенных опасно, но ничто не помешает нам их увеличить. Ты следишь ли за моей мыслью? Проще всего было бы вернуть тебя в петлю. Тогда имели бы мы снова десять висельников. Число уж слишком ученое, ты не находишь? А по мне, так и несет от него арабской математикой. Почему ты позволяешь себе не отвечать на мои вопросы? Уже один возраст мой должен был у тебя вызвать абсолютное уважение! Поберегись, невежа!
Каша засипел, себе на горло показывая.
– Напомни мне, Каша, мы твоему горю (то бишь горлу) потом поможем. Итак, если с тобой, будет десять. За компанию монашка-иезуита можно повесить, только труп придется выкопать. Не беда! Есть у меня в Путивле два подружки, ражие такие ведьмы, для меня на все готовы! Девочки мигом слетают на метлах к Севску, выкопают говоруна из ямы на обочине, да и сюда доставят. Одиннадцать тогда будет. Как тебе число одиннадцать, Каша? Вот и мне не по сердцу: ни богу свечка, ни мне, черту, кочерга. Остается еще Хомяк, упырь, что здесь, на моих землях, крепко накуролесил. Доигрался, что осиновый кол в сердце заработал, а там и голову ему от тела отделили мужики, да и сожгли в разных местах. Собрать еще можно тот пепел, пока дожди не разнесли окончательно, в мешочек, да и повесить рядом с товарищами. Ты скажешь, что пепел упыря там смешался с древесным, даже и с землей?
Казак засипел и головой замотал.
– А ты бы лучше предков укорял, что пепел своих покойников таким же нечистым в горшках хоронили! – упрекнул его черт сварливо. – Другое хуже – двенадцать тогда получается, вот уж поистине Богу свечка, а не число. Не хочу! Правда, если добавить еще одного висельника, выйдет уже моя любимая чертова дюжина. Но где тогда взять висельника? Уж не повеситься ли рядком с вами мне самому? Вон далекий мой родич Один, тот девять суток провисел на священном ясене, прибитый к стволу своим же копьем. Отчего бы и нам с тобою не повисеть рядком, не поговорить ладком? Вот только Один подвесил себя, чтобы мудрость рун постичь, а я и без того обо всем на свете знаю! Следовательно, отставим в сторону наш прекрасный замысел, пусть уж висят твои товарищи, как висели, вдевятером. Однако ты, Каша, не огорчайся, я тебя утешу тем, что отвечу на твой мысленный вопрос.
Не был бы Каша признанным среди острожских надворных казаков знатоком нечистой силы, если бы к концу этой путаной речи не понял бы, что Черт только пугает его. Да черт уж с ним, хуже, чем теперь, не будет! И только сейчас мелькнула у казака мысль, что черта можно было бы отвадить крестным знамением, да тотчас же догадался сам о нелепости такого деяния со стороны человека не живого, а (увы!) только ожившего. Мгновением позже получил сокрушительный удар твердым, будто железным, локтем в живот и, разинув рот, как рыба, снова свалился на землю.
– Не сметь мне и думать обо всяких там крестах! И пойми, наконец, Каша, что я свободно читаю твои мысли. И, как увидишь, не один я. Ну ладно, ладно, сменю гнев на милость. Ты хотел знать, почему ты, умерщвленный вампиром, высосавшим из тебя всю кровь до последней капли, чудесно ожил? Почему, дескать, именно ты, в то время, как Федко, коего постигла та же злая участь, висит себе смирно на дереве, как тушка кошерной еврейской курицы? Я выбрал тебя, потому что ты знаешь кое-что о нечистой силе и при жизни любил о ней поболтать. За знания такие похвальные я тебя оживил, а уж за самомнение, за хвастливое суесловие о том, в чем ты на самом деле слабо разбираешься, – вот за это наказал нынешней твоей телесной оболочкой.
Каша поднялся, кряхтя, на ноги и замычал.
– Вот ведь, не нравится тебе… Ты хочешь узнать, упырь ли ты?
Казак закивал усердно.
– Знал бы ты, до чего мне приятно тебя обрадовать… Упырь, упырь ты, милый мой! И ты сейчас в этом сам убедишься.
И не успел Каша подумать, что вовсе не желает сейчас в чем-то убеждаться, как на месте Черта явилась перед ним в замечательной, чуть ли не в накоротке, близости прекрасная пани Зварычева. Что она тут делает, соблазнительная супруга пана каштеляна, в полутысяче миль от их родного Острога? В праздничном наряде, только не в замковую церковь собралась, а в гости, на что указывали ее открытая шея и обнаженные чуть ли не до сосков груди. Безумное вожделение испытал тут же Каша, безумное, однако чем-то, как он с ужасом уразумел, отличающееся от прошлых его к сей роскошной бабенке чувствований. Ибо не на совершенной формы белые груди пани Зварычевой устремил он свой жадный взгляд, а на белую, полную ее шею, которую отнюдь не поцелуями жаждал сейчас покрыть… Волосы зашевелились на голове у Каши, когда он ощутил, как из верхней челюсти, справа и слева, выдвигаются, щекоча и придавливая нижнюю губу, длинные и острые клыки, приличные скорее лютому зверю…
– Хорошого понемножку! – звонким своим голоском воскликнула тут обольстительная пани Зварычева и незамедлительно обернулась противным Чертом. – Не думаю, что моя синяя кровь пошла бы тебе на пользу, проказник… А ты к тому же и волкулак… Не веришь? Айн, цвай, драй!
И тут же чахлая осенняя трава бросилась навстречу казаку, тело его покрылось короткой серой шерстью, вытянулось над землей и опустилось на четыре лапы. Перестал он мерзнуть, прямо перед ним на земле замаячила тень длинной морды с круглым набалдашником носа, а во рту возник резкий и неприятный вкус чужой слюны. Однако шея у него по-прежнему осталась сломанной, он вынужден был улечься теплым брюхом на ледяную землю и положить морду на вытянутые передние лапы. Из горла Каши совершенно непроизвольно вырвался короткий жалобный вой.
– Худо тебе? – заботливо спросил обутый в черные чулки и черные же туфли с пряжками из блестящего черного камня. – Не приятнее ли тебе будет оборачиваться нетопырем?
– Нн-е! – тявкнул в ответ Каша, ибо глубокое отвращение к этой возможности пронзило разом человечью и волчью стороны его души.
– Надо что-то все-таки предпринять с шеей… – пробурчал Черт. – Свои же загрызут калеку… Да, да, конечно, просто кости срастить! Эй ты, хвостатый! Что на земле-то развалился? Сейчас же вернись в человеческое обличье!
Каша-висельник еще дрожал, и от холода, и от страха, когда Черт принялся кружить вокруг него, присматриваясь к его шее и не переставая болтать.
– Уж если ты все знаешь, казак, о нечистой силе, не секрет для тебя, и как оборачиваться волком: перепрыгиваешь через пень влево – вот ты и в шерсти, а надобно тебе снова человеком прикинуться – точно так же, только вправо. Однако ты спросишь меня, как тебе быть, если поблизости не окажется пня? Это вопрос… «Подождать, пока тебе кол в сердце воткнут», – вот мой ответ. Пошутил, пошутил… «Бегай по околотку, пока не увидишь пень». Ха-ха! Тоже пошутил… Открою тебе большую тайну: превратиться можно и безо всяких прыжков в сторону, нужно только сильно захотеть!
Внезапно нестерпимо холодные пальцы обхватили шею Каши, на мгновение сжали ее и тут же резко нагнули голову к левому плечу.
– Желаю тебя и в волчьем обличье сразу же узнавать… Готово! Надоел ты мне, Каша, признаться… О гортани твоей позабыл… Ладно, попробуй, скажи чего-нибудь.
– А чего тебе сказать? – просипел Каша.
– Сойдет для сельской местности… Носи с собою бересту и писало себе сделай. Если голос пропадет, чтобы написать и сунуть собеседнику. Коли грамотен окажется, прочтет, а нет – тебя, грамотея, зауважает… Воду пей только теплую, свежая кровь тоже годится – да кому я это объясняю? Вон на носу зима, а у тебя гон начнется. Глядишь, и присмотришь себе покладистую волчиху… Нет, ты должен в ножки мне поклониться за то, что я для тебя сделал!
– Не за что мне кланяться. Душу ты мою загубил, – просипел Каша и показал на товарищей-висельников. – Уж лучше бы мне с ними жалостно висеть, да надежду на Жизнь вечную сохранить.
– «Зызнь бесьную…» – передразнил его Черт. – Да их души давно в пекле мучаются, и твоя душенька с ними. Ты ведь и до этого идиотского похода нагрешил сверх всякой меры.
– Да разве… – удивился Каша, не знавший, стоит ли верить Черту, и злой на себя за то, что, получив возможность говорить, не может удержать языка.
– А кто из нас рукоблудием развлекался, вот сию именно толстую молодку в соблазнительных видах себе представляя? А кто занимался содомским грехом с немцем-мушкетером? Хватит тебе и этого… А вообще-то развлечения закончились, пора о деле поговорить.
Каша навострил уши. Ему стыдно было смотреть на беса, и его поразило, что не Бог, оказывает, следит за всеми нами с небес, а этот вот Черный – и неведомо откуда. Быстрый разумом, сообразил казак, что касательно его судьбы некошный кругом прав, и надо его слушаться во всем и угождать ему, чтобы походить по земле как можно дольше. И разве оно имеет такое уж большое значение – в каком именно виде?
– Правильно рассудил, – кивнул бес и подмигнул своим черным выпуклым глазом. – Тут и конь царевича Димитрия сообразил бы, что я воскресил тебя не за красивые глаза. Ты мне должен отработать, и служба эта, вначале легкая и пустяковая, со временем может стать… да что там, обязательно станет тяжелой и опасной.
– Все будет сделано, что в силах моих, хозяин, – и Каша поклонился Темнозрачному до земли.
– На сухую обещаешь! Вот, копыто мое в том поцелуй.
И Черт указал длинным пальцем на свой черный башмак, незамедлительно обратившийся отвратным козлиным копытом. Удовлетворенный почтением, оказанным казаком, похихикал и заявил уже вполне серьезно:
– Служба сия может продлиться долгие годы, однако много опасностей тебя ожидают и в шкуре волка, и в обличье упыря. То есть от тебя самого зависит, как долго ты еще будешь землю топтать. Твоя задача – охранять младенца, каковый в свой срок родится у трактирщицы Анфиски, тебе хорошо известной. Это сын самозванца, называющего себя царевичем Димитрием. Сейчас в Московии началась большая внутренняя война, и если младенец умрет в раннем детстве, эта кровавая смута продлится не больше десяти лет. Если же возмужает и сумеет вступить в борьбу, беспорядки затянутся дополнительно лет на двадцать, а земли Московии растащат западные и восточные ее соседи. Мне же в войне, а тем более в домашней, между своими, грязней и преступней которой и на свете нет, прямая выгода. Надеюсь, сие тебе понятно?
– Как не понять, хозяин? – кивнул Каша, из всех сил заставляющий себя не сблевать после целования вонючего копыта. – Где ж и грешат, как не на войне, а меж своими, так еще горше.
– Вот-вот, всего тебе и знать не надобно, впрочем. Не рожденный еще сын самозванца имеет уже другого защитника, весной тот заявится на постоялом дворе у Анфиски. Тебе придется помогать ему издалека, исправлять его ошибки. Так оно надежнее будет…
– Это человек – или…?
– Как и ты, только живой. И человек, и немножко леший… Приемный сын Лесного хозяина, моего здешнего соседа. А настоящий его отец – тот мужик Сопун, помнишь его? Вы его замучили, а он, из колодца выбравшись, сумел, вместе со своим, тоже мертвым, отцом Серьгою, ваш отряд уничтожить.
Взвыл Каша – и вот уже стоит перед бесом серый волк, от злобы шерсть на нем дыбом встала, рычит страшно, будто вот-вот кинется.
– Что, снова в петлю захотелось? Думаешь, мне трудно будет другого на твое место подыскать? Ты теперь мой слуга, запомни. Прикажу, так из родной матери всю кровь высосешь. Тебе дела нет до того, чей сын этот парень, Бессонко, ты лучше постарайся, чтобы он не прознал, что ты его родичей убивал.
Поуспокоился Каша и принялся снова человеком оборачиваться. Поскольку происходило превращение на сей раз медленно, Черт наблюдал за ним не без удовольствия – с самодовольной ухмылочкой и подбоченившись. А гнусную болтовню свою и не думал прекращать:
– До весны ты свободен. Порезвись тут в лесу, научись зайцев ловить. Я знаю, что время от времени тебе надо и человеком побыть, так ты поступай вот как: загонишь зайца, обратись упырем и выпивай его кровь, а потом снова становись волком и закусывай уже зайчатиной. Понятно, что тебе захочется человеческой крови, однако я тебе никого не разрешаю угробить в моей округе. И без того что делается, посмотри – мельница давно пуста, на ней водяной без всякого бырыша хозяйничает, Серьгин хутор вы спалили, а ты мне и последних людишек переведешь! А насчет сладости людской крови, так не до жиру, быть бы живу, скажу я тебе. Вон и крестьяне мясцо-то любят, а едят его только по праздникам – и ничего, живут! Понял?
Каша кивнул. Ему сейчас одного хотелось – чтобы Черт убрался, наконец, и можно было хоть как-то переварить услышанное от врага рода человеческого.
– Весной приходи на хутор кузнеца Гатилы, поживи там тайно, только до смерти никого не доводи. Подобрался к сонному, пососал немножко – и отпусти, понятно? Анфиска родит на Петровки, вот тогда и приходи на постоялый двор. Бессонку на глаза не показывайся: мысли читает и знает волчий язык. И вот что запомни: ты стараешься защитить только младенца и тех, кто его жизнь обеспечивает: мать будет кормить, стало быть, и об Анфиске твоя забота, кормилицу наймут – так и о кормилице. Остальных не трогай, но и дела тебе до них нет. А Бессонко – тот и сам за себя сумеет постоять.