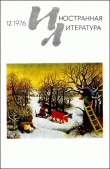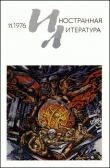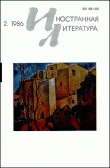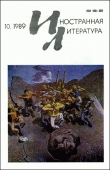Текст книги "Яростная Калифорния"
Автор книги: Станислав Кондрашов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Смакуя восторги, раскланиваясь, рассылая воздушные поцелуи, старичок плывет по экрану.
«Полковник Сандерс».
Любимец народа.
Мифический творец жареного цыпленка по-кентуккски.
Я впервые познакомился с ним на его родине, в штате Кентукки, весной 1965 года. Добродушный на вид полковник кидался на нас с огромных рекламных щитов. Некуда было спрятаться от его бородки клинышком, белого галстучка и от соблазна пламенных призывов отведать – всего за 1 доллар 19 центов! – жареного цыпленка по-кентуккски.
Однажды в придорожной «стекляшке» мы поддались искусителю, ткнули в меню туда, куда он повелевал, и официантка доставила на наш стол нечто заманчиво большое по массе, но невозможно скучное на вкус – обвалянное в сухарях изделие фабричных конвейеров по производству цыплят. Так я покончил с мифом о жареном цыпленке по-кентуккски.
А полковник Сандерс с успехом продолжал крестовый поход во имя своего бройлерного цыпленка и, бывало, нападал на меня с рекламных щитов за нью-йоркскими уже поворотами, а теперь вот подстерег и на телеэкране в Сан-Франциско, приспособив к своей агитации репортаж о выборах и соперничество двух сенаторов.
Так тянулся вечер у телевизора.
Встреча с полковником позабавила, но не перебила раздражения. Хватит зрелищ и прогнозов, дайте факты – и проверенные, – кто же победил, как и почему победил? Дайте сырье фактов для двух, максимум трех страничек. А в мозгу уже привычно щелкало: здесь десять вечера – значит, в Москве восемь утра. Одиннадцать вечера – значит, девять утра, оживают редакционные коридоры. Время не терпит.
Ржавели остатки кока-колы, горки пепла и окурков росли в пепельницах, а блокнот еще чист, телефон с Москвой не заказан.
И новое препятствие, с которым не мне сладить, выросло на пути к двум-трем страничкам. ЭВМ, арендованные телевизионной корпорацией Си-Би-Эс, крутились теперь вхолостую, потому что без дела были ЭВМ, арендованные муниципалитетом Лос-Анджелеса.
Гигантский город, где почти половина калифорнийских избирателей и где не хотят отставать от технически быстрого и точного века, первым из американских городов перешел на электронную систему подсчета бюллетеней, о чем успели сегодня прожужжать все уши. Но к электронно-вычислительному центру бюллетени везли с избирательных участков на обыкновенных грузовиках, а те мешкали, держа прожорливые ЭВМ на скудной диете, да и в самом центре случились какие-то неувязки. Все застопорилось, как на реке во время лесосплава.
Потерпите? В Сан-Франциско близилась полночь, а в Москве – на исходе был десятый час утра, и строчки на второй полосе «Известий» разбирают куда быстрее, чем устраняются помехи на электронно-вычислительном центре Лос-Анджелеса.
Я проклял несостоявшиеся две-три странички и пожалел впустую пропавший вечер.
Но сенатор от штата Нью-Йорк верил прогнозам.
Он решил не откладывать ритуал victory speech – победной речи. Как и фирме, производящей листерин, ему нужна была телеаудитория, – да побольше, а между тем она катастрофически редела, разбегаясь по спальням, особенно на Восточном побережье, в штате Нью-Йорк, где было уже около трех часов ночи.
Я вдруг увидел его на трибуне Большого бального зала отеля «Амбассадор». Уверенно-усталый, он жестами рук гасил ликование толпы. Но толпа продолжала ликовать, ибо в этой экзальтации был смысл ее многочасового ожидания в зале, нагретом телевизионными юпитерами.
Стремясь в объективы, вокруг тесно стояли его помощники, но, полуобернувшись, не гася улыбки, Бобби сказал несколько слов, и они расступились. Из-за мужчин показалась бледная, страдальчески улыбающаяся женщина с безукоризненной прической. Его жена Этель. Мать десятерых его детей. Она была беременна одиннадцатым, всего два месяца оставалось до родов, но разве можно уклоняться от предвыборных тяжких испытаний. Шансы кандидата всегда возрастают, если рядом с ним маячит перед избирателем верная жена, многодетная, беременная, самоотверженная.
Она встала рядом с мужем, чтобы с застенчивой улыбкой взглянуть на него и получить свою долю аплодисментов.
Он построил victory speech в традиционном духе – без официальщины, по-семейному. В меру юмор, максимум благодарностей. Он благодарил политических союзников – Джесса Унру, лидера калифорнийских демократов, и Сесара Чавеса, вожака мексиканских издольщиков, друзей в «черной общине», помощников-студентов, 110-килограммового негра Рузвельта Грира, профессионального регбиста и добровольного телохранителя, который «позаботится о каждом, кто не голосует за меня», сенатора Маккарти – за «великие усилия» в организации оппозиции президенту Джонсону, жену Этель – за фантастическое терпение, свою собаку Фреклес: «Она уже отправилась спать, потому что с самого начала знала, что мы победим».
Он говорил сбивчиво, без текста, по коротеньким тезисам, подсунутым помощником. То, что говорил с середины марта, когда вступил в борьбу за Белый дом.
Что страна хочет перемен. Что последние три года были годами насилия, разочарования, раскола между черными и белыми, бедными и богатыми, молодыми и старыми. Что пора объединиться и начать действовать сообща.
– Страна хочет идти в другом направлении. Мы хотим решать наши собственные проблемы внутри нашей собственной страны, мы хотим мира во Вьетнаме...
– Итак, снова благодарю вас всех. Вперед в Чикаго и давайте победим там!
Так закончил он свою речь и под шумные аплодисменты покинул трибуну: до съезда демократов в Чикаго оставалось два с половиной месяца, сейчас же – надо только миновать кухню – его ждали корреспонденты, а потом с друзьями в фешенебельный ночной клуб «Фабрика» – скрыться от телекамер, отвлечься от забот, праздновать победу.
И телевизионные камеры до выхода проследили сенатора, почетно выделяя его затылок среди затылков всей его оживленной свиты. Зал выключили...
Победная речь сенатора поколебала меня, но не заставила переменить решение. Мучило лишь то, что две-три странички все равно не отменены, а лишь отложены на завтра. Я сел за стол, раскрыл тетрадь и, перебирая, впечатления ушедшего, наконец, дня, думал, что же кратенько записать, чтобы не пропало, чтобы можно было потом оживить, взбодрить и подробнее расшифровать в памяти.
Телевизор был теперь справа, сбоку, ко мне своей пластиковой стенкой. Я не мог видеть изображения и не вникал в пошедшую на убыль болтовню.
Стоит нажать кнопку, и весь уместившийся в нем немалый мир покорно скатится к центру экрана, ужмется до блестящей яркой точки, которая посияет еще миг, но в которой ничего уже не разобрать.
Я не нажал кнопку.
Сидел и строчил в тетради.
И вдруг...
И вдруг справа, в телеящике словно ветер пронесся...
Словно сама стихия властно смяла и скомкала монотонное бормотание. Та стихия, которая никогда не извещает заблаговременно о своем натиске, о рывке.
И я еще не понял, в чем дело, но и меня вырвала стихия из-за стола и заставила прыжком встать напротив телевизора и впиться глазами в мерцающий экран.
Было ли что на этом экране – не помню, кажется, ничего не было.
А слышался нервный, торопливый, сбившийся с профессионального ритма голос диктора:
– Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили...
Это был не Уолтер Кронкайт, который уже попрощался со зрителем, сдавшись под атакой заупрямившихся ЭВМ. Это был диктор конкурирующего канала Эн-Би-Си, не пожелавшего тратиться на научно отобранные избирательные участки и на прогнозы дорогих электронно-вычислительных машин и с самого начала обещавшего old-fashioned suspense – старомодное напряжение, которое видит интригу не в прогнозах, а в том, чтобы не опережать ход событий.
– Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили! – кричал торопливый голос, как бы перечеркивая все, что было за долгий день, как бы стирая размашистой тряпкой все, что было так обильно написано на доске. И доска снова чистая, да только поверху, как заголовок, свежо загорались на этой доске страшно девственные, совсем другие письмена...
■
– Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили!
Диктор спешил заполнить доску, да быстрее, быстрее – быстрее, чем у конкурентов, раз они – так им и надо с их ЭВМ – все прохлопали, и, конечно, были перед ним контрольные экраны, которые удостоверяли, что соседи отстают.
Не помню точно слова, но отлично помню впечатления этих минут. Голос диктора дрожал от возбуждения, и оно было двояким – возбуждение человека, потрясенного страшной новостью, и азартное возбуждение гончей собаки, напавшей на след редкой дичи.
– Джон, – говорил он своему репортеру, дежурившему в отеле «Амбассадор», и я ручаюсь не за точность, но за смысл его слов, – Джон, как это произошло? Нам нужны, ты сам понимаешь, подробности...
И ему отвечал такой же возбужденный, соскочивший с привычных рельсов голос:
– Ты понимаешь, здесь сейчас такое замешательство... Трудно разобраться. Все в панике...
И первый голос с симпатией товарища, но с правом начальника и наставника, говорил, уже обретая спокойствие и как бы ободряя и дисциплинируя второго:
– Мы все понимаем, Джон. Понимаем, что и сам ты потрясен. Но возьми себя в руки, Джон. Постарайся. Ты же знаешь, как нам важны подробности.
Включили зал. Да, паника. Телеоко заскользило по искаженным лицам, мечущимся фигурам. Включили звук. Женские визги и вскрикивания: «Невероятно! Не может быть! Невероятно!»
На трибуне перед микрофонами, в которые полчаса назад Роберт Кеннеди крикнул: «Вперед в Чикаго!» – теперь стоял незнакомый мужчина.
– Оставайтесь на своих местах, – кричал он в зал, в панику. – Оставайтесь на местах! Нужен доктор! Есть ли здесь врач?
А Джоны с телевидения обретали выдержку и одного за другим подтаскивали к телекамерам свидетелей, отщипывая их на кухне от толпы, нараставшей возле смертельно раненного сенатора. Гончие собаки побеждали потрясенных людей, шла охота за свидетелями, да не просто за свидетелями, а за теми, что были поближе к месту покушения и видели побольше и могли бы теперь, представ по нашему каналу, вставить перо каналу конкурирующему.
Вершилось на глазах жуткое чудо мгновенного превращения трагедии в сенсацию и зрелище. И люди, дрожащие от горя, паники и испуга, сами заглянувшие в глаза смерти, подавались с пылу с жару на телеэкран и остывали, отходили, включали какие-то кнопки сознания, становились хладнокровными, умелыми в выражениях людьми, удостоенными – это перевешивало остальное – чести выступить по телевидению и показать себя публике.
Что ж, однако, браню я своих верных помощников. Ведь я-то тоже, стряхнув оцепенение первой минуты, сидел на краешке кровати напротив телевизора и в руках у меня уже был блокнот. Теперь нужны были другие две-три странички, и я работал, зная, что для этой бомбы найдут место даже на занятой уже газетной полосе и что есть теперь у меня время, так как эти две-три странички примут и в самый последний миг перед выходом газеты.
Особая взволнованно-приподнятая интонация в голосе диктора: сейчас мы – первыми! – покажем видеоленту с раненым сенатором Кеннеди. Вот оно, коронное. Кто-то работал, кто-то крутил свою камеру. Сейчас мы вам покажем! Вот они, кадры, снятые дрожащей рукой... Паническое мелькание людей... Камера как бы раздвигает их... Вот они, последние из тысяч и тысяч, из миллионов кадров, зафиксировавших политическую и личную жизнь сенатора...
Сколько раз мы видели избранные из них в получасовом рекламном фильме, который без конца крутили по всем телеканалам в предвыборные дни: с братом-президентом в часы кризисов, на митингах перед толпами, тянущими к нему сотни рук, весело играющим в футбол с детьми на лужайке вашингтонского поместья, бегающим по океанскому берегу взапуски с лохматой собакой Фреклес, и снова с братом, поближе к брату, чтобы причаститься к его посмертной популярности, и снова с толпами, жадно протягивающими руки к избраннику судьбы.
И вот они, последние, свежие, только что записанные на видеоленту и доставленные без промедления. Сенатор лежит на полу, узким затылком к зрителю, тем причесанным – волосок к волоску – затылком, который я видел три дня назад в двух шагах от себя и который поразил меня контрастом со знаменитым его непокорным чубом. Приближаем затылок. Еще крупнее. Спокойное белое лицо. Страдание чуть-чуть тронуло губы. Темный костюм. Раскинутые ноги, бессильно раскинутые ноги – ох, неспроста лежит сенатор на полу. Слева на корточках непонятный парнишка в белой курточке, в его широко раскрытых глазах недоумение, не успевшее перейти в боль. (Это был судомойщик из кухни отеля «Амбассадор». Убийца несколько раз переспрашивал его, верно ли, что Кеннеди должен пройти через кухню. Ему – последнему из тысяч и тысяч – пожал сенатор руку, и в этот миг застучали выстрелы, и бедный парнишка почувствовал, как разжалась в его руке сенаторская рука.) А справа склонился еще один человек. Как и парнишка, желая облегчить боль, он бережно приподнимает голову лежащего. Движение губ сенатора, правая его рука ватно оторвалась от пола, и – о ужас! – на тыльной стороне ладони темное поблескивающее пятно, и рука ватно валится в сторону, прочь от тела. А под головой смутно видится, скорее не видится, а неотвратимо угадывается другое большое пятно...
И чей-то широкий пиджак, закрывая путь телекамере, как занавес на сцене, обрывает зрелище. Да как он смел, этот дерзкий пиджак! Как смел он лишить нас продолжения!
(Я помню другой популярный фотоснимок тех дней, который, конечно же, фигурировал на разных фотоконкурсах года.
Ладонь...
Непомерно, уродливо большая, растопыренная ладонь, готовая накрыть холодно поблескивающий глазок фотоаппарата, а за ней растрепанная и разъяренная, маленькая, как придаток к собственной своей ладони, жена сенатора – Этель Кеннеди.
Она вся ушла в эту ладонь, и ладонь требует воздуха для мужа, лежащего на кухонном полу, ладонь заслоняет его последние полусознательные мгновения от камер лихорадочно работающих репортеров. Женщина так называемого высшего света в благородном облике зверя, спасающего свое дитя.
– Не забывайтесь, леди, – наставительно заметил один репортер, не прерывая своих занятий. – Это нужно для истории.
И гневная ладонь не помнящей себя женщины была квалифицированно отщелкана и пущена в оборот, пригодившись для истории.
Она хотела бы быть с ним наедине, не допуская чужих к таинству агонии, но и в роковые минуты сенатор был тем, кем стремился быть всю жизнь, – публичным достоянием.)
Эту видеоленту пропускали снова и снова, по всем каналам, в том числе и по каналу Си-Би-Эс. Там уже сидел у пульта управления поднятый с постели Уолтер Кронкайт, и вид его, уверенный, хотя и в меру траурный, говорил, что сейчас-то уж кончится неразбериха и волюнтаризм, и текущая история снова будет писаться без помарок, прямо на скрижали вечности.
Видеолента стала рефреном той ночи и знаком высокого качества телевизионного сервиса. Ею обслуживали новые десятки, а может быть, сотни тысяч и миллионы людей, разбуженных телефонными звонками своих недаром засидевшихся допоздна друзей, знакомых, родственников.
– А теперь посмотрите вот эту видеоленту...
И твердела дрожащая рука оператора, нервно мелькали люди, а потом расступались и – все ближе, ближе на передний план лежащего человека в темном костюме, узкий его затылок.
Сенатор между тем уже был в операционной госпиталя «Добрый самаритянин». Фред Манкевич, его пресс-секретарь, сообщал, что через пять минут шесть нейрохирургов начнут операцию, которая, как предполагают, продлится около часа.
Возле белеющего в темноте госпитального здания виднелись фигуры полицейских и репортеров.
Пробудился уснувший было отель «Губернатор». В соседнем номере хлопнула дверь, уже гудел телевизор.
– Вы слышали, Кеннеди застрелили? – делился новостью по телефону ночной клерк отеля.
Пробуждалась Америка. Журналисты срывали с постелей спящих политиков, требуя комментариев.
– А теперь посмотрите вот эту видеоленту...
«Сенатор Роберт Кеннеди был ранен в Лос-Анджелесе сегодня ночью. Как известно, Роберт Кеннеди – брат убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди и сам добивается избрания президентом США... Из противоречивых показаний очевидцев ясно, что покушавшийся ждал сенатора за сценой. Как сообщают, он сделал по меньшей мере шесть выстрелов с расстояния трех метров... Согласно сообщениям из Лос-Анджелеса, сенатор жив, но состояние его критическое... Трагедия сменила буффонаду, столь характерную для выборных ночей в Америке... Пока трудно сказать, как отразится покушение в Лос-Анджелесе на общей предвыборной атмосфере и на политической жизни в стране... Полиция усилила охрану сенатора Маккарти, находящегося в лос-анджелесском отеле «Биверли-Хилтон»...»
Я писал торопясь, поглядывая на часы, прислушиваясь к телевизору и мучаясь оттого, что в скупой информации, как вода сквозь сито, уходили невыраженными главные ощущения...
Пробуждался мир. Да, пробуждался, но не обязательно от лос-анджелесской новости, как думалось мне в сан-францисской ночи, а с вращением Земли и поступью Солнца – в Европе было уже утро, в Азии – день.
Тьма еще окутывала Америку, а в лондонских киосках уже лежали утренние газеты с сенсационными аншлагами, а где-то на московской улице американский корреспондент перехватил какую-то женщину, и телевизор в отеле «Губернатор» на углу Джонс-стрит и Турк-стрит уже передал ее комментарий: «Какая жалость, что вы живете в стране, где каждого могут застрелить».
– А теперь посмотрите вот эту видеоленту!..
И рука ватно приподнималась с пола... Поблескивало пятно на тыльной стороне ладони... Рука валилась прочь, как бы отделяясь от тела.
Тридцать шагов от трибуны, от позы кумира и победителя, через двойные двери на кухню – и вот ложе на полу. Он хотел направлять судьбы могущественной страны, а теперь не мог поднять даже собственную руку.
Три странички были готовы, а Москву не давали, операторша с холодной любезностью автомата отвечала, что линия не работает. Как не работает, если американские корреспонденты уже передают свои комментарии из Москвы?
Наконец, после жалобы старшей операторше, в три ночи дали Москву.
Незримый, кажущийся предательски ненадежным волосок связал номер 812 сан-францисского отеля «Губернатор» с шестым этажом дома «Известий» на московской площади Пушкина – через полтора континента, один океан и десять часовых поясов.
С телефонной трубкой я укрылся под одеялом, чтобы приглушить голос, не мешать людям в соседнем номере, спасти их от ненужного недоумения: что за сумасшедший человек, долго, громко и странно отчетливо говорящий на незнакомом языке? Под одеялом было жарко и неудобно, пот застилал глаза. И перед чутко внимавшей стенографисткой, моим первым слушателем и читателем, мне было неловко, потому что, крича слова через полтора континента и один океан, я убеждался: не то – не то – не то...
Я не отказываюсь от этих слов. Они были верными в том смысле, что несли в себе частичку информации о случившемся. Но в их голом каркасе не было трудновыразимой, но такой, казалось бы, очевидной взаимосвязи между тревожными впечатлениями долгого дня в Сан-Франциско, вечера у телевизора и ночной трагедии в Лос-Анджелесе.
Шестеро нейрохирургов все еще колдовали в операционной «Доброго самаритянина», а я лег в постель, соорудив из жиденьких валиков подушек изголовье повыше, чтобы удобнее смотреть на телеэкран. Операция зловеще затягивалась.
В открытое окно, шевеля шторой, проникал ветер, холодок раннего утра выветривал табачный дух. Газеты на столе и на полу, брошенное на кресло покрывало, пепел и окурки в пепельницах и мусорном ведерке, – глазами постороннего оглядывал я следы побоища, которое сам же и учинил, сражаясь с телевизором, бумагой, временем.
Каково там – сенатору в операционной?
Роджер Мадд стоял наготове у госпиталя. Мобильные силы Си-Би-Эс были перегруппированы, действовал новый укрепленный пост, и в унылых тонах раннего утра телеоко вырывало деловито озабоченную фигуру. Роджер Мадд держал в руке портативный передатчик уоки-токи, очевидно, настроенный на волну экстренной пресс-службы «Доброго самаритянина». В той же интонации, что и девять часов назад, когда начался репортаж об итогах выборов, он докладывал, что нового, Уолтер, пока ничего нет, но я, как видишь, наготове. Нового было много, но оно уже успело стать старым, а Роджер Мадд имел в виду самое новое новое.
Человеку, только что включившему телевизор, могло показаться, что телекорпорация Си-Би-Эс давным-давно занята оперативным освещением агонии несчастного сенатора Роберта Кеннеди. Аврал кончился. Конвейер нашел правильный ритм, выпускал качественный продукт скорби, горечи, публичного битья в грудь и самокритичных разговоров о sick society – больном обществе.
...Проснувшись в десять утра и первым делом включив телевизор, я узнал, что операция закончилась и сенатор жив. Еще жив, ибо некий нью-йоркский доктор Пул, успевший связаться по телефону с коллегой из «Доброго самаритянина», водил указкой по схеме человеческого мозга и сообщал, что рана намного опаснее, чем предполагали вначале, что повреждены жизненно важные центры и что, если даже сенатор выживет, жизнь его будет «ограниченно полезной» – иными словами, жизнью калеки. А по другому каналу шла коммерческая реклама на бессмертную тему о cash (наличных), savings (сбережениях), да фирма, изгонявшая дурной запах из Америки, крутила свой мини-фильм о бабушке и внуке, убеждая, что счастье так возможно: станьте на уровень века, покупайте листерин!
Клан Кеннеди слетался отовсюду в белые покои госпиталя.
Нетерпеливые комментаторы, по возможности избегая слова «смерть», уже толковали о том, как повысились шансы Хэмфри на съезде демократов в августе и шансы Никсона на выборах в ноябре. А что, кстати, будет делать Тедди – последний из братьев Кеннеди?
Из кандидата в президенты человек стал кандидатом в покойники, и в стране, где так важно опередить конкурентов и первым предложить новый товар, пользующийся спросом, уже спешили с догадками, анализом, спекуляциями.
А прекрасный Сан-Франциско жил обычной жизнью, как будто успел расправиться с ночной новостью за утренней чашкой кофе. И не было ничего необычного и скорбного в пешеходах и машинах, а улицы своим трехмерным пространством, своей подставленностью небу развеивали и разгоняли ту густую концентрацию трагедии, которая пропитала за долгую ночь мою комнату в отеле.
Лишь в киосках кричали газеты жирными шапками и фотоснимком недоуменного мальчика в белой куртке, склонившегося над мужчиной, распростертым на полу. Да на Пауэлл-стрит, у поворотного круга кабельного трамвая, прохожих гипнотизировало мерцание телеэкранов в витринах, – здесь-то еще позавчера агитаторы Роберта Кеннеди совершали последний предвыборный рывок, даром раздавая специальное издание его книги «В поисках обновленного мира».
Назавтра утром я улетал в Нью-Йорк и потому вернулся в отель рано – к сборам в дорогу, к телевизору, к не дававшим покоя мыслям о еще двух-трех страничках.
– А теперь посмотрите вот эту видеоленту...
Слова эти звучали реже – видеолентой обслужили всех. У Томаса Реддина, шефа лос-анджелесской полиции, было умное лицо и сдержанная интеллигентная манера речи. Изучив «биографию» пистолета марки «Айвор-Джонсон-Кадет», его люди установили личность покушавшегося – Сирхан Бишара Сирхан, 24 лет, иорданский араб, с 1957 года проживавший в США, но не получивший американского гражданства. «Зловещих международных аспектов» не обнаружено. Обвиняемый, скорее всего, действовал в одиночку. Говорить пока отказывается, но из слов знавших его людей видно, что Сирхан крайне критически относился к ближневосточной политике США, к поддержке Израиля против арабов.
Я вспомнил свое первое сильное ощущение тех минут, когда трагедией оборвался балаган ночи выборов, но ничего еще не было известно о преступнике: Роберт Кеннеди энергично навязывал себя в президенты, вызывая полярные токи симпатий и антипатий, – с ним так же энергично расправились. Теперь говорили о более конкретной версии. Сенатор избирался от штата Нью-Йорк, где многочисленна и влиятельна группа избирателей-евреев. Ему нужны были голоса, и, конечно, он хотел понравиться этой группе. В ближневосточном конфликте его позиция была произраильской, хотя, впрочем, не более произраильской, чем у многих его коллег. Как вел бы он себя, если бы не евреев, а арабов было больше среди его избирателей?
В глазах Сирхана Роберт Кеннеди вырос в ненавистный символ. Безжалостным рикошетом ударила нью-йоркского сенатора атмосфера его страны, отразившаяся в сознании преступника, ударила – в этом был замысел Сирхана – в канун первой годовщины арабо-израильской «шестидневной войны». Совершенно неожиданным образом в Лос-Анджелесе откликнулось то, что аукнулось в Иерусалиме год назад.
Между тем голоса на калифорнийских выборах были окончательно подсчитаны. Кеннеди победил Маккарти незначительным большинством: 45 процентов на 42.
Линдон Джонсон выделил охрану для всех, кто хотел попасть на его место, из президентской секретной службы.
Маккарти, Никсон, Хэмфри следили за бюллетенями, готовясь объявить траурную паузу в предвыборной борьбе. В бюллетенях нарастало неотвратимое – «чрезвычайно критическое состояние». Позднее вечернее издание газеты «Сан-Франциско кроникл» заглянуло в ночь огромной шапкой: «NEAR DEATH» – «На краю смерти».
На этот раз Москву дали быстро. Слышимость была хорошей, операторша – участливой. К полуночи я разделался с обязанностью корреспондента и опять обратился к телевизору. Передавали шоу Джоя Бишопа из Голливуда. У смертного ложа сенатора энергично и озабоченно теребили старый вопрос: What's wrong with America? – Что не так с Америкой?
По контракту с одной телекорпорацией популярный актер Джой Бишоп ведет каждую среду вечером программу из Голливуда. Очаровательный человек, к тому же либерал. Сейчас на лице его сострадание и непривычная тяжесть раздумий, но что за галиматья – траурное шоу. Что заготовил Джой Бишоп впрок на сегодняшний вечер? Каких комиков, красоток, политиков, секс-профессоров, чечеточников во фраках или, может быть, отчаянно радикальных дам – ниспровергательниц бюстгальтеров, пионерш новейшей моды «гляди насквозь»?
Теперь же у него лицо философа и почти мученика. Он обсуждает вопрос: что не так с Америкой? Аудитория заранее купила билеты в голливудский зал, откуда транслируется передача, и пришла с намерением повеселиться, но иные, неожиданные «гости» у Джоя Бишопа – Чарльз Эверс, брат убитого расистами негритянского лидера Медгара Эверса, какой-то либеральный доктор, какой-то католический священник.
Седой доктор искренне страдает: американцам пора приглядеться к себе! Мы – нация лицемеров. Надо воспитывать гуманизм и изгонять насилие... Чарльз Эверс тоже говорит, что Америке пора проснуться, что у белых нет сострадания к черным, что национальный климат пропитан насилием и расизмом. Четким политическим языком священник обличает «колонизацию, эксплуатацию и деградацию человека».
Джой Бишоп, как царь Соломон, решает уравновесить истину. И доставленный радиоволнами из своей столицы в Сакраменто возникает на телеэкране калифорнийский губернатор Рональд Рейган. Экран делится на две половинки. Справа бывший голливудский актер Рональд Рейган играет роль мудрого, не поддающегося эмоциям государственного мужа. Слева актер Джой Бишоп в роли мыслителя, растерянного, но не прервавшего поиски истины.
– Губернатор, – спрашивает Бишоп, – не пора ли запретить продажу огнестрельного оружия, столь дешевого и доступного в Америке?
Сгустив мудрые морщинки возле глаз, словно компенсируя ими убогий лоб киноковбоя, губернатор отечески разъясняет Джою, что не в законе дело, что человек найдет оружие, если хочет совершить политическое убийство.
Сейчас, когда тяжело ранен молодой сенатор Кеннеди, «иностранные писатели вострят перья», чтобы еще раз очернить Америку, но это либо ее враги, либо те, кто близоруко забыл, что Америка спасает мир от «варваров».
Он так и сказал – от варваров, и в этот миг утверждения патриотической веры в зале зазвучали аплодисменты.
– Простите, губернатор, нам придется прервать вас, – вмешался Бишоп с извинительно-брезгливой гримасой, но не губернатору была адресована его брезгливость.
Опустив руку под стол, с той же несколько брезгливой миной он извлек какую-то штучку.
Была это консервированная пища для собак или менее драматический препарат «дристан» от головной боли? Не помню. Но была, была эта штучка, и, покатав в ладони, Джой Бишоп выдвинул ее в центр, под телевизионные лучи, поставил на свой стол, произнес магическое слово product – продукт – и покорно исчез.
Как исчез губернатор Рейган.
Все исчезли. На минуту зал отключили.
Пошел рекламный фильм компании, которая в этот вечер оплачивала траурное шоу Бишопа, гневные филиппики его гостей, патриотический раж губернатора.
...К концу передачи Джой Бишоп попросил священника помолиться за раненого сенатора. Все четверо склонили головы, и речитативом священник вознес к богу совокупную просьбу спасти жизнь Роберта Кеннеди, а Америку – от зла колонизации, эксплуатации и деградации человека.
Был час тридцать ночи 6 июня 1968 года. Выключив телевизор, я улегся спать.
В час сорок четыре минуты Роберт Фрэнсис Кеннеди, 42 лет, скончался, не приходя в сознание, в лос-анджелесском госпитале «Добрый самаритянин».
Разбуженный в семь утра телефонным звонком ночного дежурного, который в американских отелях берет на себя функции будильника, я снова кинулся к телевизору. Слово «смерть» заполнило комнату.
Еще не зная о часе смерти, я понял, что с точки зрения телевидения она случилась давно, потому что страшное слово это вертели спокойно, а не как картошку, только что вытащенную из горячей золы.
Я увидел грузное лицо Пьера Сэлинджера, который был пресс-секретарем у президента Джона Кеннеди, а в последние недели прыгнул в «фургон» Роберта, собравшегося в дорогу к Белому дому. Пьер исполнял свой последний долг, излагая усталым корреспондентам программу траурных церемоний: что специальный самолет, присланный в Лос-Анджелес президентом Джонсоном, сегодня же доставит тело в Нью-Йорк, что список тех, кто будет сопровождать тело, объявят позднее, что траурная месса состоится в нью-йоркском соборе св. Патрика, а когда – сообщат позднее, что после мессы гроб с телом покойного специальным поездом доставят в Вашингтон, где Роберта Кеннеди похоронят на Арлингтонском кладбище рядом с его братом.
Скончавшийся человек продолжал обрастать массой подробностей. Последняя точка была поставлена на его жизни, и потому шли уже большие фильмы-некрологи. Они впрок монтировались и клеились, пока он, цепляясь за жизнь, еще лежал на смертном ложе.