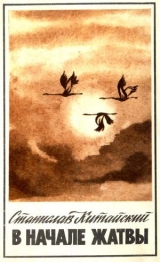
Текст книги "Повесть "В начале жатвы""
Автор книги: Станислав Китайский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Этот вопрос начинает раздражать Филиппушку. Ему хочется ответить на него зло, с вызовом, а отвечать так некому: память ведь не человек, не кошка какая, даже не предмет какой, ее вроде как и не существует – кому крикнешь? Ты тут спокойно отвечай, почему стряслось такое.
Почему?
Может, потому, что уж шибко часто говорили Филиппушке: «забудь» – и он забывал?.. Заплачешь мальчонкой по теплу материнской руки – нету ее, забудь! Напомнишь хозяину про должок за пастьбу – а ты не помни, забудь. Так и пошло, и пошло. И потом уже: примут на сходе какое решение – выполняй, Филиппушка, – а назавтра повернут по-другому – и забудь про старое.
И он забывал, что делал и говорил вчера, позавчера, год назад. Забывать все начисто, наглухо сделалось не только привычкой для него, но и потребностью, настоящей необходимостью. Жизнь его измерялась не годами, не цепочкой дней, где каждое звено с другим сцеплено, а промежутками от приказа до приказа. И это было правильно: станешь за старое цепляться – остановишься, колодой ляжешь на общем пути. Тогда отбросят тебя подальше и не взглянут, в какую сторону – не мешай! Людям надо было торопиться. События захлестывали одно другое, опережали время, круговертели февральской степной метелью, бушевали полымем – тут и ученый кто не разберется, не запомнит ничего.
А дома – что дома? – дома и вовсе ни хрена для помину не подыщешь, одни свары да слезливые драки – кому охота такое помнить? – слава богу, что ушло.
Нет, ерунда это – воспоминания. Врут люди про пеленки в последний час. Нету пеленок. Ничего нету. Да и с чего он взял этот «последний час»? Вон и трясти перестало, и не болит ничего. Голова мутится – так понятно: недосып, пройдет. И что рука онемела, тоже ерунда – иной раз так отлежишь ногу или руку, что она совсем нечувствительна, а тут все-таки гнется.
Немного успокоившись, Филиппушка прилег, вернее, просто осторожно свалился, как сидел, – не разгибаясь, продолжая нянчить руку, на комковатую, в розовых блеклых цветочках, подушку, подтянул на кровать ноги и притих, затаился. Перед открытыми глазами его мельтешили, петляли какие-то белые светящиеся точки, противные, будто живые, разраставшиеся в радужные мыльные пузыри и тут же исчезавшие, чтобы уступить место новым.
Несколько раз он засыпал, но как только сон сладким бессилием заволакивал сознание, на тело тут же наваливалось нечто тяжелое, бесформенное и начинало душить, вдавливать Филиппушку в неуютную, вроде даже как липкую постель, и он со стоном просыпался.
Такой сон измытывает хуже любой работы, и Филиппушка изнемог вконец. Сколько промаялся так, он не знал, но когда поднялся, солнца в комнате уже не было, значит, дело к вечеру. Изба поставлена так, что солнце не покидало ее с восхода до заката, перебираясь из одной клетушки в другую, и Филиппушка знал, что сейчас оно вовсю калит пыльные половицы в застенке, куда он заглядывал редко с тех пор, как выгнал квартирантку, и можно пойти туда и погреться, только зачем, если лучше сразу на улицу. На улице – не в избе!
Вот только отойти бы маленько. Не годится показываться на люди мокрой курицей. Люди всегда охотнее думают о человеке плохое, чем доброе, им только повод дай!
Как же это ты расписался, кавалерист? – спросил себя Филиппушка с тихой усмешкой. – Нет, так не пойдет. Держись! Не имеешь ты права на такое...
Он через силу встал на нетвердые ноги, выпрямился, хотел привычно обеими руками подкрутить усы, но левая рука по-прежнему не слушалась, и он только провел пальцами правой по сухим и жестким губам. Он прошел до печки, снял с плиты еще теплый котелок с ухой, попил через край, с запозданием, нарочно, чтобы поднять настроение, громко крякнул, хотя никакого удовлетворения не ощутил, и постарался как можно тверже пройтись по половицам из конца в конец.
Ах, как неладно все! Одиночество сейчас вовсе ни к чему. Хорошо бы какая старуха была, или девки крутились здесь, могли бы больному отцу хоть воды подать. Никого нету.
Вдруг вспомнилось, как покойная Настя, прижимая к себе голодных детей, с тихим презрением отчитывала его за то, что он потихоньку стал варить себе еду в отдельной черепушке и не делился ни с кем:
– Какой же ты отец? И не отец ты совсем, а так, бычок божий. Где это видано – детям не дать? С какими глазами ты помирать собираешься? За все расплатишься, за все...
– Тьфу! – сплюнул с досады Филиппушка. – Довспоминался! Боец должен только вперед смотреть. Оглянулся – в дезертиры метит! Вот так. Нам в дезертиры нельзя! Держись и никакой слабости!
Он насильным мечтанием снова превратил себя в отважного конника, почувствовал, как заныла поясница от тяжести нагана и шашки, и пощупал рукой на боку, будто оружие и впрямь было на нем. Хватит киснуть. Пора!
Он снял с гвоздя картуз, пришлепнул им на столе кружок мух и пошел подышать предвечерним воздухом.
За воротами он оглянул победным взором пустую дорогу и пустую улицу, отошел немного от избы, почувствовал, что теряет силы, но не сломался, не поник, дошел до прясла, оперся на него спиной, с трудом поднял и положил на жердь левую руку, правой придержал во рту трубку и застыл так надолго, будто памятник самому себе.
– Нет, нас не возьмешь, – твердил он, – мы еще покажем...
Скорей всего эти слова относились к селу, что, открываясь Филиппушкиной улицей, разрасталось вширь и вглубь, горбатилось избами, звенело голосами и сигналами машин, кукарекало, мычало, захлебывалось лаем одинокого цепного пса, лязгало чем-то железным – то есть жило суетливой, чуждой ему жизнью.
X
Сразу же после обеда Колюхов засобирался и по совету Анны пошел к зерноскладу, где взвешивались груженные зерном машины. Виктор Иванович взялся провожать его, но по дороге вспомнил, что надо еще выложить чьего-то поросенка и чуть не со слезами на глазах распрощался с дядей.
– Вот так вот все некогда! Когда это и кончится? – извинялся он. – Бегаешь, бегаешь... Вернешься уж, у меня поживешь.
– Ладно, иди, – отпустил его Колюхов, – я сам...
Он понимал, что племяннику действительно некогда, работа отлучек не любит, и, хоть очень не хотелось оставаться одному, бодро пожал ему руку и пожелал счастья.
Низкорослый весовщик с голубыми веселыми глазами охотно объяснил Колюхову, что Петро уже давно уехал на станцию, где было заготзерно, и должен скоро вернуться.
«Может, сразу на станцию? – подумал Колюхов и тут же отказался от этой мысли: сестру все же надо проведать, больше ведь не встретиться...»,
Ждать пришлось долго. Подъезжавшие шоферы, желая заработать рублевку, то и дело спрашивали, не на станцию ли собрался дед, но он отказывался: надо в Парфеново.
– А чего так спешно смываешься? – спросил его весовщик, – Приняли тебя тут плохо, что ли?
– Отчего плохо? Приняли как полагается. Тороплюсь увидеть всех, а то вот помру тут и не увижу, – отшутился Колюхов.
– А если и там от ворот поворот?
Весовщику на вид лет уже за сорок, а в поведении его было что-то ребячливое: дергался, вскакивал, завидя очередную машину, весело материл шоферов, и выходило, что всем он на свете друг и брат. Колюхов знал эту породу людей, знал, что они готовы любому встречному отдать последнюю рубаху, что всегда первыми поднимают скандалы и кидаются в драки, и всегда бывают биты, но, отлежавшись, охотно распивают с противником мировую и обнимаются, пока не приспичит подраться снова. Такому на каждую занозу не отвечай – тут же сыпанет пригоршней новых.
– Ты вот меня не знаешь, не можешь знать, – сказал весовщик, подсев к старику и настойчиво угощая его, некурящего, грошовой папироской из грязной, потрепанной пачки, – а я тебя знаю. Понял?
– Откуда тебе меня знать? – возразил Колюхов, припоминая, не встречался ли где, – таких много попадается среди бывших зэков, а там, где жил Колюхов, их хватало и среди работавших и просто шатающихся меж задельем и бездельем – «бичей».
– Не вспоминай, не встречались, – сказал весовщик. —« Я тебя по рассказам знаю. Батька с матерью говорили. Он ее все колюховской невестой дразнил. Понял?
– Постой, да чей же ты?
– Я-то? Родинов. Помнишь Алексея Николаевича Родинова? Колхоз еще организовывал здесь. Вспомнил?
Колюхов кивнул: в памяти вырос живым молодой цыганковатый парень в одежде городского мастерового, прибывший на укрепление сычовской коммуны года за полтора до общей коллективизации. Не парень, а черный острогранный кремень – тронь, искры снопом, любого обожжет.
– Мало ты на него пошибаешь...
– Вот и он так. Когда веселым был, все Федоровичем меня навеличивал. Понял? До самого последнего дня председательствовал... Забавно: его нет, а ты сидишь здесь...
– А мать-то жива? – спросил Колюхов, делая невольную остановку перед каждым словом: весовщик был сыном той самой Натальи Галасковой, что не могла забыться и по-сегодня.
– Третьего года умерла. Войну вытянула, в сорок шестом – знаешь, какая тогда в деревне житуха была? – выжила, а тут одним днем. Понял? И болезни никакой не признали. Вот.
Весовщик разом умолк, зашарил по карманам когда-то дорогого шевиотового пиджака, теперь потертого, с загнутыми лацканами, вытащил свои папиросы и, раньше, чем прикурить, долго смотрел в одну точку суженными глазами и перекидывал папиросу из одного уголка блеклых губ в другой.
– Вот. Так что знаю я про тебя. Понял?
Колюхов вздохнул, отвернулся, лизнул губы.
– Что ты можешь про меня знать?..
– Да уж знаю!
Что он мог знать? Ничего. Да и про мать свою, Наталью Матвеевну, он тоже ничего не знает. Дети всегда знают про родителей меньше, чем про соседей и знакомых.
...А Наталья долго тогда не выходила замуж. Встретится на дороге, поклонится с издевкой, засмеется, дескать, знала же я, говорила тебе, что так все и будет, спросит: чего сычом смотришь, гляди соколом! Я зла на тебя не таю... Потом жила года два с одноруким Кирькой Спиридоновым, мужичонкой немощным, не по ее подолу, а когда и того задавило трактором, присланным для коммуны «Фордзоном», – угодил как-то под зубастое заднее колесо, – Наталья с отчаяньем стала погуливать даже с женатиками. Дело понятное – молодая, здоровая, ей тогда уже за тридцать было, красивая, хоть рисуй ее – живой мужик вот так мимо не пройдет. Тут и подвернулся ей этот Родинов. Был он моложе ее, горячий, заводной, такие не любят лакомые куски упускать, хоть у кого на день на два да вырвет для себя. Полюбилась она ему, видать. Сошлись. Как-то в компании захмелевшие активисты – были в том числе и Иван Самойлов, и Иван Корякин, и Филиппушка, и счетовод Жамов – попробовали ему открыть глаза на недавнее Натальино прошлое. Родинов взбеленился, арестовал застолье и повел за угол расстреливать. И расстрелял бы, не выбей счетовод у него из рук пушки, – такой заполошный был. А Наталью, значит, любил... Вряд ли что знает об этом молодой Родинов. Да и о том, как потешались мужики над горячей доверчивостью отца, тоже не знает. А случалось это часто. Родинов в крестьянстве ничего не понимал ровным счетом, и этим пользовались. Тот же Иван Самойлов дня прожить не мог, чтобы не разыграть кого. Увидит бабу какую, скажет, что только что встретил ее мужа с другой где-то под зародами, да скорей к той и соврет то же самое. Обе и прут со слезами за добрую версту к зародам – смех и грех. А Самойлов со смеху помирает, рассказывает об этом в самом людном месте. Доставалось от него и Родинову. Как-то зацвела гречиха. Зацвела дружно, одним днем. Посмотришь – ни дать, ни взять все поле засыпано чуть розоватым снегом. Родинов видел такое впервые. Что это? – спрашивает. Иван ему: гречиха. Кашу гречневую ел? Вот крупа. Видишь, осыпается. Кулачье саботаж ведет, уговаривает затянуть уборку, чтоб, мол, получше вызрела. А осыплется крупа, потом как соберешь? По зернинке с земли? Секретарь наш, товарищ Корякин поддался на эту вражескую агитацию, людей не пускает в поле, не разрешает убирать... Родинов молнией в село и при всем народе к Корякину с допросом, пистолетом перед носом машет: кто главарь саботажа по уборке гречневой крупы? Ты, гад? Тут не до смеха. Еле успокоили. В другой раз бабы посконь дергали. Зачем, – спрашивает Родинов Самойлова, – коноплю топчут? А это, – отвечает ему Иван, – кладовщик наш по кулацкому навету смешал сусеки с разными семенами конопли. Вот зеленая с семенами – это матерка, а рыжая, пустая – посконь. А он взял и смешал. Вредительство, что и говорить! Вот бабы выбирают теперь. Сколько истопчут! – убытки, прямые убытки... Взбешенный Родинов кинулся в мангазею, выволок оттуда Филиппушку, тот кладовщиком был, поставил к стенке, и тот едва на коленях объяснил ему злую шутку Самойлова. Пришлось в тот день Ивану прятаться в той же конопле... Вот такой был Родинов, Алексей Николаевич... А кто в мире знает, что в ночь перед раскулачиванием Наталья прибежала к нему и предупредила о предстоящей беде, чтоб успел собраться хоть кое-как – брать с собой разрешалось ведь только то, что на тебе...
– Ничего ты про меня знать не можешь, – сказал Колюхов весовщику, – я и сам-то про себя мало знаю.
– Здрасьте! Женихался ты с матерью? Женихался. Продал ее как последний Иуда, за тридцать сребреников? Продал. Вот так. Понял?
– Это она говорила?
– Это все знают... До чего же гад был! Хорошо, что не досталась она тебе, хоть немного, да пожила. Заморил бы, как вон Тугин свою. Знаешь Тугина? Михайла Александровича?
– Тугин в кулаках не ходил.
Одна порода! В колхоз так и не вступил. Остался без земли, без ничего, а в артель не пошел. Истопником в школу устроился. Потом завхозом стал. Шапчонка на нем – в музее не сыщешь, телогрейка в заплатах, ржавый гвоздь на дороге найдет, в дом тащит. Старухе, – мы ж через забор жили, поесть жалел. Понял? Выглянет Степановна, увидит меня, просит: погляди-ка, не идет там мой, я себе хоть яйцо сварю. Понял? Так и загнал ее голодом на тот свет. И сам сдох от язвы желудка. А денег больше ста тысяч осталось. Понял? Приехали на похороны все три дочери, сын Колька. Стали делить – дерутся, ругаются, каждую тряпку пополам! Шакалы и шакалы. Сам не пожил, никому не дал пожить, и после смерти своей перессорил всех. Во – какой! Все вы такие – кулачье...
– Чего крысишься? Постарше тебя как-никак... На хвост я тебе наступил? Занимайся своим делом.
– Не скрыпи. Это я так... Вообще. Понял? За мать обидно, что шпыняли ее такие вот. Даже Филиппушка-Комбед и тот...
– Филиппушка здесь и вовсе ни при чем.
– Ну да! Тоже дух тот еще! Он же сватался к матери после первой жены. Сама рассказывала.
– Нужен он ей...
– То и оно. Погнала она его. А когда отца не стало, отыгрывался. Понял? Настырный был. На каждом собрании в грудь себя колотил, выкорчевать вражеское семя грозился. Ей больше других доставалось. Тужурку надраит, усы тараканьи выставит – герой! А сам работу все полегче искал: караульным где-нибудь, сторожем полевым, чтоб ребятишки колосков не воровали. Меня раз нагайкой вытянул по спине, шкура слезла. Понял? А в войну, точно, в войну, каким-то помощником агента заделался, займы выколачивал, за налоги описывал. Прихожу как-то с работы, смотрю, около нашей избы подвода со всякими подушками. Наши на самом верху – описали, значит. Я и в избу. Там крик, вой. Ребятишки за материн подол уцепились, орут. Мать плачет, на коленях стоит перед Филиппушкой. Понял? А тот орет: потаскуха кулацкая! Советскую власть заморить хочешь? Ну тут я ему и врезал за потаскуху. Понятно, схлопотал срок. Судили показательным здесь, в Сычовке. Чтоб другим неповадно было. Понял? Он все хотел, чтоб и ее посадили – поливал такой грязью! – но срок суд дает, а суд разобрался. От Филиппушки и услышал про тебя, а потом уж мать рассказала. Понял? Вот какая шкура.
– М-да... Тяжелое время было.
– При чем тут время? Время! Дали власть подлюге, вот и... Война к концу, на селе мужиков уже совсем нету. Вот и наверстывал... Мало ли гадов!..
Воспоминания утомили весовщика, он поднялся, пошел к стойке весов, что-то покрутил там, пописал в тетрадке, посмотрел на дорогу – не видно ли машин, и уже без прежней охоты подсел опять к Колюхову.
– Нету твоего Петра. Очередь, наверное, на элеваторе. Надо было с кем другим ехать.
– Кто чужой станет возить по Парфеновой? Не знаешь, где живут, сразу не найдешь. Подожду уж.
– Да уж, свой своему поневоле друг, – сказал весовщик, думая о чем-то своем, должно быть, вспоминая нелегкую судьбу. – Родня не выручит, никто не выручит. Понял?
– Тяжело, значит, без отца было?
– А то легко? Попробуй-ка одной с тремя пацанами, да без меня еще! Никому тогда легко не было, а ей совсем... Кто на фронте погиб, у того семья меньше бедствовала: пособия там, налоги поменьше... А вот такие, как ты, почему остались? —вдруг взъелся весовщик. – Сослали их! Хуже им сделали! Небось твои дети лепешек из лебеды не жрали?! Сам вон как боров! А моя мать в щепку изработалась. Понял? Вот такая болезнь и была: изработалась! Понял? Упадет после работы на топчан, отлежится мало-мало и опять на работу. А на трудодень по сто грамм зерна. Понял?
– Чего заладил: понял, понял? Все давно понял. Я ни у кого куска не отнимал. Мне побольше доставалось, не жалуюсь.
– И поделом! Будь-ка в деревне такие, как ты, всех бы извели, иуды. А без вас вот выжили! Понял? Ты за кровопийство получил свое. А туда же!
– Иди-ка ты от меня! Пристал смолой к заднице...
– А не равняйся, понял?
– Да на кой мне равняться! Только и ты меня не цапай. Умник. Как ни прожил, свою жизнь прожил, не чужую. Дела до этого никому нет. Что сварил, то и хлебаю. На себя смотри, на меня нечего.
– Ага! Заговорило кулацкое нутро! Чего же прикидывался исусиком: все понимаю, все прощаю... Сам так и вцепился бы в горло. Хитрозадый больно!
– Да отстанешь ты?
– Нет уж, какие вы были, такие и остались, что ты, что Филиппушка – только дай вам волю! Прожили по триста лет – и даром! А тех, кто из вас сделать людей хотел, тех нету. Понял? Золото сразу тонет, а дерьмо силком не утопишь.
– Ты хорош. Не видно что-то в тебе человека того.
У весовщика заело с ответом, а тут одна за другой сразу подошло несколько машин, и он, выматерившись, сорвался с места встречать их.
Машины были доверху кузовов, нарощенных тесинами, груженные литым желтым зерном, и платформа весов под ними ходила ходуном и тяжело прогибалась. Шоферы выскакивали из кабин веселые, загорелые, с закатанными рукавами клетчатых рубашек, с открытыми солнцу и ветерку запазухами, жадно пили воду из цинкового бачка в тени, громко перешучивались меж собой, дружно подзадоривали Родинова и всем видом своим и поведением показывали, что привычная работа сегодня праздник для них. Это были люди не местные, жатва позвала их сюда с городских улиц, где, должно быть, возили они в кузовах своих грузовиков разные железяки, ящики, черно-пыльные горки угля, и теперешний груз – живое пахучее зерно – приятно волновал их. Да и чье сердце не вздрогнет, не захлебнется радостью – при виде такого обилия хлеба? Будь ты и пуще того горожанином, отродясь не сеявшим и не жавшим, а увидишь вороха пшеницы, что египетскими пирамидами возвышаются на полевых токах, услышишь, как туго льется в деревянный короб машины ее тускло-золотой поток, поймаешь запах хлебной пыльцы, пряный, щекочущий ноздри, – и проснется в тебе затерянный в поколениях хлебороб, для которого свежее зерно во всех отношениях дороже кирпичного из булочной хлеба. Большое это счастье для народа – богатая жатва!
Шофера окликали и Колюхова, но он теперь не отвечал на их шутки, не улыбался, как давеча, скользил взглядом по машинам, по лицам, следил, как лихо раздавал им Родинов розовые квитанции, – наверное, потому розовые, что первый хлеб посылали поля государству, – и выбирал, с кем же из них уехать на станцию.
Но тут подкатил порожняком Петро. В нечесаное смолье волос понабилось мякины, на рябом лице кривыми мутными дорожками стекал пот, и оттого зубы казались особенно белыми и плотными. Он коротко посетовал на скоропалительный отъезд Федора Андреевича, велел садиться в кабину вместе с чемоданом – места хватит – и пошел отдавать весовщику обратные квитанции.
Колюхову было слышно, как Родинов спросил, зачем они вообще пригласили «этого», то есть его, Колюхова, сюда в Сычовку, на что Петро состроил ответ из двух пунктов:
– Во-первых, захотел человек и приехал, во-вторых – тебе до этого дела нету, приглашать – не приглашать, с тобой никто советоваться не будет.
– Да я так, по-хорошему. Уезжает-то быстренько.
– Опять же не твоя печаль. Для всякой ты дыры затычка, пора бы уже мужиком быть. Подмел бы лучше весовую, людей стыдно.
– А ты не учи, учитель.
– Не научи таких да пусти по миру – хрен, не кусочки.
Не слушая, что ответит весовщик, Петро пошел к бачку, неторопливо попил, вытер тыльной стороной ладони губы и вернулся к машине. Уважительно, как возница мерина, похлопал рукой по радиатору, посидел минутку, сгорбившись над баранкой, будто набираясь решимости, вздохнул, спросил:
– Что ж, поедем, Федор Андреевич? – и мягко взял с места.
– С Катей не хочешь попрощаться?
– Надо бы, да она, поди, на работе?
– Какая сейчас работа для баб? Это кто на ферме. Остальные больше по лесу шурстят. Катюха с детьми тоже подались за брусникой. Зайдем, может, вернулась?
Петро тормознул у ворот ладной, недавно обшитой «в елочку» избы, брякнул щеколдой – заперто, нет никого.
– Зайдем, посмотришь, как живу.
– Чего заходить? Поедем. Живешь ты ладно, по воротам вижу. И хозяйка у тебя молодец!
– Плохих не держим, – улыбнулся Петро. – А то зайдем?
– В рейс опоздаешь. Вон солнце скоро сядет.
– Теперь для нас лишь бы дождя не было – на все ночи работы хватит, – сказал Петро, но, посмотрев на низкое солнце, подумал, наверное, что неловко вводить позднего гостя в избу на чужом селе, и сел за баранку.
– Что ж, ехать так ехать.
Машина опять неторопливо покатилась по улице. Мужики молчали.
– Ты чего, Петя, нахохлился? – спросил Колюхов, понимая, что Петру неудобно вот так вывозить его из деревни. – Чепуха все, – добавил он, желая и его ободрить, и себе уверенности придать, а может, и надеясь выслушать сочувствие своей неприкаянности.
Но Петро сказал совсем другое:
– Да вот соображаю: прицеп взять, да мороки с ним.
– Платят больше с прицепом?
– Копейки... Не в этом дело...
В чем дело, Петро не стал объяснять, но Колюхов и так понял его: пока жив человек, должна биться в нем сила, толкающая его повыше, приподнимающая над заботой о простой сытости, горячившая бы жизнь. И главное тут – работа: трудись с выдумкой, с удалью, на пределе сил за что бы ни взялся, будь всегда первым в своем деле, и тогда все остальное приложится к твоей судьбе: будет и достаток, и покой, и добрая слава. Расти хлеб, строй дома, делай машины, сажай деревья – все зачтется, все оправдается. И все это теперь человеку доступно. Каждому человеку.
Но он тут же спохватился, что самому ему уже и не поработать так, и ничего у него уже не приложится, и если осталось что, так только искать по памяти Федюньку в крапиве...
Он попросил Петра ехать потише и стал смотреть на уплывающую по бокам машины деревню пристально, будто стараясь запомнить каждый кустик, каждый заплот, каждого ребенка на улице. На выезде, возле бывшего дома, он издали увидел Филиппушку. Тот стоял в привычной кожанке, облокотившись на прясло и попыхивал трубочкой. Колюхов отвернулся и сказал Петру:
– Гони!
Петр прибавил газу.
XI
Филиппушка тоже заметил Колюхова: он показался ему поникшим и злым. Видел-то всего секунду, а так и отпечатался в памяти – темный пиджак, расстегнутый ворот белой рубахи, из ворота широким пнем вырастает все еще крутая шея, а на ней покачивается белая голова с тяжелой, будто оплывшей мордой – спит не спит, и живые не такие.
Выперли-таки гада! – мысленно обрадовался Филиппушка. – Выперли! Это и надо. Это хорошо. На кой черт он кому тут нужен? У села своих забот полно. В каждой избе собственные печали, собственные радости. Тем же племянникам надо вон уборку торопить, да еще по дому убираться – скотина там, огороды, дети, курицы, – каждый за это еще обеими руками, глупый, держится, как за настоящее счастье, па кой черт им этот элемент! И выперли. Выставили за ворота и след замели. Обрадовался, приперся... Да катись ты!..
Филиппушке захотелось поделиться с кем-нибудь этой радостью, но не идти же к соседям. И он зашагал в степь, на свое любимое место.
Его охватило ощущение праздника – широкого и крылатого. Щедрые краски полей, деревьев и неба, которые Филиппушка давно уже скорей угадывал, чем различал, вдруг вспыхнули в его глазах первобытно свежо, как на пасхальных крашенках, все звуки в природе прояснялись и сделались слышными каждый в отдельности – и звон жаворонка, и стрекотанье кузнечиков, и шепот пшеничных колосьев. И ему показалось, что он становится невесомым и парит над всем этим, легкий и светлый. И в то же время он шагал по дороге, навстречу ему шли машины с хлебом, расцвеченные лозунгами и флажками, и он приветствовал шоферов поднятой к козырьку рукой, будто принимал парад.
Шоферы не отвечали ему, думали, наверное, что он просто закрывается ладонью от слепящих лучей заходящего солнца, и проезжали мимо, обдавая Филиппушку облаками пыли.
Когда сел Филиппушка, понял: устал. Сердце куда-то провалилось, в глазах мутнело. Первоначальная радость от изгнания Колюхова прошла, подступила равнодушная пустота. Ледяной болью ныла голова, тяжелели кисти рук, сладко немели ноги.
Он никак не мог понять, что с ним и почему так быстро меняется все вокруг: чуть смежи глаза, открой – и солнца нет, еще – и дорога совсем темная...
Это сон меня долит, – решил он. – Чего это я, дурак, сам себя изводил? Подумаешь, персона какая объявилась – Колюхов! Да мы таких – в клочья...
Перед его глазами поплыли, меняя друг друга, короткие видения: то он видел себя на коне с шашкой наголо, то вдруг оказывался раненым на сером осеннем поле, а эскадроны уходили вперед, то вдруг – сидит в кругу ребятишек у речки, и рыжие мальчишки и девчонки свистят в зеленые свистули, то опять что-то другое. А свистули все свистят, свистят...
Степь смеркает. Заря еще горит, а луна вышла большая и желтая. Пахнет нагретая дневной жарой пшеница. Стенные кузнечики не могут прийти в себя и сверчат без конца на одной ноте, как сломанный сельсоветский телефон. Где-то далеко тарахтит телега, и бабы, возвращаясь с поздней полевой работы, дрожащими голосами, очень чистыми в вечерней степи, поют протяжную, разноголосую песню.
Слов Филиппушка разобрать не может, но он знает, что это песня про молодого бойца, упавшего к ногам вороного коня, и он будто подпевает им, и ему хорошо.
Он лежит навзничь на теплой земле, ему мягко и удобно, а все-таки думается: не надо было сегодня приходить сюда, не надо – смысла нет. Надо было дома поспать, вон ведь все как славно образовалось...
И он говорит уехавшему в неизвестность Колюхову:
– А все-таки хорошую мы жизнь построили! Назло тебе – хорошую...
Над ним снижается синее-синее небо с немигающими плоскими звездами, большими и красочными, будто вырезанными для елочных украшений. В середке каждой звезды нарисовано что-то тайное, заманчивое, что обязательно надо узнать. Но разглядеть его Филиппушке мешает одинокий цветок, наклонившийся над самым лицом его, и нет сил отвести его, этот цветок, который теперь, при луне, кажется черным.
notes
Примечания
1
[1]Товарищество по совместной обработке земли.








