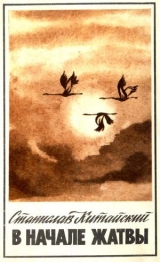
Текст книги "Повесть "В начале жатвы""
Автор книги: Станислав Китайский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
После этого она стала шастать в Филиппушкину развалюху чуть ли каждый вечер и однажды осталась совсем, не захотев слушать вечных укоров матери и визгливых требований младших сестренок и братьев. Осознав себя хозяйкой, Матрена востребовала у соседа Филиппушкин надел земли, раскопала огород, насадила цветов под слепыми оконцами, позатыкала, позабивала дыры в избе, молодой кобылой тянула на себе всю эту скудность к хоть какому достатку, но ничего у нее не получалось, хоть и наймовалась еще в богатые дома на любые работы.
– Ты-то, ты-то где?—кричала она в отчаянье на Филиппушку. – Мужик – мать твою в душу! Голожопыми, ходим, иссохла вон вся, как доска, а он лежит корягой на дороге. Возьмешься ты за ум когда ни то? Любой нищий богаче нас. Про что ты думаешь?
– Я не мироед, – отвечал ей Филиппушка, – я – пролетарий духа! Мне ничего не надо. Все эти оковы мы разрушим. Непременно!
Эти слова вместе с другими такими же непонятными, но весомыми каким-то чудом долетели до Сычовки, и Филиппушка прочно усвоил их, как когда-то в детстве усвоил «отче наш» – безоговорочно, твердо, не вникая в смысл.
Федор же Колюхов не завидовал себе потому, что богатство не принесло ему счастья. Того счастья, о каком мечтал он, коротая зимние вечера на посиделках в Филиппушкной избе.
Повзрослел Федор рано, гораздо раньше своих сверстников. Что было причиной тому, сказать трудно, потому как все ребятишки в крестьянских семьях росли на равных: всех при родах с одинаковым равнодушным вниманием принимала одна и та же повитуха, всех прикармливали с одинаково закисших рожков, примерно одних месяцев вставали все с четверенек на кривые ножки и таскались по улицам и заулкам, придерживаясь за подолы большеньких сестер или малолетних нянек до тех пор, пока однажды отец не скажет:
– Ну, мужик, завтра в поле. Боронить будешь. Я таким уже вовсю боронил.
И пойдет с той поры: вода, дрова, навоз в стайках, снег из ограды, копны на покосе, кони в ночное – все тебе, мужик. Одни игры, одни разговоры, одни наказания от учителя и дома, а там глядь – кто ребенок еще, а кто мужичок совсем.
Головатый, коренастый, в отца малословный, а в мать веселый, Федор легко укладывал на лопатки ребят старше себя года на три-четыре, и они приняли его в свою компанию. Правда, приняли не до конца, а со сверстниками ему было неинтересно, и он оставался как бы сам по себе. Постоянно привык и в драках и в работе рассчитывать только на себя, на свою силу и сметку. Замечая это, отец коротко одобрял:
– Это дуры-козы табунами, а медведь один завсегда, потому он и хозяин в тайге. Сильному да умелому друзья ни к чему. Он всем в друзьях нужон.
Так оно на деле и получалось. Чем старше становился Федор, тем необходимее делался он в кругу парней, хотя сам в верховоды не лез. Затевалась игра вроде снежного городка на масленку, или устанавливались качели на пасху, он – главный строитель и распорядитель, задумывается драка с зареченскими – тут без Федьки никак нельзя: его жердью с копылков не сшибешь, а сам дерется, как работу делает.
Кажется, не было на свете дела, которого не знал бы Федор, – такой уж ему талант был даден. Возьмется телегу мастерить – вот она, телега, любой не уступит – прочная, легкая, где надо, медово проваренная в дегте, с обрыва кидай, не разобьешь, сапоги наладится тачать – не хуже городских, коня кузнецу подковать не даст – сам. И все играючи, смешком.
– Счастливая та девка будет, что захомутает его,– говорили о нем бабы.
И сам Федор считал так же: должна быть счастливой!
Ухажерка уже наметилась – Наталья Галаскова. Усек ее Колюхов давно, выделил из остальных за греховно-спелую красоту и ершистый норов. Из этаких жены любые и хозяйки дельные, только покрепче в руках держи.
Наладил ей как-то Федор самопрялку. Самопрялка – штука такая: она может безотказно прясть любую нитку от тонюсенькой из чесаной-перечесаной кудельки до вала, нитки грубой, дерюжной, даже связанная веревочками, сколоченная гвоздями и вообще держась черт знает на чем. А то вдруг закапризничает самая лучшая из них – фигурно точеная, без единого гвоздика нарядная прялочка, смазанная и отлаженная – и ни с места, и тут как ни бейся, пока сама не переупрямится, прясть не будет.
У Натальи прялка была не из лучших, но ладная. Ровно мурлыкая, она мерно тянула из белоголовой кудели нитку. И вдруг раз!—вот она – заела. Наталья и так и сяк – не идет. Федор, тогда двадцатилетний, поспешил на помощь. Наклонившись из-за Натальиной спины, следил за судорожными взмахами мотовильца, пытался найти причину неполадки. Наклонился он, видно, слишком низко, так что Натальины волосы щекотнули ему щеку и пьянящий свежий запах белой и гладкой, как яблоко утром, девичьей шеи вдруг затуманил глаза, и сердце стало гудеть, как колокол на пасху.
Прялку он наладил. Но в тот же вечер его бережливое отношение к Наталье, как к невесте, кончилось, попер напролом, что бык, опившийся самогонной браги. Наталья не ломалась, пошла ему навстречу легко, даже с каким-то вызовом: хоть ночь, да моя, а там – провались все пропадом!
– Женюсь, Наташка, вот те крест – женюсь,– божился Федька,– ты меня знаешь: слово – олово.
– А хоть и не женись, – отвечала она. – Не укорю. Найду другого кого, в вековухах не останусь. А ночку эту запомню. На всю жизнь запомню. И когда елочками дорогу выстелят, помнить буду.
– Ты это брось – про другого. Слышь, брось! Я тебя никому не отдам. Ты моя. Мой, понимаешь? Не отдам!.. Как мы жить с тобой станем, Наташка! – аж дышать нечем.
Сколько раз потом, обнимая Наталью в свежих копнах сена, он видел свое счастье ясно, как звезды над головой. Она верила его скупым словам, таким горячим и простым, и смеялась, и крутила головой, будто хотела зарыться лицом в его грудь.
– Врешь ведь, а сладко...
– Не вру. Люблю я тебя. Без тебя никак нельзя. Вот этой осенью и окрутимся. Чин по чину.
Но тут Федора забрали воевать до сказочности далеких и страшных германцев.
Когда в восемнадцатом он вернулся, отца уже не было в живых. Недавно еще ладное, хоть и небольшое, хозяйство стояло порушенным, и новому хозяину надлежало поднять его.
Кряжистый, с потяжелевшим за войну взглядом, он вечерами грузно садился на отцовское место за столом, неторопливо расстегивал на шее медные пуговицы линялой солдатской гимнастерки, ронял на столешницу большие коричневые руки и молча ждал ужина. Мать не решалась в эти минуты тревожить его словами, а Пелагея, уже вовсю невестившаяся, спрашивала громким шепотом:
– На вечорку пойдешь? Наталья заказывала.
– Не до вечерок. Тут, как дожить до завтра, не знаешь!..
Гуляла по земле гражданская. Гуляла, выбирая для кровавых пиров своих места полюднее, поближе к городам и большим дорогам, а глухие, вроде Сычовки, места только задевала своими крыльями, выметая оттуда достаток, что на виду, и мужиков, которые покрепче и помоложе. И погибнуть бы Федору где-нибудь на, Украине, сдвинув на глаза черную махновскую папаху, или упасть под белой пулей в сыпучий сибирский снег, но четыре года войны – голод, вши, немецкие снаряды и полесская гниль окопов – научили его солдатской мудрости: отсидись! И он сбегал от всех мобилизаций – от белых и красных. Ночевал и в стогах, и у чутких лесных костров, возвращаясь домой, каждый раз рисковал угодить под расстрел, но не попускался, проносило – и слава богу. Какие тут вечерки? И еще одну мудрость вынес он с войны: для жизни одной любви мало. Любовь хороша, когда за углами целуешься, а дома не зазноба нужна, а жена, хозяйка. Та любовь, что «до гроба», на поверку оказалась короче воробьиной песни. Доводилось Федору ночевать с солдатками, только что проводившими мужей на войну, и, ворочаясь на еще не остывшей от хозяйской головы подушке, слушать смешливые рассказы о недавней горячечной любви. И в рассказах этих Федор с цепенящим удивлением узнавал свою историю с Натальей – почти те же слова, почти те же объятия, прогулки, упреки. Неужто у всех все так же? Значит, и Наталья где-то там с другим? Стало быть, и нету никакой любви, а есть только дурь, морок, наваждение сумасбродное, временное. А коли так, то и не надо его вовсе... И когда замирилось малость на земле и пошли по деревням надрывно-веселые свадьбы, Федор женился не на Наталье, а на богатой Анне Денисовой, взяв за ней в приданое пять десятин земли, корову, лошадь и изломанную жатку австрийской марки.
Анна была девка не из последних – и статью удалась, и рожей не в лягушку – баба как баба, – а не будила в сердце никаких таких притягательностей.
«Ничего, – уговаривал себя Колюхов, – стерпится – слюбится!»
Но не слюблялось. Во сне он, бывало, называл Анну Натальей, тогда Анна плакала, а он вставал с постели и шел к хозяйству и работал, работал, стараясь потом выгнать из себя дурь. И Анну заставлял работать, не меряя сделанного, а потом и детей. Достаток рос, ширился, а счастье не приходило.
Он становился все смурнее, все неразговорчивей год от года, начал быстро стареть, и все в селе стали величать его Федором Андреевичем. Пропал для деревни когда-то покладистый и нужный всем Федька Колюхов.
– Заела тебя проклятая частная собственность, – говорил ему в минуту неверного примирения свояк Иван Самойлов, – и погубит она тебя окончательно. Как пить дать! Федор! Ах, Федор... Иди, дурак, к нам в коммуну. Плюнь на все и иди. Человеком будешь. У тебя же руки золотые. Голова на плечах. Видишь, куда жизнь воротит? Вот то-то! Смотри.
Колюхов отмахивался от него:
– Не лезь, Иван... Что ты обо мне знаешь? Коммуна, коммуна. Я же не подговариваю тебя бросить коммуну и подаваться в кулаки. Живи в коммуне. А я уж сам, как умею...
III
В эту ночь Филиппушке не спалось. Может быть, оттого, что раньше времени вернулся с поля, нарушив тем самым привычный уклад, он дотемна не мог найти себе места.
Проводив взглядом вдоль по улице пылящую легковушку с Колюховым, он еще постоял у ворот, поразмышлял о несообразностях судьбы – об этом выброшенном кулаке в Сычовке и понятия не имеет уже никто, а он возьми и объявись, да еще и трепыхается какого-то хрена, персону из себя корчит. Какое такое право имеет он на это? Уничтожили тебя как класс, вот и не смей!.. А то начнут вот так оживать всякие – что будет? Живое кладбище? Нет уж! Что ушло – ушло, и возвращаться не к чему.
Ему надоело торчать пеньком у ворот, зашел в ограду. Неожиданно для себя зачем-то взялся прибирать во дворе, в котором никогда не убиралось и все поросло густыми зарослями крапивы и татарника – травы зловредной, колючей. Эта бурьяновая дичь не мешала Филиппушке, даже скрашивала жизнь. Татарник растение видное: на крепких сизых стеблях малиново светились частые, большие и малые, тугие цветы. Пахнут они тонко, как никакие другие. И даже в полдень родниково свежие и яркие. Пчелы, шмели и еще быстрокрылые, умеющие подолгу стоять на одном месте пестренькие мушки слетались во двор в неисчислимых количествах и гудели, звенели тут, жужжали и гундосили, жадно припадая к сладким и красивым цветкам. Зимой, когда ограду заметало снегом, ветры выбивали из пересохших крапивных метелок и татарниковых бубенцов мелкие семена, и в ограде было полно воробьев и разномастных синиц. Наблюдать за ними было очень даже любопытно. То есть заросли эти даже нужны были Филиппушке. А тут вздумалось выкосить. Он поискал-поискал косу, может, где завалялась, не нашел, наткнулся только на заржавевший серп под застрехой, но не станешь же серпом жать эту жалючую пакость, и бросил серп в дальний угол сараюшки.
Около крыльца лежала опрокинутая сучковатая чурка, – у пионеров, игравших в тимуровцев, не хватило сил расколоть ее, и она служила Филиппушке скамеечкой, – места как раз для одного. Он сел, прислонился спиной к теплой еще стене, сунул в беззубый рот трубку и, прикрыв глаза, не то задремал, не то просто обездумел, и сидел долго, пока не село окончательно солнце и не прошло мимо избы стадо. От стада пахло парным молоком.
Поесть бы чего, подумалось Филиппушке. Но он знал, что в сундуке, где прятал съестное от мышей, остался только черствый кусок, а ради него вставать не хотелось. Обычно, возвращаясь домой, он «заворачивал» на колхозный огород и нарывал себе, стараясь не повредить кустов, картошки штук десять-двенадцать, сколько войдет в карман тужурки, ее и хватало на ужин и на весь следующий день – с солью, с хлебом, запивая водой из алюминиевой кружки. Это в крайности, когда занедужит или со временем не поладит. А в добрые дни дома не сидел, уходил в лес или на речку, набирал на жареху обабков или ловил рыбу на уху. Если улов выдавался счастливым, тогда он нарочно медленно проходил мимо чужих изб, держа кукан с рыбой немного на отлете, чтобы все видели его удачу и просили продать «карасиков».
– Дура ты, – отвечал хозяйке Филиппушка. – Где ты тут карасиков увидела? Караси – тьфу! – тина. Здесь ленок вот, хариус – рыба царская. Понимать надо.
– Да уж ладно,– отмахнулась хозяйка,– давай. Денег-то нету, я тебе молоком отдам. Да не жалей! Она тебе обрыдла, поди, рыба-то. А я внучкам зажарю, давай. В мучке ее обваляю да со сметанкой – лю-ю-бят! А ты молока, шибко пользительно для стариков. Молоко у меня, сам знаешь,– гольные сливки.
Филиппушка с сожалением рассматривал свой кукан и вздыхал.
– Здесь килограмма три будет...
– Троится у тебя в глазах: от силы полкило. А крынки молока тебе на два дня. Чего раздумывать? Давай. Молоко потом занесу, не то опять крынку забудешь вернуть. А денег нету, нету – и не смотри на меня...
Чаще других покупала рыбу соседка Лександра, высокая и большая баба из тех, кого работа не сушит, не гнет, а только прибавляет силы и уверенности. Иногда она приносила Филиппушке банку молока просто так, за здорово живешь. Ходила за водой к колодцу, что стоял на бывшем Филиппушкином огороде, и, видимо, чувствовала себя обязанной. Брали воду и другие, но отблагодарить никто больше не хотел, да Филиппушка и не требовал: колодец был на общем попечении, а вырыл его не он, а еще Колюхов. Вода в колодце отменная: чистая, холодная и особо вкусная. Считалось, что и чай с нее не в пример другим. Бывало, больные старухи, капризничая, требовали чаю только из Филиппушкиного колодца, и дочери или невестки тащились с ведрами аж вон куда. Так его теперь и именовали – Филиппушкин колодец,– потому как при хозяине редко кому доставалось испить из него, а тут любой заходи и черпай.
«Какого дьявола он приперся? – продолжал недоумевать Филиппушка по поводу приезда Колюхова. – Не надо было ему приезжать. Не надо, и все! Вредный элемент: подохнуть не может, чтобы не досадить людям. Явился – встречайте!»
Вообще Филиппушка терпеть не мог, когда в Сычовку приезжали на жительство чужие. А их с каждым годом перло все больше – то агроном какой, то механик, учителя опять же, а то просто доярки и трактористы. Все это долго не задерживалось: обернулся, и нет его, глядишь – другие привалили. Новые избы в Сычовке не строились, это теперь чуть ли не каждый пятый дом новый, а тогда – нет, жить приезжим было негде, и все к Филиппушке: пусти на квартиру, ты один, изба большая. Пускал. Квартирант и дров подвезет, и керосину купит, когда и поговоришь с ним – все веселее. Но больно уж народ ненадежный, вольный. Перекати поле, одним словом. Вот как-то поставили к нему одну. Молодая еще. Крашеная. Из Ленинграда сама. Сосланная тунеядка, гулящая, значит. Ох, и натерпелся он с ней. Язык, что твоя бритва, ты ей слово, она тебе десять. Каждый вечер мужика, которого под мухой найдет, сюда волокет. Пьют, шубутятся чуть ли не на глазах, за стенкой вон, в закутке. Срамота. Пробовал урезонить – куда там! Не уважала совсем, шваброй старой называла. А один раз коленкой под зад как поддала, так с крыльца до ворот летел, руками махал. Про это он даже милиционеру не сказал, неловко. Потребовал выселить, и выселили. И никаких больше квартирантов!
В былые времена Филиппушка уважал приезжих, любого со стороны почитал неизмеримо выше своих сельчан. Да и было кого уважать – начальство! Каждый отличался нездешностью манер и речей, был смелым, крутым, безоглядным. У него тут ни свата, ни брата. Принципиальный. И Филиппушку каждый ценил, нуждался в нем, вводил в свой круг. Чужому не так легко разобраться в сельской путанице, а Филиппушка ему все как на лопате выложит и провернет все, на что тот только намекнет, самым твердым образом. Вот тебе и почет и уважение.
Теперь другое: приедет кто, так норовит не выделиться, своим сделаться всем и каждому, в струю попасть. Оттого и глупости делает. Чужими глазами на мир смотрит, подсказками живет, и сразу ты у него и лодырь, и дурак. А что бы знал? Классовое чутье у него затупилось, где белое, где черное, не видит, а понимание жизни куда как быстрое! На заслуги твои, на высокие мысли душевные ему наплевать. Все превзошли! Лодырь! Забыли, что беднота есть ударная сила, потому как терять ей нечего. Так и случилось. Кто ходит барином, у кого скотины полный двор, да машина, да мотоцикл, да ковры по полу – тот и наверху сегодня. Откуда это пошло? Вот ты разберись сначала, пойми машину в человеке, усеки, что двигает им, а потом руби. Так нет ведь! Вот и Колюхов этот. Ему такое дело – маслом по душе. А кто он такой, Колюхов? Кулак, вражина лютая, и больше никто. Ведь это он, Филиппушка, если разобраться по-доброму, должен в легковушках раскатывать, рубахой белеть, с городских ботинок пыль сметать. Он. Хоть это ему и ни к чему. Заслужил. Опять же – нет. Давно ли ты обрез выбросил, контра ржавая? – спросить бы этого гада. – Давно ли перестал Советскую власть в спину ножом пырять?.. Сообщить бы куда следует, да тем же путем и обратно. Только и сообщать теперь некому, некуда... И еще: в Сычовке никто и последнего дурака в лицо дураком не назовет, поговорит вроде как с ровней, голодного накормит, печального утешит, никто не рявкнет «кыш!» – пожалеет. У приезжего жалости нету. Приезжий – он горазд на скорые выгоды – вынь да положь. А от тебя какая выгода? И знать тебя не знают, и знать не хотят. А ты потолкуй со мной по-хорошему, порасспроси что к чему, тогда и суди. Глядишь, глупостей меньше натворишь. Так нет – куда там!..
Затрещала калитка. Она не открывалась, нижний навес сломался, и стояла косо, образуя со столбом узкий треугольник – Филиппушке аккурат пройти, а если пролазил кто рослее хозяина, то просто отгибал ее сверху, и тогда она трещала в еще живом замке. Если бы ходили почаще, она давно отломалась бы, а так стоит и стой она.
На этот раз – в калитку пролезал кто-то большой, неловкий. «Колюхов!» – вдруг показалось Филиппушке, и он начал вставать, готовясь к чему-то противному. Но это была Лександра.В сумерках она казалась еще больше, чем на самом деле. Парусиновые мужские башмаки стояли на земле твердо, плотно – не башмаки, а два трактора, простые чулки обтягивают столбы крепких ног, широкий подол темного, в белые цветочки, платья застит полмира, солдатский поношенный китель на плечах вместо френчика, на седой голове платочек шапочкой, в ладонях скрылась – чуть-чуть белеет литровая молочная банка. Кажется, будто Лександра не вошла, а просто выросла из земли. Работница. Воительница.
– Ты чего огня не зажигаешь? Аль ночевать тут собрался? —спросила она. – Смотри-ка, какое тепло с поля тянет... Вот молочка тебе, подоила только. Пока то да се – глядишь, стемнело. Целый день как воду в ступе толчешь: ни пены, ни шелухи. Ну пойдем в избу-то! Некогда мне с тобой зоревать.
Лександра первой взошла на крыльцо, прошагала по гулким сеням, открыла тяжелую дверь и перешагнула порог. Филиппушка покорно шел за ней.
– Где тут включатель у тебя?
Она безошибочно нашарила выключатель и зажгла яркую, хоть и запыленную лампочку.
– Господи! – аж глаза режет. Зачем тебе такая крынка? – кивнула она на лампочку. – Вышиваешь, что ли? Столько свету зазря переводишь, его ж кто-то делает, не само собой берется. Поберегал бы... Вот добро. Скажи! А мы, дураки, при лучине и пряли, и стряпали. Зажги-ка теперь лучину – хуже темноты. А видели как-то.
Лександра между разговором отыскала на полке щербатый, черный от старости глиняный кувшин, деловито дунула в него и перелила молоко. Фартучком смахнула со стола невидимые капли, обтерла донышко и поставила кувшин на уголок.
– Пей на здоровье.
От ее присутствия, изба сделалась не такой пустой и гулкой, вроде даже теплее стало и запахло домашним, жилым.
– Посиди, – пригласил Филиппушка.
Лександра оглянулась на табуретку и села на краешек ее.
– Ты откуда это сегодня таким барином прикатил? – спросила она и испытующе посмотрела на хозяина.
– Да так. Подвезли.
Филиппушке хотелось сказать, что привез его домой кто-нибудь из начальства, и в другой раз он так и сказал бы, но теперь решил удержаться.
– В район, поди, ездил, чтоб пенсии прибавили? – не унималась Лександра. – И то – надо. Что же это в самом деле. – двенадцать рублей это какие деньги – копейки! На них разве проживешь? Я получаю двенадцать, так они мне куда – хозяйство свое, а если что там купить, так дети зарабатывают. Мои так и лежат. Когда надо, достану, дам. Семен вон задухмал этот «Урал» купить. Надо ему помочь? Отдам. Мне они куда? Не твоя печаль...
Филиппушка молчал. Лександра стала оглядывать избу, будто впервые видела ее, а ведь сама и мыла, и белила, и каждый закуток знала лучше хозяина.
– Двенадцать тебе-то совсем мало. Я вот слыхала, бывшим активистам большую пенсию дают. По сто рублей даже. Может, и тебе бы прибавили? Чем ты хуже.
– Не ездил я, – сказал Филиппушка. – Просто подвезли.
– А кто еще сидел в машине, не директор? За избу-то твою ничего не говорил, кому отойдет?
– Какой директор? У директора машина персональная. Даже две – «газик» и легковушка. А это нанятая. За деньги. Станет тебе директор нанимать. Оy начальник, ему положено. А на таких всякие гады катаются, которым денег девать некуда.
– Так кто же тогда?
– Кто, кто! Колюхов, вот кто.
– Какой Колюхов? Вот... Федор, что ли? Нечто жив еще?
– Выходит, жив, раз приехал.
– Вернулся... Вот он-то назад свою избу и заберет... А изба еще добрая.
– Не заберет. Правов таких не имеет.
– Ой, слыхала, отдают им назад добро ихнее. Будто считают – ошибка вышла и отдают. Теперь уже мало таких-то осталось. А тут – на тебе! – вернулся.
– Никакой ошибки не было. Ликвидировали как класс. Это понимать надо. Не случись этого, до сегодня лучину жгла бы. А мало они нашего брата погубили? Кожу драли с живых... Ошибка! Ошибки не было.
– А еслив отберет, куда ты денешься?
– Не отберет.
– Я-то думала, моя Верка с Семеном сюда перейдут. Вычистили бы все, вымыли, печку перекинули – и живи! Дом-то еще хороший, он еще сто лет простоит. И огород был куда лучше. Настасья покойная в порядке его держала, вы им и жили.
– Не отберет, – повторил Филиппушка.
– Пошто же он приперся? Ни детей тут у него, ни родных. Пелагея-то Самойлова, сестра его, еще третьего года померла. Да и с ней они жили, как кошка с собакой... Имеет, стало быть, цель какую-то.
– Черт его знает. Племянники есть...
– А-а, племянники! Нужен он племянникам. Теперь и родные дети от родителей отказываются. Вон Мария Куклина выгнала мать! Да что говорить... Тебе-то девки так и не пишут, не зовут в город жить?
Она знала, что дочери Филиппушке не писали и вообще не давали о себе знать, но спрашивала об этом каждый раз, как бы жалея Филиппушку. – Вот дети-то пошли ноне. Вот дети! Не приведи господь.
После этих слов ей надо бы уже уходить, так как говорить вроде бы не о чем. Да и есть Филиппушке хотелось все больше. Но Лександра не торопилась. Она с любопытством разглядывала портреты и цветные картинки из журналов, налепленные на стенки, поскребывала ногтем грязь на столешнице, думала.
Филиппушка не утерпел, плеснул в алюминиевую кружку молока.
– Значит, вернулся, говоришь... Какой он из себя-то?
– Пузатый. Буржуй как буржуй. Каким ему еще быть?
– А я его помню молодым еще. Красивый он тогда был. Здоровущий такой, гимнастерка на груди чуть не лопается, чуб на лоб – кудрявый.
Лександра помолчала минутку. При этом крупное лицо ее приняло выражение снисходительно-сладкое, будто усмехалась, а глаза остались горестными.
– На свадьбе у него была. Под окном стояла. Всю ночь потом проплакала, что не мне достался. Он мне но росту подходил. Влюбилась, видать, дура. А была-то мокрушей, прости господи, лет тринадцать или четырнадцать... Скажи, прошло столько лет, а помню... Так ты, Филиппушка, не отдавай избу-то, не отдавай, и все! Ты вон Советскую власть завоевывал, имеешь право. Пусть попробует!
– Не отберет, – сказал Филиппушка.
– Я первой за тебя восстану. Где это видано – избу ему! Рабочим жить негде. Не-ет...
Филиппушка удовлетворенно помолчал.
– Ой, что ж это я,– всполошилась Лександра.– Потеряли, поди, меня уже дома. А я сижу и сижу. Бежать надо.
– А то посиди, куда спешить? – сказал Филиппушка.
– Да дома хоть ночь не спи, все работа находится.
Она взяла со стола пустую банку, сунула ее под серый передник и откланялась.
Филиппушке и вправду не хотелось, чтобы она уходила. Пусть бы сидела, трепала свою чепуху, разгоняла какие-то неясные тревожные мысли. Бабьи слова – они пустые, а душу радуют. Но как удержать?
Он закрыл за Лександрой сенную дверь, набросил крючок, достал из сундука кусок хлеба, поел, потом снял тужурку, повесил на гвоздь, на ней укрепил картуз и только тогда прилег на неразостланную кровать. Устал. В левом боку, там, где сердце, что-то тонко щемило.
Филиппушка знал, что сегодня долго не уснет.
IV
По случаю приезда дяди в избе Самойловых накрыли праздничный стол. Немудреная закуска разложена на тарелки – мятый зеленый лук с розово-белыми кружочками редиски, только что с гряды белобокие огурцы, красные глянцевые помидоры, окрошка без мяса – где его летом взять? – все издавало запах огородной свежести, и глазу приятно было смотреть.
– Смотреть приятно, а есть нечего, —возразила на похвалу Колюхова Анна, жена племянника Василия, хозяйка дома. – Может, Васька консервов каких принесет. Где его черти держат? Полночь скоро.
Анна красивая, богатая телом и на улыбки щедрая, но с характером – никто, видать, ей не указ, сама себе голова. Серые глаза от возбуждения зелеными кажутся, губы спелые. Молодая. Должно, военная уже. Говорила из чьих, да Колюхов так и не понял. Анна, ну и ладно.
– У нас все это лакомство. Вот такой пучок луку двадцать копеек. Два рубля по-старому. Черт знает как дерут! – говорил он так, чтобы только не молчать.
Ему было неловко оттого, что все это затеяно ради него, не знакомого ни племянникам, ни их супругам, которых ждали с минуты на минуту, и оттого, что малолетки еще не спали, толкались в закутке, в десятый раз переделивая его нехитрые подарки, но виду старик не подавал. Сидел неподалеку от расцветающего стола с домашней важностью, будто не он в гости привалил, а к нему собираются, на хозяйку смотрел, будто заранее знал, как повернется она сейчас и что скажет, и беседу вел с уважением и к ее словам и к своим. И только незначительность разговора, лоскутность неопределенная его, выказывала неуютность и волнение Колюхова.
Хозяйка понимала гостя, но не баловала внимательной предупредительностью – некогда, потом, – сновала от плиты к столу, от стола к буфету, отвечала на вопросы, звенела вилками, покрикивала на детей и все поглядывала на дверь: почему не идут? Где Василий?
– А вы ничего живете, ничего, – удовлетворенно сказал Колюхов, будто боясь перестараться в похвале, – дай бог каждому.
– Так не хуже людей. Кто теперь худо живет? Все свое, копейка водится... В городе-то, наверно, и вовсе благодать? Кого там делать? Это мы тут из грязи не вылезаем: то огород, то свиньи, то коровы. А! —хозяйка махнула рукой, будто все это осточертело ей давным-давно и разговору не стоит, но видно было, что она довольна и гордится своим достатком. – Хозяина нету, – пояснила она. – Как назначили этим управляющим, так только ночевать и приходит. Сама работаю и весь дом на мне. А кто дома, те живут!
Она лукавила и понимала, что ее лукавство принимается и не осуждается. Этот тяжелый старик нравился ей своей мужской несуетливостью, и ей тоже хотелось понравиться ему.
Наконец в дверь ввалился Василий с тяжелой сумкой в руке, заранее веселый и шубутной.
– Скучаете? Ну, ничего! Вино, понимаешь, на время страды из продажи изымаем, пришлось в райцентровский ресторан слётать,– объяснил он. – Еле выпросил, через швейцара, – он наш когда-то был, сычовский, может помните Осипа Тарбеева? не помните? Ну и ладно, нечего там помнить, – вот через него только и достал. Пришлось расщедриться.
Он выставил бутылки на стол, нарушив цветастое убранство его, и Анна не выдержала:
– Ну, пошел черт по кочкам. Взял бы бутылку и хватило бы. Пиво же вон есть, обойдетесь. – Она быстро и цепко схватила водочные бутылки за горлышки и унесла в закут. – А поесть-то хоть взял в своем ресторане? – крикнула она оттуда.
– Взял! – откликнулся Василий.– Только колбаса какая-то мокрая...– Он подсел к Колюхову, вздохнул и, ища сочувствия, пожаловался: – Вот, раскулачила нас!—Тут же понял, что не то словечко ляпнул и рассмеялся, но поправляться не стал.
Был Василий весь в отца: с рыжинкой, курносый и круглолицый,– ничего не передала ему Пелагея колюховского, – самойловский парень – в движениях легкий, на слова быстрый, с гонорком. Под началом таких работать – не сахар есть.
– Ты отца-то помнишь? – неожиданно для племянника и для себя спросил Колюхов.
– Да вроде помню. Как во сне. А что?
– Да ничего. Схожий шибко. Вот не видел тебя, а признал бы.
– Об этом мать все время толковала. Не на соседа же мне походить! Давай-ка, Андреич, тяпнем с тобой пока что.
Но «тяпнуть» не удалось. Пришли племянница Катерина с мужем. Была она постарше Василия, но такая же рыжая и подвижная. Подала запросто Колюхову руку, сказала, что рада видеть, и сразу отошла помогать Анне. Петро, муж ее, черноголовый и – редкость по нынешним временам – рябой, деловито представился, сел, как чужой, и сразу полез в карман непривычного выходного костюма за папиросами.
– Где сегодня был? – начальственно спросил его Василий.
– Ячмень с Аргунихи возил.
– Много там еще подбирать?
– Гектар сто. Может, меньше. Добрый ячмень. Дня за два добьют.
Мужики заговорили об одним им ведомых делах, Колюхов смотрел на них и думал, как это оно так получается, что вот Петро, мужик, как видно, с головой, с характером, так легко во всем слушается младшего на добрых пятнадцать лет Василия, будто знает все хуже его, а тот повелевает ему и ничуть не тушуется. На заводе, на стройке – там понятно: кто знает больше, тому и вожжи. А тут? Василий никаких таких наук не проходил, как сам признавался, едва семилетку кончил, Петро тоже грамотный, дурака за машину не посадят, а вот поди ж ты...








