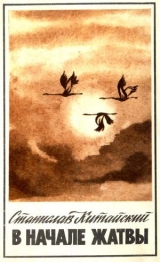
Текст книги "Повесть "В начале жатвы""
Автор книги: Станислав Китайский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Сегодня поплавок несколько раз стремительно и коротко нырял от ударов тяжелой рыбины, Филиппушка ощущал секундную тяжесть на леске, но вытаскивал пустой крючок – брал хариус, его подсекать надо мгновенно, раньше, чем успеет выплюнуть сбитую наживку, а Филиппушка не то чтобы дремал, а как-то одеревенел после бессонной ночи и все время опаздывал. Нетерпеливо меняя наживку, он снова опускал с моста в середину потока легкий поплавок, вода подхватывала его, вертела, топила и выбрасывала уже далеко, внатяжку, относила в омут, прижимала к берегу и плавно тянула глубинным течением обратно к мосту, к самым сваям, где крючок оголяли шустрые малявки, а оборванного червяка хариус не трогал.
Время на рыбалке летит быстро. Всего-то несколько раз успел забросить, а солнце уже припекает, и вот от деревни уже пылит голубой автофургон, «дежурка» за рабочими в разумовскую бригаду едет. Шоферит на «дежурке» молодой мужик Колька Чернигов, чернокудрый, с яркими, почти девичьими губами и огромными серыми глазами на матовом лице, до крайности нахальный и заносчивый. Судили его два года назад товарищеским судом за распутство, жена пожаловалась, а не поумнел, как был кобелем, так и остался. Поскольку ни одна баба не могла перед ним устоять, он привык не уважать их, а потому и с мужиками вел себя, будто всех за пояс заткнул. Этот просто так мимо не проедет.
И точно, на самом мосту Колька затормозил, высунулся из окошка, чвиркнул слюной сквозь мелкие белые зубы и стал смотреть за поплавком.
– Клюет?
Филиппушка промолчал.
– Ты что, оглох, старый черт? Клюет, спрашиваю?
– Клюет.
– Хрен у тебя клюет. Здесь купаются, какая тут рыба? Иди ниже.
Филиппушка молча повторил заброс.
– Говорю тебе, ничего здесь не поймаешь. Ниже, против телятника, чуевский пацан вчера ленка поймал. Килограмма на три выдернул. Иди туда.
Филиппушка не ответил.
– Слышь! Иди туда, говорю!
– Тебе-то что?
– Смотреть противно. Люди на работе вкалывают, а ты дурака с удочкой гоняешь. Так лови хоть по-настоящему. Дачник!
– Мне много не надо.
– Много! – поддразнил Колька. – Кто удит, у того ни хрена не будет. Много!.. Шел бы вон ток подметать, все польза. Или чучелом устройся голубей отгонять,
– Я свое отработал.
Колька секунду помолчал, потом зло сказал:
– Работничек!.. Развелось вас! Мыловарня давно плачет, а они рыбку тут ловят, пенсию получают... Обратно поеду, увижу – силком на ток увезу. Понял?
Машина фыркнула колесами по отставшей плахе настила и уехала. Голубоватое облачко ядовитого дыма упало с моста на воду и медленно поплыло по течению.
Хариус больше не баловался, а у Филиппушки пропал интерес к рыбалке, но он продолжал забросы, пока не увидел на дороге двух баб. Надо было убираться. Эти совсем заклюют. Он смотал удочку, спутился к реке и заторопился скрыться в кустах.
Росы на ветках уже не было, высохла. А может, она только по низам упала? Это вроде бы к дождю. Безросье всегда к дождю, значит, и низкая роса тоже, сказал себе Филиппушка, хотя и не был уверенным в этом, поскольку погодные приметы он теперь часто путал, хоть и знал их не больно много. Дождь так дождь, ему все равно. В дождь, правда, кости больше ломит, зато дышать легче. И клев в дождь лучше.. Это в ненастье ни одна малявка не клюнет, а когда дождь добрый, то лови и лови. Тогда червяк – первая наживка. Кузнечиков Филиппушка не использовал, не видел их в траве, да и прыть не та уже, чтоб поймать эту самострельную тварь, червячок же под рукой, но в жару рыба его берет худо, так что лучше бы дождь.
Он вышел к месту, где когда-то стояла мельница кулака Вахрушкина, взорванная еще задолго до коллективизации. Взорвалась мельница случайно. Безногий Мишка Осокин, бывший артиллерист, вздумал наглушить в примельничном улове рыбы. Водилось ее там тьма всякой разной. Вечно сытая, она на удочку не шла, бреднем не возьмешь – глубина, и сети не поставишь – течением тут же сорвет и превратит в мочалку. Мишка рассказывал, что рвануть тут бомбу он возмечтал еще на фронте, когда вылавливал глушенную австрийскими снарядами рыбу из польской реки Стыри.
– Скучал я тогда по дому шибко, – говорил Осокин Филиппушке, готовясь к взрыву, – глаза закроешь – Сычовка блазнится. Такая охота домой, что хоть помирай. Выбираю я эту рыбу из воды, вода там тихая, теплая, а сам думаю: вот бы на вахрушинской мельнице бабахнуть! Тут же таймени трехпудовые стоят, сам видел. Поверишь, снилось даже, что из пушки по этому улову палю...
В компанию Филиппушку бывший артиллерист пригласил сам. Филиппушка у самой речки пас коров, когда прихромал к нему Осокин с тяжелой ношей в заплечном мешке, и предложил отогнать скот подальше, поскольку могут сдуреть от взрыва и с перепугу убежать в чертов голос. После того, как Михайло объяснил ему что к чему, Филиппушка угнал стадо к самому селу и вернулся помогать.
Пушки теперь у Осокина не было, не было даже настоящей бомбы, но зато была самодельная штука, от которой, по мнению артиллериста, все сычовские тещи поглохнут. Штука представляла собой увесистый чугунок, плотно, впритирочку закрытый толстой чугунной сковородкой и обмотанный для крепости частой сеткой из сталистой проволоки.
В дне чугунка была проковырена тоненькая дырочка, из которой при неосторожном движении высыпался черный охотничий порох. Пороху на бомбу ушло целых пять фунтов. Дело упиралось только в то, как заставить его загореться. Осокин придумал поставить чугунку на треногу, а треногу на обрезок широкой плахи, на плаху под дно чугунки подсыпать пороху и подвести к нему смоченный в керосине фитиль, оттолкнуть от берега плаху и что духу бежать в кусты, а одноногий бомбардир в это время, стоя на запруде, за привязанную бечевку выведет устройство на самую глубину, и, как только вспыхнет под чугункой порох, рывком выдернет плаху из-под треноги, бомба булькнется в омут и там взорвется. Простота решения такой сложной задачи приводила обоих в лихорадочное восхищение.
Подхватив под одну руку тяжелую плаху и держа в другой смотанную бечевку, Осокин захромал на плотину. Осторожно, как престольную икону, он опустил плаху через перила и по бечевке спустил на гребнистую кипень потока. Течение рвало бечевку из рук, топило, снова выбрасывало плаху и волокло ее к противоположному от Филиппушки берегу. Артиллерист все-таки ухитрился подвести ее к напарнику, и тот, дав ей немного обсушиться, водрузил на середину чугунок и справил все остальное как полагается.
Зайдя немного в воду, он отпустил кораблик на тихую водь и принялся высекать огнивом искры. Трут задымился. Филиппушка боязливо ткнул его к фитилю и опрометью кинулся от речки к кустам. Там плюхнулся наземь и с замиранием сердца стал глазеть на Осокина.
Тот, перекосив рожу, водил перед собой бечевку, стараясь не опрокинуть раньше времени бомбу и поспешая подтянуть свой кораблик на середину омута.
Трут дымил, а накеросиненный фитиль не загорался. Должно быть, Филиппушка бросил трут слишком далеко от фитиля. Надо было повторять все сначала.
– Эй ты, черт косорукий! – закричал бомбардир. – Ты как поджег?
– Ладом! – крикнул из-под куста Филиппушка.
– Давай по новой!
Приближаться к речке Филиппушка забоялся и стал лежа уверять артиллериста, что сейчас оно и само рванет. Это взъело Осокина и, забыв про бечевку, тот начал громко объяснять Филиппушке, что он с ним сделал бы, будь его воля.
Плаха с чугункой тем временем попала в водоворот и стремительно понеслась к мельнице. Ветерок поддул почти догоревший трут к фитилю, и тот разом загорелся. Осокин растерялся, забыл, что нужно опрокинуть чугунку, бросил бечевку и, дико взмычав, в два прыжка пересек плотину и сиганул через перила в пруд. ^
Филиппушка зажмурил глаза и съежился.
Рвануло так, будто собрались разом все летние громы и гаркнули вдруг над Филиппушкиной головой. Земля дернулась под ним, затряслась, готовая расколоться, а сверху по кустам понужнуло чем-то тяжеленным.
Когда Филиппушка поднял голову, мельницы уже не было. На ее месте стоял серо-белый громадный гриб. Хлынувшая сквозь развороченную запруду вода моментом унесла все, что можно было унести, и все еще продолжала рушить плотину.
– Вот это сила! – восхитился, не вставая, Филиппушка. – Это – да-а!
Об Осокине он вспомнил не сразу. О том, что было, когда он нашел его, оглушенного, вывозенного с ног до головы в тине, грязного, как черт, и вытащив на сухое, привел в себя, лучше не вспоминать. Неблагодарный артиллерист сперва кинулся его душить, потом передумал, отдубасил, будто сноп вымолотил, проволок по бывшему прудовому дну и столкнул в воду утопить. К счастью, сильная вода саженей через тридцать выбросила его на отмель.
Говорили потом, что на низу счастливчики подбирали глушеную рыбу. А на месте мелышцы остались только часть укрепленного берега, несколько поваленных свай и выброшенный взрывом на берег увесистый жернов.
За мельницу взрывщикам не попало. Молоть тогда в селе было совсем нечего, да и хозяин потерялся где-то с остатками колчаковских разбитых войск.
Филиппушка наладил снасть, положил удилище на выпиравший из воды рыжий столб, сел и стал смотреть на поплавок.
На рыбалке никогда стройно ни о чем не думается, так – вертится на уме какое-нибудь одно слово, другого к себе не зовет, крутится, отгоняет мысли, застит собою все, только и видишь одно – поплавок.
Клева не было. Незаметно для себя Филиппушка уснул, пригревшись на солнышке, но и во сне не хотел просыпаться.
Растревожил его надрывный рев мотоцикла. Дорога на мельницу давно уже испортилась, но не забылась. Место тут было красивое. Крутой берег представлял собой ровную, чистую поляну, редку, поросшую мелкой, будто притоптанной травой – тут тебе и стол, и лежанка, и как выдастся общий сельский праздник, люди семьями прут сюда на грузовиках. Подковой обступают релку заросли высокого ивняка, тонких берез, черемухи и колючей боярки, надо спрятаться по любому делу – спрячешься. Опять же купаться здесь для взрослого человека подходяще: никто не глазеет, и глубина большая, «с ручками», то есть станешь с поднятыми руками на дно, и рук не видно. Приманивала глубина и подростков. Филиппушка так и решил, что сейчас забуксовал в болотинке ребячий мотоцикл. Завели эти драндулеты в каждой избе, нигде от них покою нету, ездят и ездят...
Он натужно поднялся на колени, переждал, пока пройдут перед глазами черно-желтые круги, и поискал глазами поплавок. Его нигде не было. Конец удилища согнулся, как бывает при зацепе за корягу, и не выпрямлялся. Придется обрывать леску. Жалко, ну да черт с ней, все равно эти оглоеды не дадут поудить. Да и домой пора.
Против ожидания, зацепа не было. На крючке прочно сидела сильная рыбина. Филиппушка стал на кругах вываживать ее, разом позабыв и про сон, и про треск мотоцикла. Рыбина мощно упиралась, и Филиппушка понял, что это большой окунь. Этот заглатывает наживу надежно, до хвоста, не сорвется. Филиппушка малость успокоился и смело вытащил добычу на берег. 1
– Ого какой! – вскрикнул совсем рядом веселый мужской голос.
Филиппушка повернул на вскрик голову и теперь только увидел подъехавший трехколесный мотоцикл и мужиков на нем – управляющего Ваську Самойлова и механика Суровцева. Васька в легкой кожаной курточке с зубастым замком-молнией, в повернутой назад козырьком кепке, с защитными очками надо лбом, в кожаных черных перчатках сидел за сверкающим никелем рулем и с ленивым восхищением смотрел на прыгающего в траве окуня. На высоком заднем сидении над ним сутуло нависал механик, без всякого выражения на продолговатом крепком лице.
Васька легко выскочил из седла, бросил на бензобак перчатки, сбил на рыжую макушку очки вместе с кепкой и побежал к игравшему все еще окуню.
– Смотри какой, – он поднял за леску рыбину вверх. – Больше пятисот! У, тварь колючая!
Он сломал прут, засунул его в пасть окуню и освободил крючок.
– Вот завялить под пиво! А, Матвей? – обернулся он к механику. – Держи, Филиппушка!
Самойлов сунул окуня старику, забрал у него удилище, порылся в баночке, нашел нужного червяка и поддел его на крючок.
Филиппушке самому хотелось закинуть, но возразить рыжему не посмел и стал засовывать добычу в неразвязанный рюкзак. Окунь продолжал биться и там, звучно хлопая по подмокшему брезенту.
Самойлов закинул удочку. Суровцев тем временем открыл багажник, достал оттуда с десяток темных бутылок с ярко-желтыми наклейками – пиво,– захватил их сразу все своими ручищами и понес к воде.
– Держи, Василий Иванович! – протянул он одну бутылку товарищу и раньше, чем тот взял ее, поддел ногтем большого пальца пробку, и бутылка с чмоком открылась. Другую с таким же шиком открыл себе и стал пить.
Самойлов едва успел глотнуть пару раз, как поплавок бойко пошел в сторону.
– Пей! – сунул управляющий пиво Филиппушке, вцепился руками в удилище и напрягся в ожидании, когда поплавок нырнет.
– Есть!
Ровно такой же полосатый и красноперый окунь забился в траве меж пыльных сапог Самойлова.
– Откуда здесь окунь, – спросил Суровцев, не опуская ото рта бутылки. – Его в нашей речке не было. Сколь раньше рыбачили – один хариус да ленок. Ну еще елец, щука. Окуня никогда не было. Он студеной воды не любит.
– Большие реки мелеют, топляки гниль дают, он и прет в притоки, – пояснил Самойлов. – Другие речки, хоть вон Морин, пустые совсем. Попадается вот такая сорожка, и та с глистой. Када тоже измельчала, запаршивела, лес в вершине вырубили, она и задохлась. Куда рыбе деваться. Прет к нам: не вода – один кислород!
Он выдернул еще пару окуней, и клев намертво прекратился.
– Ушли тигры, – с сожалением сказал Самойлов, равнодушно кинул удочку на берег, сполоснул руки и отошел от воды. – Садись, мужики, допьем да поедем. Сейчас проскочим за Аргуниху, там сегодня напрямую шуруют, потом на летник завернем, у Семена доилки барахлят – тоже механизатор! – поможешь там ему как. А, Матвей?
Суровцев кивнул.
– Ячмень бы добить сегодня... Думаешь, добьют?
– Должны, – сказал Суровцев и добавил: – Если поломок не будет. Не дождь бы тот, давно подобрали бы.
Мужики пили пиво, жевали подсохший, нарезанный еще в магазине сыр, перескакивая с одного на другое, все говорили и говорили, и все о жатве, о планах, о молоке, все это упиралось в технику и дисциплину, и они ,оба знали о всех неладных деталях в каждой машине и о всех претензиях людей и не придавали ничему этому особого значения – в конце концов все будет как надо. Самойлов стал уговаривать Суровцева помочь отремонтировать два ставших грузовика из числа мобилизованных на уборку из города, но механик только головой крутил.
– У них свое начальство, пусть беспокоится. У меня самого ни одной запчасти нету. Эти городские только и знают левачить – кому сено, кому дрова... Ремонтируй их! Мне за них не отвечать.
Филиппушке разговор был неинтересен, он молча тянул свою единственную бутылку, прислушивался, как пиво теплило в животе, возбуждая голод, и все боялся протянуть руку к сырному крошеву, а предложить угоститься мужики не догадывались.
– Ну вроде отошла голова маленько, – Самойлов пощупал голову и рассмеялся. – Дали мы вчера! Только к утру до кровати добрался. Уснуть не успел, жена растолкала... Что там, интересно, старый хрен делает? Обидится, поди. Да черт с ним, обойдется! Принесло его не вовремя... Хотя, опять же, когда у нас бывает «вовремя»? Зимой, разве. Вот и приезжал бы зимой! Так нет, бархатный сезон выгадывает! А он у нас не бархатный, а наждачный. Не до бесед.
– Не люблю я этих стариков, – сказал Суровцев, – сиди дураком, слушай, что он стирает.
– Сам не люблю, а куда денешься? Родня. Чего мне в нем родного – не пойму.
– Он, что же, жить тут собирается? – осторожно спросил Филиппушка.
– Жить? На кой он нужен тут!.. А впрочем, черт его знает. Своих забот невпроворот... Поехали, Матвей, что ли?
– А то искупнись, – посоветовал Суровцев, – с похмелья не лишнее.
– А ты?
– И я за компанию. Пыль хоть сполоснуть.
Пока мужики разболакались, купались, Филиппушка сложил и связал удочку, закинул на плечи мешок с легким уловом, закурил и молча смотрел на белотелых мускулистых мужиков, завидуя их здоровью и молодости. Василий – статью вылитый отец, даже частые коричневые веснушки все так же густо пятнают округлые бугристые плечи, все та же кривые волосатые ноги и те же быстрые, насмешливые глаза – будто и не умирал Иван Самойлов, а нырнул когда-то давно в этот омут и вот только что вынырнул еще моложе, чем был: похлопает сейчас себя по широкой груди, встряхнется, сноровисто наденет легкую красноармейскую одежку, натянет заплатанные сапоги, на непросохшие медные кудри приладит мятую фуражку, одним движением оправит под ремнем гимнастерку, попросит табачку и: «Пойдем, Филиппушка! Всемирный пожар не ждет!»... Да, повезло Ивану. Горячий, веселый, не дурак выпить и приволокнуться за бабами, он будто играючи прожил жизнь, с шуточкой ходил и под бандитские пули, и на заседания ячейки за выговорами, с прибаутками пахал до упаду глинистую пашню, сеял, молотил, выступал на собраниях, тянул нелегкую лямку и в сельсовете, и в коммуне, и в колхозе и погиб, должно быть, так же весело в самом начале войны. И вот опять живой!.. Филиппушка аж головой крутнул, чтоб прогнать наваждение. Сам он совсем разболелся, то ли от пива разморился вконец.
– Ты, Василь Иванович, не подвез бы меня? – спросил он уже одетого Самойлова, вытряхавшего пальцем воду из уха. – Ноги чегой-то...
– Не по пути же! – рассердился управляющий. – Ну, садись в люльку, докину до развилки. Развози еще... Навязались на голову! Сидели бы старые перечники по домам, так нет, носит их!
Филиппушке показалось обидным, что его вот так запросто объединили в одно с каким-то поганым кулаком, и подумал, что надо бы одернуть этого молодчика, поставить на место – не забывай, с кем разговариваешь! – но стерпел: болела слишком голова и клонило ко сну, а топать-то вон сколько пришлось бы.
VIII
По кладбищу бродили телята: одна стена штакетника была проломлена, кто-то заезжал на машине, выкосил на бескрестых могилах и на свободной еще площади густой нетоптаный пырей,– а пролом так и остался незаделанным.
Колюхов немножко постоял в нерешительности, перед тем как зайти на территорию кладбища, горьковато смежил глаза, прислушался к щемящему звону в душе и коротко вздохнул: вот где оно, вечное поселение, конец пути человеческого...
Несколько отступив от середины кладбища, где стояла и в прежние годы, росла все та же густоланистая, корявая ель, темная, почти черная, и устрашающе дремучая. Вокруг почти на каждой могиле виднелись елочные ветки – такой обычай, чтоб могилки ими украшать, ими и дорогу покойнику стелят от самого порога до сырой ямы, их и в поминальные дни приносят сюда,– но, неживые, они быстро сохнут, рыжеют, осыпаются и чуть ли не первыми убеждают человека, что здесь именно кладбище, а не что иное. А ель шумит, живет, говорит, что не вся арифметика уместилась здесь.
Голубые кресты, такие же голубые оградки и невысокие красные пирамидки со звездами наверху теснились плотно одно к другому, впритирочку, еле протиснешься меж ними, и это так надо было. Земли кругом немеряно много, но это другая, живая земля. А здесь все могилки хотели быть как можно ближе друг к дружке, чтобы дать дошептать недоговоренное тем, кто теперь там, в глубине, дать возможность простить взаимные обиды и страдания и вместе, рядышком встретить то страшное, что называется небытием.
Плутая меж крестов и оград, то и дело сверяя расстояния по елке, Колюхов не сразу отыскал могилы родителей, а отыскав и войдя в их общую, одну для отца и матери, оградку, он сразу же опустился на установленную там крошечную скамеечку и облегченно перевел дух: на месте. А то ему уж было показалось, что их нет здесь вовсе и страшно сделалось, куда страшнее, чем бывало в детстве, в грибную пору теряя тятьку с мамкой в лесу, – там зналось, что все равно найдутся, откликнутся, поругают маленько и слезы вытрут, а тут если потеряется могилка, сровняется с землей, уступит ли место другой, новой, то уж навсегда. И оборвется истончавшая нитка, связывавшая тебя с уже непамятным, но все еще живым прошлым, и только и останется, что самому в яму лететь.
Обе могилы содержались в порядке, и Колюхову подумалось, что это племянница, рыжая толстуха Катерина ходит за ними, и он мысленно поблагодарил ее: хорошая баба. Кресты постарели, пооблупились, но стояли прочно – листвень в земле не гниет, зарозовеет и триста лет простоит, а краска шелушится, конечно, так подновляй почаще. Но тут Колюхову подумалось, что свежевыкрашенные кресты казались бы не такими родными. Было что-то правильное в том, что они блеклые, шершавые, что сквозь краску кое-где пробились и засохли светлые смоляные бусинки, и что надписи – имена и годы рождений и смерти – темные, будто пыльные. Кресты были теплые и хранили забытый церковный запах. Железные листья на старых венках слышно звенели на летнем ветерке.
Просидел Колюхов в оградке изрядно. Повздыхал, повспоминал. Задумался было, зачем только люди на земле живут, но не смог додумать ответа. Мать жила, как вода течет: с камушка на камушек, от одной заботы к другой, с переката на тихое и опять в перекат – и звенела, и шумела, и все, чтобы другим около нее было тепло да ладно, да так и застыла на бегу. Так жить велел ей ее суровый бог, которому она и помолиться как следует не успевала за неимением времени. Отец молчком вил-собирал по палочке гнездо свое, а больше робил землю изо дня в день, ею страдал, ею радовался, в нее и ушел молчаливо и спокойно. Учил он его, Федьку, жить – жить разумно, трезво, в работе умелой, упорной, в уважении к себе и к людям, в семье согласной, потому как нет человеку на земле другого счастья и приюта, как семья, – а вот умирать не учил. Никто никого этому не учит. Может, потому и страшится каждый этого неизбежного дела. А может, отец и не думал никогда об этом, и для него, как и для матери, смерть означала только переход к другой, спокойной жизни? А вот ты попробуй так, когда ничего у тебя путного не случилось, хоть и прожил больше, чем каждый из родителей. Работа? – о такой работе говорят, что она дураков любит. Не в радость была она, а в спасение, а это совсем другое. Потом уж по привычке вкалывал, гнал деньгу, чтобы на черный день подкопилось, а оказалось ни к чему. Жил не дураком, а кому от этого теплее было? Семьи, если по-доброму, так и не случилось. Не было семьи. Это кто со стороны смотрел, позавидовать мог: во всякую минуту – в трудную и в легкую – дудели они с Анной в одну дуду, и не в разные концы, как у других бывает, но только один он знает, какая музыка для сердца получалась из этого дудения: на похоронах веселее играют. И жалел он жену, и берег, а была чужой – ни дети, ни беды не могли затереть этого. И Анна знала это, и не жила, а крест несла. Плакала ни с того ни с сего: скорей бы уж под елочку, а мне одна дорога – под елочку. Под елочку – это вот сюда. А могилки ее тут и нету. Вот как. Сыновья – что ж? – не одни они, тысячи людей легли в безымянные могилы. Где могилы – кто знает? А не знаешь, где схоронены, так вроде и не погибли, живут себе в каком-то пространстве все такими же молодыми, с лица совсем молочными еще. Не метит, не запоминает война снопов на ниве своей, всем воздается общая, вечная память, и потому как общая, стало быть, ничья – звук. Вот и выходит, что так лучше: мертвыми не видел, могил не видел и не веришь душой, что нету их в живых. Ему же, Колюхову, вместе с Анной надо было здесь лежать. Не судьба...
Он осторожным шагом вышел из оградки, тихо закрыл за собой калиточку, подергал для уверенности запор. Запор был надежный. Рядом была могила Пелагеи, тоже ухоженная и прибранная. Возле нее под такой же красной тумбочкой, только со звездой на макушке – могила кого-то чужого, а дальше – опять имена родственников. Колюхов переходил от одной оградки к другой, читал надписи, вспоминал покойных живыми, встречал имена приятелей, недругов – почти все знакомые были тут. Попробовал подобрать место себе, подходящего не нашлось.
Он поднял еловый пересохший прутик, что выпал из чьего-то бывшего венка, выгнал за огорожу телят и попытался заделать пролом. Копался долго, но не было ни молотка, ни гвоздей, и он слепил загородку кое-как, скрепив ее подобранной возле могил тонкой проволокой и скрутив из сырой травы перевяслами. Понимая всю зыбкость и непрочность своей работы, он все-таки довел ее до конца, отошел в сторонку, посмотрел и тяжело вздохнул: нигде теперь кладбищ не блюдут, что на Севере, что здесь, – одинаково.
Солнце пекло уже вовсю, и над полевыми просторами занималось легкое марево. Вокруг разноголосо и резко сверчали кузнечики. На желтых, выгоревших от солнца релках пробегали и останавливались столбиками юркие толстощекие еврашки.
Надо было куда-нибудь идти, двигаться, но неизвестно было, куда и зачем, и это томило Колюхова. Село в долине виделось спокойным и недвижимым, темнело огородами й деревьями, щетинилось телеграфными столбами, журавлями колодцев, светилось новыми крышами и редкими белеными ставнями. Только спокойствие это кажущееся: сейчас там людно и хлопотно, каждый свое дело торопится справить, спешит куда-то, разговаривает с кем-нибудь, а ты всему этому чужой.
Приезд свой в Сычовку Колюхов считал сейчас лишним, ненужным, даже очень глупым. И чего только ожидал, когда перся, на что надеялся? Дурак и все тут. Сколько времени потерял ни за что ни про что. Дома хоть что-то да сделал бы. С выходом на пенсию он, чтобы не маяться бездельем, нанялся дворником при домоуправлении и находил себе заделье на каждый день: подметет раза два-три отведенный участок, вымоет из шланга асфальт кругом, польет цветы на клумбах, подладит песочницы для малышей, подремонтирует качели и карусельку – их по ночам великовозрастные озорники корежат, – а то кому дверь наладит, замок вставит, окно застеклит – только не сидеть пеньком. Занятия этого он стыдился, говорить о нем не любил, даже зарплату и мелкие премии получал, как получают подачку, против обыкновения никогда не пересчитывал денег, торопливо совал в карман и уходил. Ему казалось, что они вроде как незаконные: живет он тут, за собой же, считай, убирает, а ему платят, хвалят... Но сегодня он и об этом занятии вспоминал с сожалением.
«Это кладбище на меня давит», – подумал он, хотя и знал, что не в одном кладбище дело. И все-таки, чем дальше уходил он от погоста, тем легче и деловитее делалось его настроение. Когда вышел на дорогу, за которой томилось под солнцем пшеничное поле, и стал глядеть на его жаркую созревшую красоту, сердце совсем отошло: славно-то как, господи! – Говорят «море хлеба», куда тут морю! Море чужое, стылое. А тут вон как духовито пахнет!
Вдруг из долинины неподалеку вынырнул незамеченный раньше комбайн, и Колюхов пошел ему навстречу. Комбайн делал первый круг. Поле здесь небольшое, на загоны его делить не стали, выжнут кружком. За первым комбайном показался второй, третий. Это были красивые и ловкие издали машины. Шли они на большой скорости, ровно по дороге, оставляя за собой длинные холстины валков и темные следы больших резиновых колес на стерне. Колюхов догадался, что это именно о них толковали вчера в застолье мужики, расхваливая на все лады их устройство и чистоту работы, уверяя друг друга в завидной легкости труда на них. Колюхову еще хотелось подкусить споривших, что любая работа чужими руками влеготку делается, но сейчас он и сам позавидовал комбайнерам, небрежно, на манер городских таксистов, сидевших в своих стеклянных будках. Машины светились блестящими, еще заводскими, желтыми и вишневыми красками, сверкали фарами и гудели ровно, негромко. Проезжая мимо Колюхова, комбайнеры отрывали взгляды от длинных, саженей в пять, жаток, с веселым достоинством что-то кричали, приветственно помахивали руками. Он отвечал им поклонами тяжелой белой головы, с выражением застывшего на лице стариковского раздумья, хоть и сознавал себя в эти минуты тоже молодым и веселым от причастности своей, пусть мнимой, к удалой и приятной заботе косцов.
Сжатая пшеница пахла совсем по-другому. Колюхов зашел на жниву, удивился высокой стерне, поднял с валка несколько срезанных стеблей с тяжелыми колосками, размял колоски – почти все зерна вышелушились. «Зачем двойную работу делать? – подумал он. – Вот свалили, а завтра подбирай. Сколько колосьев обобьется, уронится в стерню. Опять же зерно на корню должно дойти, а так вкус у него, поди, уже не тот будет, и если на семена, так сколько зернышек невысиевших засохнет, не прорастет потом. Накладно. Спешат убрать – понятно. Только торопиться к чему? Ты подожди день-два, зашепчет колос – и пошел напрямую! С такими комбайнами чего бояться! А насколько дешевле обошлось бы. К тому же зерно полноценное пошло бы. Всему надобен свой срок, всему на свете... Вот какая выгода от этой раздельной? Попадет под дожди, засолодеет.
Впрочем, резон, видно, имеется: с кондачка на такое не пойдут, считать помаленьку научились получше твоего. Не попять тебе всего нового, не понять...».
Рядом со сжатой полосой он направился в село. На закрайке, в зелени маковника и осота, оставались несжатые колосья, и он бездумно рвал их и нарвал целое беремя. Потом спохватился – куда с ними? – и положил снопиком на валок: обмолотится.
Идти по въезжей улице не хотелось, Колюхов свернул на зады, где когда-то, помнится, была тропинка. Она и впрямь была все такая же узкая, заросшая по бокам крепкой бубенистой полынью. Долго виляя по взбуявшему дерябой пустырю, тропинка вывела Колюхова к пересыхающему ручью, в котором невозможно было признать бывшую речку Сычуху, давнишнюю утеху ребятишек. Вода еле двигалась над илистым дном, неживая и тихая. А ведь здесь даже хариусов ловили плетеными корзинами, и разливалась Сычуха полой водой до самого косогора.
Колюхов прошел по перекинутой через ручей плахе и увидел, что тропинка дальше поднимается не по пустырю, как было, а по меже чьего-то огорода. Топорной работы вертушка, отполированная до блеска многими руками и одежками, подсказывала ему, что по меже ходят не только хозяева. Возвращаться на дорогу было далеко. Опять же лазить по чужим огородам старику тоже не личит. А была – не была! Он протиснулся в вертушке на лужок, заметил, что скоро вот и отаву косить надо, дошел до картошки, увидел на стежке черные, затоптанные живьем бодылья ботвы и еще раз уверился: ходят здесь.
Дом, к которому вывела межа, был старый, но Колюхов не помнил его, значит, выстроили позднее. Идти через ограду – неловко, а есть ли перелаз за домом, Колюхов не знал и в нерешительности остановился.








