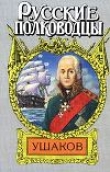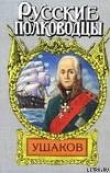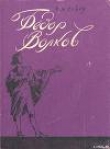Текст книги "Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове"
Автор книги: Софья Могилевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
По указу царицы
Весть о нарочном, прискакавшем из Петербурга от самой царицы и не по какой-либо казённой надобности, а лишь затем, чтобы увезти из Ярославля Волкова с его актёрами, поразила всех.
Людей в канцелярии набилось великое множество. На самом виду сидел сенатский подпоручик Дашков, царицын гонец. Румяный от многодневной скачки по морозу, а ещё более от выпитой по приезде чарки, он развалился в креслах и чувствовал себя здесь первым после царицы лицом. На нём был зелёный камзол с откладным воротником, через шею – шарф, поясная портупея с сумкой. Треугольная шляпа лежала на столе, щёки его лоснились.
И ярославский воевода Михайло Бобрищев-Пушкин тоже был в канцелярии. Внутренне дивясь непонятной для него прихоти царицы, он, однако, чего прежде никогда не было, первым поклонился Волкову, когда тот вошёл.
– Вон ведь дела-то какие... – произнёс он и, словно недоумевая, развёл руками. Потом протянул Фёдору Григорьевичу указ, написанный на плотной желтоватой бумаге и скреплённый сенатской печатью. Проговорил: – Читай, брат... Про тебя писано.
А Волков уже видел – и по лицам находившихся здесь людей и по обращению воеводы, – ничего худого в этом указе для него нет.
Но читать начал с волнением. Читал же медленно и внимательно, а отдельные места пробегал глазами вторично.
«И во исполнение оного высочайшего Её Императорского величества указу Правительствующий Сенат приказали: в Ярославль отправить нарочного сенатской роты подпоручика Дашкова и велеть показанных купцов Фёдора Волкова, он же и Полушкин с братьями...»
Следующие слова указа Фёдор Григорьевич прочёл с особым вниманием и подряд два раза:
«... и кто им ещё для того как из купечества, так и из приказных и из протчих чинов потребны будут... отправить в Санкт-Петербург... в самой скорости».
Чувство радости охватило его. И радость эта росла по мере того, как он читал указ. Он был горд. Нет, не за себя – за свой театр. О них узнали в столице. Сама Елизавета пожелала видеть их спектакли!
Он сразу понял, какой простор, какая широкая дорога отныне открывается и театру и его актёрам!
И рядом с этой радостью была другая.
Ах, какой козырь теперь у него в руках!
«... и кто им для того еще потребны будут, привезть в Санкт-Петербург...»
Так. Именно так написано в царицыном указе!
Держись, Настенька... Наша-то ведь всё-таки взяла!
Теперь покажет он этим господам Сухаревым! Пусть попробуют отказать. А он им в лицо вот этот указ. Указ самой царицы Елизаветы.
Волков поднял от бумаги глаза. Гордые, весёлые.
А в канцелярии народа ещё прибавилось. И все его ребята тут. Уже проведали. И тотчас прибежали. На лицах у одних – тревога. У других – напряжённое ожидание.
Волков улыбнулся им: всё, братцы, хорошо, лучше и быть не может!
Потом посмотрел на воеводу. Вспомнил: сколько времени, сколько сил, сколько слов потратил, пока вырвал у него позволение строить театр на Никольской улице. Нет, не словами убедил: сунул деньги.
Ещё раз улыбнувшись своим товарищам по театру, Волков с весёлым торжеством посмотрел на воеводу. Сказал:
– Ну что ж, в Петербург так в Петербург, коли на то имеется её державнейшая воля!
Перед каменной стеной
– Шутишь, милейший! Неделю? – вскричал Дашков, с возмущением взглянув на Волкова. – Для того ли я гнал сюда сломя голову, чтобы ты неделю целую собирался? В указе сказано: отправить в Санкт-Петербург в самой скорости... – Он поднял указательный палец и потряс им. Снова повторил: —В самой скорости! Понимать надо... – Затем, словно отдавал приказ, отчеканил: – Нынче одиннадцатое число. Завтрашний день вам собираться. Тринадцатого генваря на рассвете выезжаем.
Волков хотел было заспорить – да что он в самом деле! Уложить в один день декорации, костюмы, всё их театральное имущество?!
Но подумал и согласился. Сухо ответил:
– Хорошо. Выедем тринадцатого.
Нет, в этом перечить не надо. Есть другое, более важное.
Теперь вечер. За квадратными оконцами, сплошь затянутыми зимней изморозью, темнота. А здесь, в медном шандале, горят уже изрядно оплывшие сальные свечи. В канцелярии сейчас народа мало. У стола сидят: Фёдор Григорьевич, воевода Бобрищев-Пушкин и царицын нарочный, подпоручик Дашков. Тут же находятся ещё двое писцов, которым велено составить рапорт Сенату об отправке из Ярославля в Петербург Волкова с актёрами.
Об этом отъезде и обо всём, что связано с отъездом, идёт сейчас разговор.
Фёдор Григорьевич о мелочах не спорит. Уступает во всём.
Сколько им дадут саней? Шестеро? Хватит. Все усядутся. Вполне!
Девятнадцать ямских подвод? Только девятнадцать? Не маловато для их театрального имущества?
Но пусть будет так. Как-нибудь уложатся и на девятнадцати.
Пусть, пятьдесят саженей верёвок... Понадобится, он прикажет сверх того из своей лавки взять сколько будет нужно.
И насчёт прогонных денег Волков не стал разговаривать, хоть отпущено их скаредно мало. Придётся ему прихватить собственных, и для себя и для всей труппы.
Всё это пустяки. Мелочи. Главное – впереди. И Фёдор Григорьевич опять подумал о Насте.
– Кого берёшь с собой? – спросил Дашков и зевнул. Спать ему хочется, совсем разморило. Скорей бы закончить да на боковую.
В числе первых в список уезжающих были внесены фамилии самого Фёдора Григорьевича Волкова и его братьев – Григория и Гаврилы. О них пересудов быть не могло, имена их имеются в указе.
Затем Фёдор Григорьевич назвал двух канцеляристов здешней, ярославской канцелярии: Ивана Иконникова и Якова Попова.
Воевода подал голос:
– Не пущу. Самому нужны.
Фёдор Григорьевич чуть пожал плечами. Встал. Усмехнувшись, показал на то место в указе, где написано, что брать он может, кого найдёт нужным.
Воевода сердито пошевелил мохнатыми бровями. Однако спорить не стал. Против царицыной воли не пойдёшь.
А Волков, теперь уже не оборачиваясь ни к воеводе, ни к сенатскому подпоручику, всё более и более властно стал диктовать писцу одно за другим имена своих актёров.
Воевода слушал и только с неприязнью покряхтывал: эк распоряжается.
– Ещё Якова Шумского, цирюльника, пиши, – сказал писцу Волков.
– Для причёсок берёшь? – осведомился Дашков. – На что он тебе? И без твоего в столице цирюльники найдутся...
– Яков Данилович Шумской – один из лучших наших актёров, – не глядя на Дашкова, через плечо кинул ему Волков.
В список отъезжающих рядом с Шуйским внесли также Ивана Нарыкова и Алексея Попова.
– Теперь записывай девушку, – строго сказал Волков, снова обращаясь только к писцу.
– Зазноба? – спросил Дашков. В глазах у него сверкнули весёлые огоньки. – Смотри ты!
Фёдор Григорьевич голоса не повысил, но ответил с резкостью:
– Актриса нашего театра! – Писцу велел: – Пиши: Анастасия... – и замялся. Как Настина фамилия?
– Как фамилия? – спросил писец, обмакивая в чернила гусиное перо. – Фамилию-то какую ставить?
Волков вспомнил и сказал:
– Пиши: Анастасия Протасова.
– Кого? Кого? – встрепенулся вдруг воевода. – Это из каких она? Твоя фабричная?
– Крепостная помещика Сухарева, – ответил Волков.
– Крепостная? – протянул воевода.
– Да, крепостная.
– Чья, говоришь, сухаревская?
– Сухаревых, – подтвердил Волков.
Воевода не унимался:
– Каких Сухаревых? Никиты Петровича?
– Никиты Петровича.
– А он что же, Никита Петрович, отпускает её? Или как? – продолжал допытываться воевода.
– А хоть бы и не отпускал?! – почти с вызовом проговорил Волков. – Мне-то что? Имеется указ. А там ясно сказано...
– Где там сказано? – спросил воевода, и глаза его стали круглыми и сердитыми. – Где там про крепостных-то сказано?
Сам он отлично понимал: по этому указу можно было бы крепостную девушку послать в Петербург играть в комедиях. Приказать Сухаревым – это, конечно, нельзя. Но уговорить вполне можно. Де, мол, царская воля!
Ан нет! Этого не будет...
С Лизаветой Перфильевной Сухаревой ему спорить ни к чему. Никак нельзя. Это раз. Собственная жена со свету его сживёт, если он чем-нибудь обидит Сухаревых. Как-никак, кумовья...
Но главное – кто воевода здесь, в Ярославле: он или кто другой? Ишь ты, какой выискался, этот молодчик... Раскомандовался! Больно прыток!
Воевода поднялся с места. Выпрямился. Роста был могучего, собой дороден. В упор взглянул на Волкова, ткнул пальцем в указ:
– Где тут крепостного звания, а ну-ка? Покажи?
Фёдор Григорьевич с удивлением, а скорее даже в недоумении смотрел на воеводу. Чего он взвился? Против царицыного указа?
Воскликнул:
– Да сказано же: кто потребен, из всяких чинов...
– А про имущество господское и крепостные души ничего не сказано, – с упрямством проговорил воевода. – Ты мне не ври...
Еле сдерживая себя, повысив голос, не глядя в указ, а прямо в лицо воеводы, Волков начал читать на память слово в слово, как там написано.
Воевода не дал ему кончить. Оборвал:.
– Говорю, нет ничего! – И, обернувшись к писцу, приказал: – Сухаревскую крепостную там вычеркни.
Волков побледнел. Весь словно налился гневом. Крикнул:
– А я говорю, не смей вычёркивать! Не позволю...
Писец растерянно переводил взгляд с гневного лица Волкова на красное и тоже гневное лицо воеводы: кого слушаться? Ему-то как быть?
– Вычёркивай! – повторил воевода.
Фёдор Григорьевич теперь весь дрожал, точно его колотил озноб. Он готов был драться за Настю, за её судьбу, изо всех своих человеческих сил. Но как пробить эту каменную стену? Какие слова найти, чтобы втолковать этим людям о великом Настином даровании, которое неминуемо погибнет лишь оттого, что у девушки злая доля – родиться крепостной...
Наступая на воеводу, он кричал, теряя власть над собой:
– Да поймите, поймите вы...
Воевода с тихой угрозой осадил его:
– Полегче, братец... Не забывай, с кем говоришь.
Писцу же без слов, одними глазами приказал: вычёркивай.
– Но вы-то, вы... – уже совсем не владея собой, кинулся Волков к сенатскому подпоручику.
Дашков, поймав быстрый взгляд воеводы, небрежно сказал:
– А чего там? И рассуждать нечего. О крепостных душах было бы в указе оговорено особо.
Волков пытался ещё и ещё спорить. Он требовал. Настаивал. Доказывал... Но воевода и Дашков лишь холодно его осаживали.
Перед ним была каменная стена, глухая и непробойная...
* * *
Весь следующий день и всю ночь до рассвета волковцы упаковывались. Они связывали и укладывали на подводы театральное имущество. В Петербург, кроме спектакля «О покаянии грешного человека» Дмитрия Ростовского, решили взять и пьесы Сумарокова – «Хорев», «Синав и Трувор», «Гамлет».
Шумными, весёлыми были эти сборы в Петербург. Неведомое манило, сулило такое, чему и поверить трудно!
А Волков настойчиво, с каким-то железным упорством продолжал просить за Настю. Несколько раз ходил в канцелярию. Говорил то с воеводой, то с сенатским подпоручиком – и всякий раз уходил ни с чем...
Весь Ярославль говорил о внезапном отъезде Волкова с театром в Петербург, толкуя и так и эдак смысл царицыного указа.
И только одна Настя не знала, какой новый тягостный удар приготовлен для неё судьбой...
Снежная даль
Наконец ей позволили выйти из холодного чулана...
Поздним вечером, чуть живая, шатаясь от слабости, Настя вошла в людскую избу.
Варвара, увидев её, всплеснула руками и заплакала. Настя опустилась на лавку. Тихо сказала:
– Не надо, Варварушка... Ну чего ты? Теперь ведь прошло.
Варвара не знала, как получше приветить Настю. Чем накормить, куда усадить... Потом мягко постелила ей на печи, хорошо прикрыла.
После долгих лютых ночей Настя легла сегодня в тепле. Но была словно в каком-то дурмане. Не могла заснуть. Вот как будто и жарища на печи, а её всё время кидает в дрожь, прохватывает ознобом, лихорадит...
Потом забылась в тяжёлом сне.
И приснилось ей, будто она на сцене. Будто она – Семира. Алого атласа на ней сарафан, а тяжёлая коса, перевитая лентами, лежит на груди. А рядом – Фёдор Григорьевич. Нет, не он... Брат её – Оскольд. И говорит ей: «Забудь все горести, которые прошли...» Это он ей такие слова говорил в трагедии. В последнем акте, кажется... А потом занавес падает, а она не знает, что ей делать? Куда деваться от стыда и счастья...
И бежит она куда-то... Незнамо куда. А из зала – «Семира! Семира!»
Нет, не так: Настя, Настя...
– Настя, Настя! – слышится рядом тревожный шёпот.
Настя хочет открыть глаза и не может. Тяжёлые веки лишь разомкнулись и снова смежились. Не в силах она преодолеть свой сон.
А рядом ещё настойчивее, тревожнее:
– Проснись же... Ох, Настя, проснись!
И вдруг как-то сразу очнулась. Узнала: Фленушка склонилась к ней. В темноте, еле видное, её лицо. У самых глаз – её глаза.
– Фленушка, – шепчет Настя и хочет протянуть руку, чтобы обнять её, – пришла, моя голубушка...
Но Фленушка точно не слышит. Трясёт её за плечо. Уже не шепчет. А громко говорит. Насте кажется, что голос её теперь на всю избу слышный.
– Они уезжают... Да проснись же! Что мне с тобой делать? Уезжают они... И Фёдор Григорьевич, и все они.
Мгновенно Настя всё понимает. Не умом, а сердцем. И сон как-то сразу слетает с её глаз. Мысли собрались, стали ясными.
Села. Чуть шевельнув губами, спросила:
– Далеко едут?
– Царица гонца за ними прислала...
И это Настя поняла: раз царица позвала, значит, далеко и, может, навсегда.
Больше ни о чём допытываться не стала. А давешней слабости уже нет. Наоборот, сила какая-то появилась. Надела принесённую Фленушкой шубейку. Повязалась платком и кинулась вон из людской.
Но тотчас воротилась обратно. Обняла Фленушку:
– Спасибо, подруженька...
И теперь, уже не оглядываясь, выбежала во двор. И дальше – за ворота. И ещё дальше к тому, к его дому, на Пробойную улицу...
А небо посветлело. Занималась поздняя зимняя заря. Звёзды стали гаснуть...
Настя бежала самой ближней дорогой. В голове одно – лишь бы поспеть! Застать, увидеть...
Навстречу ей, из сумерек, вдруг серой громадой выступила Ильинская церковь. Значит, теперь уже скоро! Сколько раз огибала она эту церковь, чтобы завернуть потом за угол, к знакомому дому.
И кожевенный амбар – вот он! Ходила сюда. Смотрела, где здесь Фёдор Григорьевич начал первые свои представления.
На углу повернула... и остановилась.
Сердце забилось часто и тревожно. Пробойная улица была пуста. Вся – из конца в конец. Никого. Ни единой души. Только собаки лают в подворотнях.
Но из-под ставен волковского дома виден свет. Настя кинулась к воротам. Застучала двумя руками. Крикнула:
– Фёдор Григорьевич! Это я... Настя...
Никто не ответил.
Снова принялась стучать. И наконец услыхала:
– Да уехал же... Только, только проводили...
И Настя увидела: по снегу тянется свежий санный след. Голос из-за ворот ей ещё что-то говорил. Но она не стала больше слушать.
Побежала к Волге.
Мигом смекнула – сани пойдут длинным путём, той дорогой, что полого спускается на лёд. А она может напрямик, наперерез.
И она их увидела. Увидела в последний раз.
Зимней дорогой, проложенной на льду, вереницей мчались сани. С высокого берега их было хорошо видно.
Но они уже были очень далеко. Уж почти скрылись в снежной дали.
Не помня себя, Настя кинулась вдогонку. Потом остановилась. Поняла, что не догнать. Тогда крикнула что было силы:
– Фёдор Григорьевич!
И снова, ещё громче:
– Фёдор Григорьевич...
Только где ж там? Разве мог он услыхать её?
* * *
Всё дальше и дальше уносились сани. Фёдор Григорьевич высунулся из кибитки. Ещё раз поглядел на свой Ярославль.
Город стоял весь заснеженный на крутом берегу. Первые лучи невидного пока солнца уже зажглись на золотых крестах высоких колоколен...
А из передних саней раздавалась песня. Та знакомая, которую часто певали они, когда, устав после репетиций, разрешали себе короткий отдых:
О златые, золотые веки...
Песня звучала теперь звонко, радостно, без тени печали, забот...
Фёдор Григорьевич откинулся в глубь кибитки, закрыл ладонью глаза. И увидел, словно она была тоже сейчас с ними, Настино лицо. Задумчивым было её милое лицо. И улыбка светилась в глазах. И она с каким-то особенным глубоким для себя смыслом выговаривала любимые слова этой песни:
Не гордились и не унижались,
Были равны все и благородны...
А навстречу им поднималось тяжёлое малиновое солнце...
Эпилог
Прошёл год.
Настя снова была в девичьей и снова плела кружева. С утра дотемна выводила она из ниток замысловатые кружевные узоры. Кленовые коклюшки глухо стучали в её руках, точно пустые, без звону, колокольцы...
И она сама теперь вся была без звона – тихая и молчаливая.
После отъезда Волкова она получила из его дома через деда Архипа весточку: Фёдор Григорьевич велел передать ей, чтобы не сомневалась – там, в Петербурге, он не забудет о ней. Сделает всё, что в его человеческих силах, чтобы вызволить её из неволи.
И Настя ждала и надеялась.
Утром, просыпаясь, с надеждой думала – нынче! Засыпала вечером, говоря себе: завтра, завтра, это будет завтра...
А из Петербурга, точно из другого, неведомого, но блистательного мира, смутно доносились сюда, в девичью, вести и о Фёдоре Григорьевиче, и о Якове Шумском, о Ване Нарыкове, о других её товарищах... Вести были хорошими, весёлыми. И Настя радовалась, что даже царице понравился их ярославский театр. А могло ли быть по-иному?
...Между тем Фёдор Григорьевич в Петербурге снова пытался помочь Насте. Он обратился к самой Елизавете. Просил её высочайшего изволения потребовать из Ярославля у тамошнего помещика Сухарева его крепостную девушку Анастасию Протасову. Эта девушка обещает быть замечательной русской актрисой, красой и гордостью российской сцены...
Елизавета Петровна подумала, помолчала, а потом чуть повела красивыми плечами и кинула, смеясь:
– Чем тебе Ваня Нарыков плох? Худо разве женские роли играет?' А ты хочешь крепостную. Фу!
А в другой раз, когда Волков снова начал о том же, царица и слушать не пожелала.
Об этом Настя не знала и знать не могла. Но зато, когда к её господам пришёл Иван Григорьевич Волков – брат Фёдора Григорьевича, она вся затрепетала от счастья. Поняла, кем прислан. Румянец проступил на её щеках. Дыхание захватило. Глаза вспыхнули надеждой...
Так оно и было. Иван Григорьевич Волков пришёл к Сухаревым по поручению брата. Пришёл предложить Никите Петровичу выкуп за Настину вольную.
Деньги Сухаревым были очень нужны. И Никита Петрович уже прикидывал – сколько бы ему взять с Волкова. Однако без Лизаветы Перфильевны такие дела самолично им не решались.
Но Лизавета Перфильевна даже не вышла в зальцу, где Иван Григорьевич ждал ответа. Через служанку велела передать: перед богом отвечает она за своих людей и крепостных продавать не станет.
Когда Настя узнала о решении барыни, она ничего не сказала, только тихо заплакала...