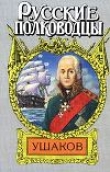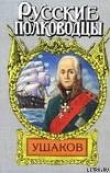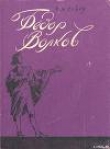Текст книги "Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове"
Автор книги: Софья Могилевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
В Москве на Красной площади
Купеческий сын Фёдор Григорьевич Волков возвращался из Москвы. Недавно от умершего отчима, купца Полушкина, ему с братьями достались по наследству серно-купоросные заводы. Одни находились в самом Ярославле, другие недалеко от Ярославля. Ведение дел требовало частых поездок в Москву. Ездил в Москву обычно Фёдор Григорьевич, старший из пяти братьев Волковых.
Это случилось несколько дней тому назад. Будучи в Москве, Фёдор Григорьевич пошёл к купцу Свиягину, с которым покойный отчим вёл дела. Лавка Свиягина находилась на одной из улиц, прилегавших к Китай-городу, и Фёдор Григорьевич отправился туда через Красную площадь.
Было раннее утро. Косые лучи солнца освещали пёстрые купола Василия Блаженного, радуя глаз их неповторимой дивной красотой, и красные, под зелёной черепицей, башни Кремля, и шумную толпу, от зари до зари наполнявшую площадь.
Фёдор Григорьевич шёл стремительно. Занятый своими мыслями, он нетерпеливо отмахивался от надоедливых сидельцев возле погребков-землянок. Те, звеня стаканчиками, наперебой предлагали ему отведать заморских вин, закусить их миндалём, изюмом.
Дороги он не выбирал, шёл напрямик. В иных местах телеги с товаром скучились так тесно, что ему то и дело приходилось где перешагивать, а где и вовсе перелезать через оглобли, чтобы продолжать свой путь.
В те стародавние времена по всему пространству от Василия Блаженного до Никольских ворот, прямо под открытым небом, раскидывалось огромное многолюдное торжище.
Ещё до света со всех окраин Москвы сюда тянулись телеги, полные товаров. Везли сюда изделия скобяные и кожевенные; несли лотки с пирогами и шесты с лаптями; разные чашки, да ложки, да плошки; решёта с ягодами, отборные овощи.
Чем только здесь не торговали!
Из одного ряда раздавалось разноголосое кудахтанье кур, кряканье уток, гоготанье гусей. Там был птичий рынок.
Тут предлагали свои товары меховщики, шорники, сапожники.
Пирожники с лотками, ловко снуя меж людскими потоками, зазывали пронзительными голосами:
Вот у меня с луком и перцем,
Со свежим говяжьим сердцем,
Масло через край льётся
И подлить ещё найдётся...
В одном углу площадь была застлана густым слоем волос. Нога ступала по нему, будто по мягкой перине. Это расположились брадобреи, орудуя ножницами и гребнями. Кому надо – стригут волосы на самый модный образец. А кто любит по старинке, тому надевают на голову глиняный горшок и ровняют «под горшок». А зуб болит – можно больной зуб выдернуть. Недаром цирюльники зовутся и «зубоволоками». Они же, если недужится, берутся больному кровь пустить.
Фёдор Григорьевич глянул на часы.
Огромные, с золотыми цифрами по чёрному полю, они и тогда были на Спасской башне Кремля и виднелись со всех концов площади.
Большая стрелка, переходя с минуты на минуту, приближала время к шести утра. Фёдор Григорьевич ускорил шаги. Раз уговорились встретиться со Свиягиным ровно в шесть, надо поторапливаться. Аккуратность в торговых делах – прежде всего. Так учил их, братьев Волковых, ими почитаемый до сих пор покойный отчим.
У белой стены Китай-города, что спускалась к Москве-реке, Фёдор Григорьевич хотел повернуть влево, и тут он увидел лотки с книгами. Книги на этих лотках лежали прямо так, навалом.
Замедлив сначала шаги, он потом и вовсе остановился возле одного из них. Уйти от такого соблазна не хватало сил.
Ещё раз глянул на часы. Подумал: «Э, чего там, успею! Минуты три посмотрю, не больше...» – и принялся пальцами, жадными до книг, перебирать лежавшие перед ним книги.
Одни были ветхие, истрёпанные, написанные прямо от руки замысловатым сплетением старинной вязи. Другие – в крепких переплётах из свиной кожи, печатанные на немецком и французском языках. Были тут книги из Голландии, привезённые ещё при царе Петре.
Многие из них Волков откладывал в сторону, лишь мельком оглядев.
Неожиданно в руках у него оказалась тоненькая книжка, совсем новая и без переплёта. Она была из плотной, но желтоватой бумаги. На титульном листе книги значилось:
XОРЕВ.
ТРАГЕДИЯ АЛЕКСАНДРА СУМАРОКОВА
– А ну-ка... – пробормотал он, взял книжку в руки и со вниманием начал её перелистывать.
Трагедия «Хорев»
Прошёл час.
Прошло и много более часа...
А Волков всё стоял у лотка с книгами, и в руках у него была всё та же трагедия Сумарокова «Хорев».
Давно миновало время, назначенное Свиягиным для делового разговора. Но Фёдор Григорьевич на часы больше не глядел, а о делах позабыл и вовсе.
Да, это была та самая трагедия, которая пленила его на одном из спектаклей кадет Шляхетного корпуса! Читая пьесу сейчас, он вспоминал и некоторые сцены, и реплики действующих лиц, и даже отдельные слова, особенно ему запавшие в душу.
Ах, как хорошо помнится ему тот день, когда, будучи в Петербурге, он впервые попал на представление «Синава и Трувора». Стоя за кулисами, он смотрел на игру кадет-актёров и чувствовал в душе такой восторг, какого не знавал никогда прежде. Всё ему пришлось по душе в этом спектакле – и сама пьеса, и игра кадет, и декорации, и великолепные костюмы. Но главное – и пьеса была из русской истории, и актёры представляли на русском языке! Он до сих пор помнит восхищение, охватившее его, когда он увидел в роли Синава Никиту Афанасьевича Бектова. Какие пламенные слова произносил Синав! Какое благородство чувств было в его движениях и осанке!
Через некоторое время ему удалось посмотреть ещё один спектакль у кадет – «Хорев». Это была трагедия того же сочинителя – Александра Петровича Сумарокова. Пьеса ему понравилась даже более, чем «Синав и Трувор». Он решил переписать её от руки, чтобы увезти с собой в Ярославль. Но внезапный отъезд помешал сделать задуманное...
А вот сейчас «Хорев» у него в руках. Он листает страницы книги. Прочёл трагедию до конца и снова вернулся к началу.
Нет, никогда ещё не приходилось ему читать таких звучных и благородных стихов, написанных на русском языке! Каждое слово хотелось произносить вслух – громко, с чувством. И он прочёл вполголоса:
– Княжна! Сей день тебе свободу обещает,
В последние тебя здесь солнце освещает...
Неожиданно раздался тихий, со старческой хрипотцой голос:
– Видать, охочий вы до книг?
Рядом с Волковым стоял маленький, сухонький старичок. Очевидно, это был владелец книг, лежавших на лотке. Лет ему было семьдесят, а то и больше. Выцветшими казались его стариковские глаза. Редкую, седым клинышком, бородку шевелил ветер. Рот беззубый, добрый.
– Только в такой-то, что сейчас изволите читать, проку мало, – заявил старик. – Мало, мало проку-то.
Фёдор Григорьевич нехотя оторвался от книги. Проговорил, еле глянув на словоохотливого старика:
– Хорошая книга! Поболее бы таких, – и снова было вернулся к чтению.
Но старик не отставал. Покачав головой, протянул Волкову другую книгу. Эта была – читаная-перечитанная. Она почти рассыпалась в руках на отдельные листы.
– «Принц Пикель-Гяринг Жоделет, или Самый свой тюрмовый заключник...» Весёлая комедия! – произнёс старичок и, вдруг галантно, по-актёрски изогнувшись, помахал шапкой чуть ли не по самой земле. Прошамкал: – Пропустите мои благоречи чрез калитку ушей ваших в караул сердца вашего... обнадёживаю вас, моя козочка!..
Потом выпрямился, и в стариковских его глазах сверкнула гордость:
– При самом царе Петре Алексеевиче игрывал я в сей комедии... Так-то!
Волков с живостью спросил:
– Неужто в Петровском театре актёром были? В этом, что здесь, на Красной площади, находился?
– Был, был, как же! Мне тогда шёл двадцатый год. Ну, может, чуть больше... А стояла наша комедийная храмина как раз за храмом Василия Блаженного... Вон там!
Старик показал на площадь, где сейчас шёл торг и людским муравейником кишел народ.
Теперь Волков задавал вопрос за вопросом: а кто ходил смотреть представления в Петровский театр? Простой народ, поди, не пускали?
– Всякий мог. Заплати деньгу и смотри, – ответил старик. – В первых рядах, оно, правда, места дорого шли, по гривеннику. А какие подальше, за те брали по пятаку, по алтыну...
«Это хорошо, что всякий мог, – подумал Волков, – нынче лишь во дворцах идут представления. Кроме придворных да людей знатных, никто не допускается».
И снова принялся спрашивать. Вопросы его становились всё настойчивее, обстоятельнее: а как зал был устроен? Занавес какой был? Ага, на кольцах висел, раздёргивался на обе стороны... Так, так! Освещалась как сцена? Как наряжены были актёры? Всегда ли на русском языке шли представления? Музыканты где сидели?
– Поди народ-то валом валил? – допытывался Волков.
– Сперва, оно, верно, смотрельщики были. А потом чего-то перестали ходить... Царь Пётр и пошлины повелел отменить, что взымали у городских ворот. Всё равно не помогло. Иной раз человек двадцать пять набиралось, не больше...
– И долго ли был театр? – спросил Волков.
– Да не более трёх лет. Потом разобрали его. Много вещей из театра велела потом перевезти к себе в село Преображенское царевна Наталья Алексеевна, сестра царя. Сама хотела, видно, комедии ставить...
Волков внимательно слушал старого актёра Петровского театра. Потом принялся просматривать книжку с пышным названием «Принц Пикель-Гяринг Жоделет»...
А купит он всё-таки вот эту: трагедию Сумарокова! И как только вернётся в Ярославль, они попробуют поставить «Хорева» своими силами. Непременно!
Неясны были пока мысли Волкова. Но от мыслей тех вдруг тесно стало на душе и сладостно на сердце...
В тот день Фёдор Григорьевич так и не пошёл к Свиягину. Не хотелось ему заниматься давно надоевшими разговорами про купорос, да про селитру, да про денежные счёты и расчёты.
Анфиска видит невиданное
В субботу утром барыня Лизавета Перфильевна приказала Неониле Степановне идти в гостиный двор по лавкам. И то велела купить, и это.
Хоть и не больно много будет купленного, всё равно не порядок нести это самой Неониле Степановне. Что люди добрые скажут? Неужто у барина Никиты Петровича дворовых мало? Неужто некого в подмогу взять?
Перед уходом Неонила Степановна зашла в девичью. Примерила глазами Анфиску, широкоплечую, длинноногую. Сказала:
– Ты изо всех самая здоровая. На тебя, как на лошадь, навьючить можно. Собирайся, пойдёшь со мной!
В девичьей целый переполох. Вот уж кому подвезло, так подвезло! Чего только не насмотрится Анфиска в городе...
Девушки просят:
– Ты получше там, Анфисушка, гляди. Всё примечай: придёшь, расскажешь...
Сперва, как вышли из усадьбы, Анфиска было пошла рядом с Неонилой Степановной. Но та её мигом осадила:
– Ишь, дура, чего надумала! Вровень идти?! Порядков не знаешь! Чтобы я твоей рожи богомерзкой не видела. Сзади иди!
Анфиска ухмыльнулась. Сзади так сзади! Ей-то ещё лучше за спиной у Неонилки. Верти головой во все стороны, глазей сколько душе угодно...
Идут они медленно, не торопятся. У Неонилы Степановны походка стала важной, подбородок задрала, живот вперёд выставила. Ни дать ни взять сама барыня Лизавета Перфильевна! Даже хромота словно бы пропала, не так заметна при спесивом шаге.
Не успели за ворота выйти, за угол повернуть, остановились. Неонилу Степановну знакомая окликнула. Сразу разговоры у них пошли.
– Неужто утоп?
– Утоп, голубушка.
– Так и не вытащили?
– Куда там! Разве из такого болота вытащить...
Анфиска слушает, развеся уши.
Вот сидят они в девичьей день-деньской взаперти и ничего не знают, что по белу свету делается. Оказывается, на той неделе человек утоп во Фроловском болоте. Шёл, оступился и утоп. Такую смерть нашёл себе, горемычный!
Наговорившись, Неонила Степановна пошла дальше. Немного прошла, снова остановилась. Опять знакомая повстречалась, опять разговоры пошли. Про какого-то купца Парамонова.
– Так немцу-лекарю и доверился?
– Доверился, милая, доверился.
– Ну не быть ему живому! Вот кабы бабку Акулину вызвал... Знаешь Акулину-то? Знахарку?
– Как не знать! Сколько раз травами да наговорами от смерти спасала...
У Анфиски голова уже распухла от всяких россказней. Ох, только бы чего не позабыть, только бы всё упомнить, чтобы девушкам пересказать!
Хоть улицы, по которым они идут, узкие, пыльные, в ухабах и ямах, хоть дома, что стоят на этих улицах, не очень богаты, Анфиска то и дело ахает. Сроду она таких хором не видела. У них в Обушках разве такое встретишь?
А тут ещё...
– С нами крестная сила! – Анфиска от страха чуть ли не на землю приседает: красное из подворотни хлещет, ручьями по улице бежит. – Ох, матушка родимая, кровь!
– Дура! – чуть повернув к ней голову, говорит Неонила Степановна. – Краску из чанов спустили у заводчика Серова!
Пока дошли до гостиных рядов, Анфиску совсем разморило: и устала и есть захотела. Однако по лавкам Неонила Степановна ещё долго ходила, не столько покупала, сколько смотрела и приценивалась.
А у Анфиски больше ни на что глаза не смотрят. Вон какие атласы лежат переливчатые. Вон какая кисея висит, словно туман над рекой – белая, лёгкая. Вон какие позументы золотые с серебром, пуговки стеклянные сверкают, как росинки...
Но Анфиска ото всего этого лицо воротит. Скорей бы обратно в девичью. Есть охота, ноги ноют, жарко, томно.
После лавок Неонила Степановна надумала ещё и к купцам Волковым насчёт селитры зайти. Скоро мясо впрок солить, селитры много понадобится, заранее нужно договориться.
Пока Неонила Степановна вела речь о делах и чаевала с купчихой Волковой, Анфиса в сенцах стояла, с ноги на ногу переминалась.
Ждала-ждала, ждала-ждала и надоело ждать.
Вышла во двор. А на дворе увидела каменный амбар. Длинный такой.
От нечего делать Анфиса подошла к тому амбару. В нерешимости потопталась подле его ворот, а там и внутрь вошла. А как вошла, то и про всё забыла – и что устала, и что есть охота, и про всё на свете.
В амбаре невиданное делается. Весь он зелёными берёзками разукрашен, а на одном его конце сколочен высокий помост. Помост этот задёрнут занавесью, которая висит на медных кольцах. Поперёк же амбара длинные скамейки стоят.
Анфиска вытаращила глаза, разинула рот и стала пробираться ближе, чтобы получше всё разглядеть.
Тут занавес раздёрнули на обе стороны, и на помост вышли люди, все в диковинного вида одеждах. На одних полосатые зипуны, другие в белые холсты обернулись.
У иных волосы золотыми обручами схвачены, а ноги пёстрыми лентами перевиты.
Потом эти люди стали говорить. Говорили они слова, Анфиске вовсе непонятные, но зато царевна у них... Уж до того хороша, до того хороша! Волосы пышные, поступь лёгкая... Про таких царевен им Настя и сказывала сказки.
И вдруг... фу-ты, наваждение бесовское!
Самый главный, который ими распоряжался – Фёдором Григорьевичем его все звали, – вдруг он крикнул царевне:
– Ваня, Ваня, не так ходишь! Медленнее, медленнее! Павой иди! Помни, кто ты. И голову повыше... Вот так!
Анфиска обомлела. Да неужели царевна вовсе не царевна, а парень? И звать его Иваном? А волосы-то, значит, и не его?
Вот чудеса-то! Что дальше будет?
Но больше ничего Анфисе посмотреть не удалось. Услыхала:
– Анфиска, подлая твоя душа, куда запропастилась?
Анфиса и про царевну, и про все чудеса забыла, опрометью кинулась из амбара. Прибежала обратно в сенцы, а там её уже Неонила Степановна дожидается.
Закричала:
– Ты что, в своём уме? Дозваться тебя не могу...
И пнула Анфиску ногой изо всей силы.
В сумерках в девичьей
В девичью Анфиса вернулась только к вечеру, чуть живая от усталости. Хоть не шибко навьючила её Неонила Степановна, всё же досталось изрядно.
Однако девушки ей отдышаться не дали: рассказывай, что видела, что слышала!
Уже последний луч летнего солнца погас за окном, уже и сумерки сгустились, и месяц взошёл на небо, озарив девичью серебряным светом... А Анфиска всё рассказывает, всё рассказывает. Ничего она не забыла, что пришлось ей за день увидеть.
– Дальше, дальше говори, – торопит её Настя. Вся она подалась вперёд. Щёки её пылают. – Ещё чего видела, выкладывай! – Всё ей интересно, обо всём охота послушать, узнать.
Но вот Анфиса принялась рассказывать про амбар и чудеса тамошние. Тут Настя притихла, слушала как завороженная затаив дыхание.
Но лишь Анфиса кончила свой рассказ, Настя обвела девушек горящими глазами. Даже в полутьме было видно, как они у неё сверкают.
Заговорила шёпотом:
– Ничего я не могу понять, девоньки... Про что нам Анфиска сейчас толковала? Про царевну, и волосы-то у неё не свои... Что они там делают, в амбаре? Анфиска, – Настя испытующе поглядела на подругу, – а ты, часом, не врёшь ли? Не придумала?
– Я? – Анфиска вскочила, принялась креститься. – Да чтоб мне пропасть, чтоб провалиться на этом месте, чтоб...
– Не врёт она, – перебила Анфису Алёна, всегда молчаливая и строгая. – Представления бывают у Волковых в том амбаре. Давно об этих представлениях люди говорят.
– Представления? Какие же это представления? – удивлялась Настя. – Всё равно ничего не пойму...
– Вот ты нам сказки сказываешь, да? – вмешалась в разговор ещё одна девушка, Катерина. – А они эти сказки на разные голоса представляют... Уразумела? По воскресеньям у них бывают представления. Про это все в Ярославле знают.
Настя задумалась. Можно, конечно, сказку на разные голоса говорить. Один, скажем, за царя будет, другой – за царевича... Только как же там, у них? Вот кабы посмотреть! Хоть бы одним глазком взглянуть...
Она быстро спросила у Алёны:
– И всякий туда пойти может?
– Куда? – не поняла Алена.
– Да в амбар, на представления поглядеть?
– Всякий...
– И я могу? Пустят меня?
– А чего ж... Иди и смотри на доброе здоровье.
Настюшка вся затрепетала:
– Ох...
А в голове у неё такая сумятица! Погодите, подумать надо. Завтра-то какой день? Как раз воскресенье! Значит, завтрашний день там у них в амбаре будут представлять? А не отпроситься ли у Неонилы Степановны? Нет, лучше у самой барыни. Она, Настя, ненадолго сбегает. Одним глазком поглядит и обратно. А кружева, какие полагается, сплетёт...
Нет, не пустят. И просить нечего.
Надо изловчиться, чтобы без спроса. Потихоньку...
Настя притянула к себе Фленушку, зашептала ей на ухо.
Фленушка покачала головой. Ответила тихо, чтобы никто не слышал, почти испуганно:
– Что ты, Настя! Разве можно? Ишь, чего надумала! Да как же ты выберешься отсюда? Отчаянная, право...
А Настя не отстаёт, шепчет слова горячие, быстрые: выбраться-то она выберется. Не их печаль. Здесь бы её не хватились, вот что!
– Это мы устроим, – подумав, говорит Фленушка. – И работу твою сделаем...
– А коли так...
Настя обняла Фленушку за плечи, прижала к себе...
– Ах ты, Фленушка-голубушка, ненаглядная моя!..
И Фленушка ласково обнимает Настю:
– Да погоди ты... Прежде времени не радуйся.
Как же не радоваться? В душе у Насти ни с того ни с сего вдруг словно птицы запели.
А в девичьей уже наступила тишина. И месяц ушёл за деревья, не заглядывает больше к ним в оконце. Темно. Слышно дыхание спящих девушек, и мыши скребутся под полом.
Одной Насте не спится. И тревожно ей почему-то и сладко.
Пусть всё пропадом пропадает, а на представление в том амбаре она поглядит...
Сборы
...А про представления у Волковых уже говорят в Ярославле. Больше месяца идут они. Начались вскоре после того, как старший из братьев Волковых, Фёдор Григорьевич, вернулся из Москвы.
Иные говорят с осуждением об этой затее. Вот ведь какой почтеннейший человек был Фёдор Васильевич Полушкин, покойный отчим Волковых. Заводы при нём процветали. Капиталы множились. Не только в Ярославле – с Москвой, с Санкт-Петербургом торговлю вёл. А умер, досталось его имущество пасынкам, и всё полетело прахом. Хоть их пятеро, пасынков-то, а проку от них никакого. Все дела заброшены. В записные книги, поди, и не заглядывают. Заводы в упадок, наверно, приходят. Шуточное ли дело – что ни воскресенье, у них новая забава! А денег-то, денег сколько на это тратят! Одних красок сколько идёт на малевание холстов, что ставят они на своём помосте! А масла сколько сгорело в тех плошках, что перед пологом зажигаются, когда тот полог раздёргивают. Где уж тут заводскими делами заниматься, коли в головах и в мыслях у них сплошное озорство.
Богобоязненные люди ворчат: в церковь ходить надо, душу спасать, грехи замаливать, а они бесовскими потехами народ мутят. Куда только власти смотрят? Почему не одёрнут непутёвых? Неужто и воевода Михайло Бобрищев-Пушкин не знает, сколько людей совратили те представления? Говорят, у попа Нарыкова парнишка от рук отбился. Духовный семинарий бросил. У Волковых и днюет и ночует.
Но зато есть среди ярославцев и такие, что ждут не дождутся, когда пробегут шесть будничных деньков и наступит воскресенье. Задолго до назначенного часа тянутся они к Пробойной улице, куда выходят ворота каменного амбара.
Нетерпение одолевает тех людей, что пришли смотреть представление. Скоро ли пустят? Обещали в два часа. Можно было бы и пораньше. Ишь, сколько народа стеклось! Хватит ли на всех скамеек?
И верно: вся Пробойная улица запружена людьми. Кто заглядывает между створками неплотно прикрытых ворот. Кто – в щели дощатого забора. А есть и такие, которые залезли на плечи один другому и смотрят на волковский двор поверх забора.
Переговариваются:
– Ну как?
– Да вон потащили корзины с плошками.
– На кой плошки-то?
– А как же? В плошках – масло. Они гореть будут. Светить...
Что-то нынче покажут? Облака-то будут ли ходить вверх и вниз, будто настоящие? А музыка? В тот раз – ах, ах! – до чего сладостно играл Фёдор Григорьевич на домре! Заплакать можно...
Вот на одну из таких театральных потех воскресным утром собирали Настюшку в девичьей Сухаревского дома.
Настя ночью всё придумала. Главное, ей уйти потихоньку из дома, чтобы никто не заметил. И лучше всего прикинуться старой-престарой старухой. У барыни полон дом таких старух. И свои приживалки есть, и ещё какие-то пришлые старухи заходят. Барыня любит с ними про святые дела говорить, разные новости послушать. А что ей, барыне, ещё-то делать? От утра до ночи куда время девать? Несчитанное оно у неё, бездельное...
В такую старуху, какие к барыне ходят, решила Настя перерядиться. Никто на неё внимания не обратит, если она шмыгнёт из ворот Сухаревской усадьбы и побежит потом на Пробойную улицу, к дому купцов Волковых.
– Ты, главное, Настя, платок на глаза спусти: никто тебя не признает тогда, – говорит Фленушка, засовывая Насте под сарафан её тугую, длинную косу: у старух таких красивых русых кос не бывает.
– Сперва беги берегом, – поучает Анфиска, – а там возьмёшь влево. Как увидишь церковь, у которой купола разукрашены, это и есть Николо-Надеинская. Дальше ещё одна, поменьше. Эта – Ильинская. Вот напротив Ильинской те ворота...
Анфискины объяснения Наетюшка еле слушает. Чего там! Не лесом бежать. Надо будет, она у людей спросит.
– Насчёт работы ты не сомневайся, – говорили все наперебой. – Что полагается, мы за тебя сделаем. Свою не кончим, а уж твоя будет готовенькая...
– А коли кто зайдёт к нам, – подала свой голос худая большеглазая Матрёна, – скажем: «Ушла, мол, водицы испить»... Или ещё чего надумаем.
Наряжена была Настя в тёмный, вдовьего цвета сарафан. Чёрный платок до бровей натянула.
Дуняшка, барской барыни племянница, и та хлопотала возле неё. Расстаралась – принесла откуда-то ветхонький передник:
– Сгодится?
– Давай! – сказала Настя и надела передник. – А ходить, девоньки, я буду вот так, – проговорила она и засеменила вдоль горницы мелкой старушечьей походкой.
Девушки засмеялись. Смотрите-ка! Сто лет теперь Насте дашь, не меньше. Разве кому догадаться, что ей только шестнадцать сравнялось?
– А говорить я буду вот эдак, – продолжала озоровать Настя и зашамкала, словно у неё и правда во рту ни одного зуба не осталось: – Добрые люди, покажите мне, старой, дороженьку...
Девушки все как одна покатились со смеху. А Насте того и надо. Теперь её вовсе не остановить.
И начала она показывать, как сваха пришла в бедный дом уговаривать девушку, чтобы шла за богатого да кривого жениха:
– А ты, миленькая, не тужи, что кривой. Пускай кривой, зато кошелёк не пустой! Не с лица воду пить, когда найдётся чего в горшок положить...
Девушки давно работать бросили. Не до работы, когда представление у них, может статься, повеселее, чем в волковском амбаре.
– Ещё, Настенька! Ещё чего-нибудь... – от смеха стонала Анфиска.
Тут Настенька обвела подруг лукавым взглядом и, припадая на одну ногу, заковыляла от дверей. Левый глаз у нее стал чуть-чуть с косинкой и как-то вдруг припух, а говор сделался знакомый, много раз слышанный, сердитый.
– Вы чего расселись, дуры безмозглые? На скотный двор захотели? Вот я вас сейчас...
Девушки полегли с хохота. Ни дать ни взять сама Неонилка к ним пожаловала. Сейчас взбучку им даст...
– Ах ты, боже мой, ну и Настя, ну и шутница!
Веселье в девичьей. Такого ещё ни разу не было. Анфиса руками за живот схватилась, от смеха дохнуть не может.
– Ой, ой, ой, сейчас помру...
У Фленушки на глазах выступили слёзы. Смех её, мелкий и бисерный, слышнее, чем у всех.
Даже Алёну, уж такая она несмеяна, и ту прошибло, хохочет вовсю.
Вот она – сама Неонилка по горнице расхаживает! Её лицо. Её походка. И речь её, и слова те же...
– Уморишь, Настя! Честное слово... Уморишь!
Дуняшка тоже развеселилась. Хоть не очень-то ладно над собственной тёткой зубы скалить, но вместе со всеми смеялась до упаду.
И никто не заметил, как дверь в девичью тихонько отворилась и на пороге остановилась Неонила Степановна. Сама, собственной персоной...
Стоит, губы поджала и смотрит.