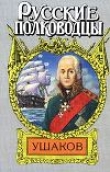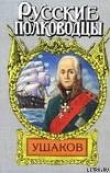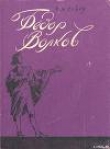Текст книги "Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове"
Автор книги: Софья Могилевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
На праздничном гулянье
На площади возле гостиного двора уже с неделю стоят балаганы. Там и есть главное веселье. Туда и кинулись Настя с Груней.
Пришли – и сразу у обеих глаза разбежались. И то хочется поглядеть, и это. А глядеть и правда есть чего!
Тут и катальные горы стоят. И карусели крутятся. И мужик с учёным медведем разные фокусы показывает. А музыканты на чём только не играют – и на дудках, и на гуслях, и на домрах!
Балагуры надрываются, зазывают народ на представление:
Эй, люди добрые!
Молодцы хорошие.
Молодки пригожие!
Не гнушайтесь – заходите.
На потеху поглядите!
Оно и верно, что на масленице
Веселее, чем на страстной пятнице!
Однако же и на святках потеха,
Животы надорвёте от смеха...
– Ой, Настя! – шепчет Грунька, цепляясь за Настин рукав. Боязно ей в такой сутолоке от Насти отстать. – Давай в балаганы сходим? Чего там посмотрим?
Настя объясняет: как же они пойдут? Деньги платить надо за смотрение.
– Так у нас с тобой припасены копеечки, – не отстаёт Грунька. – Дед ведь дал...
– Моя копеечка – заветная! На одно дело отложенная...
А навстречу идёт пирожник. Горячие пироги тащит. И этот народ зазывает, кричит на всю площадь:
Эй, кому с пылу, с жару,
На копейку – пару!
Груньке и пирогов охота отведать.
– Ой, Настенька, давай на мою копеечку купим? Тебе – пирог, мне – пирог... Может, они с зайчатиной?!
Но Настя тянет Груню дальше.
– Глядите-ка, глядите! Куклы какие – вот умора!
Они остановились перед высокой ширмой и глаз не могут отвести.
А из-за ширмы видно – поверху Петрушка со своей женой Пегасьей пляшут. На нём кафтан полосатый, колпак с бубенцами... А нос – что твой огурец, только красный.
Вот где веселье так веселье!
А Петрушка кончил плясать и давай гнусавить на всю площадь тонким-претонким голосом;.
Жену мою Пегасью видали ль?
Вести про нас с ней слыхали ль?
Мы хоть и не богаты,
Да у нас носы горбаты.
И хоть с виду мы не пригожи,
Да не носим на себе рогожи.
Три дни мы надувалися,
Три дни в танцевальные башмаки обувалися,
Три дни в колпаки с пером одевалися...
Потом Пегасья прыгнула вниз, а вместо нее – цыган с лошадью. Тут совсем потеха пошла. Петрушка начал с цыганом за лошадь торговаться...
Настя до упаду смеялась. Мороз стоит трескучий, а ей впору хоть платок с себя скинуть – до того жарко.
Вдруг она увидела Фёдора Григорьевича. Он стоял неподалёку. Тоже смотрел на Петрушку, а веселился больше всех. И в ладоши хлопал. И что-то подсказывал Петрушке. И подначивал:
– Так его, так его, жулика! Кнутом, кнутом...
Тут Насте стало уже не до Петрушки – с Фёдора Григорьевича глаз она не сводит. Ишь ты, разрумянился! Да, никак, сам пойдёт плясать с Петрушкой!
А она-то думала, что ему, умному, учёному, Петрушкино озорство и вовсе ни к чему. Оказывается...
Неужто не обернётся? Хоть разок неужто на неё не глянет?
Почувствовал ли Волков Настин взгляд или просто так повернул голову в ту сторону, но только увидел Настю. А увидев, тотчас заспешил к ней:
– Настя... Ты ли? Здравствуй!
Настя вся зарделась. И любо же ей, что Фёдор Григорьевич подошёл и заговорил с ней.
Улыбнувшись, поклонилась ему в пояс:
– Здравствуй, батюшка мой, Фёдор Григорьевич!
А Волков остановился рядом и стал показывать Насте на Петрушку:
– Видала, как с Пегасьей отплясывал? Понравилось тебе, Настя? Я с малых лет пристрастен к этим забавам. Люблю глядеть! Хлёстко, весело...
Настя молча смотрела на Волкова. Глаза у неё сияли, как звёзды.
– Нет, ты глянь, глянь, как он их лупит! – продолжал веселиться Волков. – Ну и ловкач! Так их, так их...
И вдруг, отвернувшись от ширмы, над которой Петрушка теперь расправлялся с квартальными, спросил Настю совсем другим голосом:
– Сколько времени не была, Настя. Или забыла нас?
– Что вы, Фёдор Григорьевич! Мне ли забыть? Только... – Настя опустила голову и тихо обронила: – разве моя воля... я же господская.
И замолчала.
А потом еле слышно промолвила:
– Коли проведает барыня... плохо мне будет.
Глаза у Волкова потемнели. С горячностью начал:
– Да за что же на тебя гневаться? Что худого, если посидишь и посмотришь, как мы пьесы представляем?
Настя ещё ниже склонила голову; знала, может, ничего в том нет, что почти каждый вечер она пропадает на Пробойной улице, но тяжела будет расплата, коли дознается о том барыня Лизавета Перфильевна.
А Волков продолжал ещё горячее:
– Ну хочешь, Настя, я схожу к твоему барину? Скажу, мол, так и так...
Настя не дала ему договорить. В лице переменилась. Затрепетала вся. За рукав его схватила.
– Фёдор Григорьевич! Батюшка мой... разве можно!..
И снова замолчала.
Теперь молчал и Волков. Тяжёлое раздумье легло на его лицо.
Вокруг веселье – свист, шум, смех, какие-то выкрики. А они стоят – Фёдор Григорьевич и Настя, оба молчат, и у обоих в мыслях одно и то же.
Наконец Волков тряхнул головой, словно отгоняя от себя эти невесёлые думы. Сказал:
– Ладно, Настя! Тебе виднее – коли нельзя, то и не пойду... Тут другое надо придумать... А что, пока не знаю. Одно помни – я тебе заступник во всём.
И сразу, точно не было между ними этого разговора, начал он о другом и снова совсем другим голосом:
– Слыхала, мы сразу после крещения открываем наш театр? Хотим седьмого января...
– А как же! Про это все толкуют – малые и старые.
– Приходи, Настя! Мы будем «Титово милосердие» играть. Помнишь, читали эту пьесу?
– Приду, Фёдор Григорьевич.
– Обязательно приходи. За кулисами тебя поставим...
* * *
– Грунюшка! – воскликнула Настя, когда Фёдор Григорьевич от них отошёл. – Пирогов не хочешь ли?
– Ой, хочу!
– А давай купим?
– Каких купим? – У Груни потекли слюнки: есть ей охота незнамо как. – Каких купим? С зайчатиной? А может, лучше с потрохами?
– Хоть с зайчатиной, хоть ещё с чем... Мне всё равно.
– А копеечка твоя разве не заветная? – вспомнила вдруг Грунька. – Ведь говорила...
– Она больше мне не нужна, – засмеялась в ответ Настя.
Бывают же такие дни, когда солнце светит только для тебя!
И для тебя сверкает снег алмазами... И весёлые перелёты галок, и золотые купола церквей, и смех, и веселье, и всё на свете лишь для тебя, лишь для тебя одной...
7 января 1751 года
Ни сам Фёдор Григорьевич Волков, ни его товарищи-актёры – Нарыков, Шумской, Попов, Чулков и другие, – конечно, думать не могли, что число это войдёт знаменательной датой в историю русского театра.
В тот день, когда широко и гостеприимно распахнулись двери нового театра на Никольской улице, все они, конечно, не могли себе представить смысла происшедшего. Но они твёрдо знали: их игру, их спектакли будут смотреть не десяток-два любителей-театралов и не кучка придворной знати, а многие. Очень много людей!
Театральные афишки уже несколько дней висели и в гостином дворе, и в других людных местах города. На них было написано:
«В воскресенье 7 января в новом театре на Никольской улице, под управлением 1-й гильдии купца Фёдора Григорьевича Волкова, российскими комедиантами-охотниками представлено будет первый раз:
МИЛОСЕРДИЕ ТИТА,
лирическая трагедия в трёх действиях, сочинение аббата Петра Метастазио».
Далее шёл перечень действующих лиц и фамилии исполнителей.
Начало было назначено в 5 часов.
Но гораздо раньше, чем появились эти афишки, людская молва разнесла весть о дне и часе открытия нового театра.
Седьмого января, чуть свет, при входе в театр в особом чулане уже сидел канцелярист Яков Попов. Он не был занят сегодня на сцене и его отрядили продавать билеты.
Даже дух у него захватило, когда он глядел на гору билетов, наваленных перед ним и которые ему предстояло продать сегодня.
Да найдётся ли столько смотрельцев в Ярославле? Мало ли, что амбар на Пробойной улице бывал всегда набит до отказа. А вот сюда пойдут ли?..
Народ потянулся с самого утра. Иные, чтобы спозаранку купить билеты; другие – занять места поближе к подмосткам; некоторых томило нетерпение...
И вот уже пятаки, алтыны, копейки весело зазвенели, забряцали в руках продавца билетов – Якова Попова. А сами они, эти билеты, ну прямо таяли у него на глазах!
А люди всё шли, шли.
Теперь уже не страх, что придётся играть при пустом зале, а скорее другое приходило в голову: хоть театр большой, но зрителей ещё больше. Вместятся ли?
А люди, входя в зал, осматриваются. Переговариваются, похваливают.
– Глядите-ка! Снаружи не очень казисто, а внутри – ничего...
– Ничего... ничего...
– А печи-то какие! И где такие красивые изразцы брал Фёдор Григорьевич? Не на заказ ли ему делали?
– Занавес, занавес как разрисован! Ай-яй-яй...
– Домá, что ли, на нём заморские? Одни столбы стоят, крыши нет...
Разноголосый гул наполняет зал. Народу много. Тесно сидеть на скамейках, ещё теснее стоять. Плечом к плечу. Вытягивают шеи, чтобы лучше видеть.
Темнеет на улице. А здесь – в фонарях, что висят на стенах и на потолке в медных паникадилах, горят сальные свечи.
– Скоро ль начнут?
– А вот как придёт время, то и начнут.
– Да ведь сказано: в пять часов...
Вроде бы и не стоило топить печей. Людей так много, что и без печей жарко. Некоторые женщины скидывают с себя платки, расстёгивают салопы. Мужчины и вовсе снимают шубы, кладут их на колени.
Занавес поднят
Настя попятилась: ох, батюшки!
Прямо на неё шёл человек в непонятной и очень смешной одежде. Белый холст, перекинутый через одно плечо, сбоку свисал у него чуть ли не до полу. Углём нарисованные брови, густые и чёрные, сходятся на переносице. Губы и щёки будто клюквой помазаны. И всё лицо набелено.
Незаметно, чтобы никто не видел, Настя перекрестилась. А человек усмехнулся и спросил голосом Миши Чулкова:
– Ты чего? Никак испугалась? – Он поднял вверх правую руку и торжественно произнёс: – Римский сенатор Публий!
Тут и Настя засмеялась. Хотела было спросить, зачем это Миша так сильно нарумянился. И, может, он не знает, а у него по всему носу чёрная полоса идёт. А уж брови-то! Не пожалел он, видно, сажи.
Но в это время через сцену, тоже в длинной белой хламиде, большими мальчишескими скачками пронеслась девушка. Подол своего платья она подобрала, чтобы ловчее было бежать.
Чулков крикнул ей:
– Ваня, ты куда?
Девушка, с чёрными, как у Миши Чулкова, бровями и тоже сильно накрашенная, слегка оборотила голову:
– Да вот тут Федор Григорьевич велел...
И исчезла за боковым полотном кулис.
– Ванюшку Нарыкова признала? – спросил у Насти Чулков. – Римская матрона Виттелия!
– А как же! – бойко ответила Настя. – А почему же не признать?
Но правду говоря, с той самой минуты, как она очутилась здесь (Фёдор Григорьевич показал ей, где стоять на сцене за кулисами), всё для неё обёртывалось чудесами и колдовством.
Вон дерево. Зелёное, пышное. Всё в листьях. Кое-где с желтизной, как бывает к концу лета.
Подошла ближе...
Что за диво! Ни тебе листьев, ни тебе зелени! На холсте бог знает что намалёвано. Вперемешку все краски – и синяя, и жёлтая, и зелёная, и чёрная...
Отошла вдаль. Опять зелёное, пышное дерево.
Приблизилась – и снова невесть что!
А тут ещё Миша Чулков напугал... А Ваня? Вырядился во всё бабье, а скачет ровно мальчишка, когда тащит за пазухой репу с чужого огорода...
– Настя, – негромко окликнул Настю Иконников.
А этот полез зачем-то вниз, в дыру, что прорезана между половиц недалеко от занавеса. Одна лишь лохматая его голова торчит оттуда.
Настя подошла к Иконникову.
– Помоги Степану огни засветить, – попросил он. – Скоро начнём... Эй, братец, – обратился он к Степану, – дай Насте свечу!
С опаской Настя взяла тоненькую восковую свечку из рук Степана. Кто её знает, свечку-то? Может, издали свеча, как свеча, а возьмёшь в руки...
Однако свеча была настоящей. Тёплый оранжевый огонёк легонько затрепетал от Настиного дыхания.
– Я пойду перед занавесом зажгу плошки, – сказал Степан. Это был один из волковских рабочих с купоросного завода. – А ты тут, ладно?
Настя кивнула и принялась осторожно подносить свечку к фитилькам светильников, что поставлены были тут и там, в разных местах сцены.
Вышел Волков. Он тоже был в белой одежде. Только одежда его была много пышнее и богаче, чем у Миши Чулкова. «Настоящий царь...» – подумала Настя и слегка посторонилась.
Фёдор Григорьевич на неё, однако, даже не глянул. Точно её здесь не было. Он был сейчас на себя совсем непохожий – суровый, неприступный. Такому Настя словечка не посмела бы сказать... Такой и Насте слова не кинул бы!
Всё оглядев, как хозяин, Волков проговорил:
– Сейчас начнём! – и скрылся за углом белой стены, с нарисованными на ней колоннами.
У Насти сладко и тревожно забилось сердце.
Торжественно и медленно двигаясь, на сцену вышли трое в белых балахонах – Миша Чулков, Гаврила Волков и Алёша Попов. Три римских сенатора – Лентул, Анний и Публий.
– Настя! – тихо шепнул Гаврила Волков – сенатор Анний. – Глянь, народа много ли?
– Куда глядеть? – тоже шёпотом, вся замирая не то от страха, не то от чего-то другого, ей непонятного, спросила Настя.
Гаврила показал на круглую дырочку в занавесе. Настя прильнула глазом к этому отверстию.
Тихо ахнула.
Всё там, по ту сторону занавеса, было набито людьми. Тех, кто сидел на ближних скамейках, она хорошо видела. А остальных больше слышала, чем видела. И она поняла, что странный и глухой гул, который всё время доносился сюда на сцену и который беспокоил её и настораживал своей непонятностью, был говором и смехом тех людей, что пришли сюда смотреть на представление.
Но сколько же их было, этих людей!
– Ну чего там? – нетерпеливо спросил Гаврила, дёргая Настю за рукав.
Настя обернулась и закивала ему головой. Гаврила понял, что народу собралось много.
– Полно? – снова спросил он.
Настя закивала ещё сильнее: полно, полно! Яблоку упасть и тому негде...
Раздался негромкий, повелительный возглас:
– Начинаем!
Фёдор Григорьевич Волков – римский император Тит Веспасиан – в великолепных одеждах вышел на сцену.
Настя заметалась перед занавесом. О господи, ей-то куда деваться?
– Туда стань, – проговорил Фёдор Григорьевич и показал Насте место сбоку за кулисами.
И опять тот же Степан, налегая всем телом, завертел деревянную рукоятку какой-то машины. Канаты, что шли сбоку вдоль занавеса, начали накручиваться на круглый барабан, и занавес медленно и плавно пошёл вверх.
С этого мгновения Настя словно перенеслась в другой мир. Теперь она боялась не только куда-нибудь оглянуться, но лишний раз вздохнуть. Вся подалась вперёд, до боли стиснув пальцы. Она не отрываясь следила за каждым словом, за каждым движением, за каждым жестом тех, кто любил, ненавидел, радовался и страдал сейчас перед ней на сцене.
Теперь ей не казались смешными эти непонятные ей белые одеяния. Всё было как надо. И лица актёров – Миши Чулкова, Вани Нарыкова, самого Фёдора Григорьевича, которые были слишком белы и слишком румяны при обыкновенном свете, теперь, когда яркие огни падали на них и снизу, и сбоку, были именно такими, какими должны были быть...
Сердце у Насти то изнывало от жалости к прекрасной Виттелии, которая неминуемо должна была погибнуть, оклеветанная и поруганная. То она проникалась ненавистью к надменному консулу Сексту, что строил злые козни против благородного Тита. И вся трепетала, вслушиваясь в звучание красивого, сильного голоса Фёдора Григорьевича.
Платок сбился у неё с головы. Ярко пламенели щёки. Она, точно в забытьи, повторяла отдельные слова, фразы... И знакомые ей, и незнакомые. И понятные, и смысл которых для неё был загадочен.
...Поздним вечером Настя возвращалась домой из театра. Шла медленно, в тихой задумчивости. И вдруг её словно пронзило. Она остановилась. Это была мысль – нет, не мысль... Это была мечта, которая где-то тлела в глубине её сознания, но в которой она не смела признаться даже себе самой.
Неужто это возможно?
Ярчайшие звёзды сияли там наверху.
Золотой ковш Большой Медведицы точно запрокинулся ей навстречу.
Настя стояла, смотрела на звёзды, и ей казалось, что для неё всё возможно и нет несбыточного...
Новые замыслы
Первое время Ваня Нарыков с какой-то настороженностью, более того, с неприязнью относился к появлению Насти среди их театральной компании. Он молчал, но Фёдор Григорьевич видел – ревнивые огоньки загораются в Ваниных глазах всякий раз, когда на читках он, Волков, велит девушке: «А ну-ка, Настя, попробуй, скажи теперь ты эти Офелины слова...» Ваня досадливо морщился, лишь только Настя начинала говорить, а случалось, и вовсе уходил из горницы. Точно ему было неприятно, невмоготу слышать её голос и то, что не он, а Настя произносит фразы из роли, назначенной ему.
А потом Фёдор Григорьевич стал примечать: всё внимательнее и с большим интересом относится Ваня к тому, как читает роль Настя. Не уходил больше. Слушал. Иной раз одобрительно кивнёт головой, а то и скажет: «Отменно!.. Так и надобно».
И совсем не удивительным показалось Фёдору Григорьевичу, когда не кто иной, а Ваня Нарыков однажды ему сказал:
– Федя, а пусть бы Настя Оснельду попробовала?
– Так она и пробует, – ответил Волков, делая вид, что не понимает, о какой пробе говорит ему Ваня.
– Да нет же, Федя! В театре, при народе. У неё лучше, нежели у кого иного, выйдет. Право слово!
– Не дело говоришь, – сказал Волков.
Но Ваня не отставал:
– Да почему не дело?
Но Волков разговора продолжать не стал.
Между тем и сам он не раз думал о том же: если Настю попробовать в каком-нибудь из спектаклей! Да разве можно, коли она крепостная, чужая, сухаревская... Непорядок это будет.
А Ваня Нарыков через некоторое время снова вернулся к тому же разговору.
– Попробуй, Федя! Чувствую, что отменно выйдет у Насти роль Оснельды... Скажешь: не принято, чтобы женщина на сцене? Так ведь только у нас не принято. А у немцев? У итальянцев? Французов? Сам рассказывал – в Санкт-Петербурге и в Москве видел... У них женские роли ведь женщины играют. А мы чем хуже?
– Не в том дело – хуже или лучше! У них свои обычаи, у нас свои...
– Да ведь попытка не пытка, – вступил в спор и Гаврила Волков. – И я так думаю, у Насти здорово получится. Попробуй, брат...
– А вы оба подумали о том, что Настя из дворовых? – с горячностью вскричал Волков. – Что выйдет, ежели её господа про то узнают?
– Эх, Федя, да откуда же им проведать? – воскликнул и Ваня. – Мы ей фамилию другую придумаем... Назовём её Егоровым или ещё как... Федя, давай, а?
– Гы-гы-гы! – вдруг рассмеялся канцелярист Иконников. – Вот уж несуразно! Крепостной девке, да на сцену... Одна смехотища будет из того...
Среди них Иконников был, пожалуй, самым бесталанным. Но так беззаветно, как он, никто из них не любил театра. Ему было почти всё равно – суфлировать ли, высунув голову из дыры на сцену, или вместо Степана крутить ворот, поднимающий занавес, малевать ли декорации или выходить на сцену с двумя репликами или вовсе бессловесно. Главное для него – быть на сцене, дышать воздухом кулис, присутствовать на каждом спектакле и репетиции...
– Вон, говорят, иностранцы, – продолжал Иконников, – и лягушек едят... Так разве это нам, православным, пример? В храме господнем женщинам в алтарь ходить не положено. И в театре нечего им делать...
Волков мрачно взглянул на Иконникова и проговорил, обращаясь к Ване Нарыкову и брату Гавриле:
– Слышите, что говорит?
Присматриваясь к одарённой девушке, Волков всё чаще стал задумываться о Насте, о её судьбе. Не раз корил себя, ругал на все лады – зачем он приохотил Настю к театру, что путного может выйти для неё, крепостной и подневольной, из всего этого? Если проведают её господа, что она чуть ли не всякий день бывает в театре, страшно подумать, чем это для Насти может обернуться...
«Нужно ей наказать, пусть больше не ходит к нам в театр», – думал Волков в такие минуты.
Но язык не поворачивался это сказать, когда он видел самоё Настю, её сияющие глаза, улыбку. А уж когда она начинала говорить какую-нибудь роль, тут он и вовсе забывал обо всём. Только вслушивался в её голос, только наслаждался красотой его и звучностью, только удивлялся, сколько чувства и понимания вкладывает она в произносимые слова. И такая была власть её таланта, что, слушая её, он думал лишь об одном: в Оснельде её попробовать или в Офелии? А может, лучше в Семире, в новой трагедии Сумарокова, которую брат Иван недавно привёз из Петербурга?
Но как-то он услышал такой разговор. Его мать, Матрёна Яковлевна, рассказывала приживалке Домне: третьего дня барыня Прасковья Игнатьевна велела насмерть запороть свою дворовую девку. Какая провинность была у девки-то? Да ведь дело не в том, какая. Провинность – и всё тут. А уж на то она и барыня, Прасковья Игнатьевна: хочет – виновную казнит, хочет – милует! Это уж её господское дело.
«Завтра же ей скажу, пусть больше не ходит!» – решил Волков, поднялся со стула и стремительно зашагал из угла в угол горницы.
А на другой день...
– Настя, – проговорил Фёдор Григорьевич, когда на другой день Настя, как обычно, прибежала в театр. Он смотрел на девушку пасмурным и словно бы отчуждённым взглядом. – Вот что хочу тебе сказать...
И вдруг он увидел – восковая бледность покрыла Настино лицо. В глазах у неё появилось такое отчаяние, какое бывает у человека лишь в предчувствии страшной беды, готовой обрушиться на его голову.
И Фёдор Григорьевич вместо всего приготовленного им ранее тихо, в каком-то смятении проговорил:
– Грамоте тебя, что ли, обучить? Все роли ты с голоса твердишь, не годится это...
Какая необыкновенная перемена в тот же миг свершилась с ней!
Так бывает после грозы: из-под тяжёлой тучи выглянет солнце, и в неистовом блеске засияют, засверкают, заиграют и на травах, и на цветах, и на листьях деревьев бесчисленные дождевые капли, всё преображая и всё освещая этим своим блеском...
– Ох, Фёдор Григорьевич! – не сказала, а чуть слышно выдохнула Настя. – А мне ведь померещилось...
И руки её, только что прижатые к груди, упали вниз.