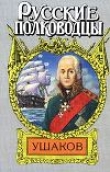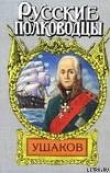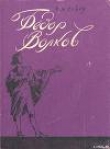Текст книги "Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове"
Автор книги: Софья Могилевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Могилевская
Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове
Настя
Всё, о чём здесь рассказано, произошло более двухсот лет тому назад. А именно – в 1750 году.
В те далёкие времена в Ярославле жил помещик Никита Петрович Сухарев. Нельзя оказать, чтобы он был очень богат. Но был он и не беден. Имел до восьмисот душ крепостных крестьян и несколько больших и малых деревень.
Одна из его деревень называлась Обушки и находилась верстах в семидесяти от Ярославля.
Вот в этих самых Обушках, в семье крепостного Тимофея Протасова и росла Настя. Шёл ей в ту пору шестнадцатый год.
Со стороны глядеть, ничего особенного в Насте не было. Худенькая, роста невысокого. Русая коса пониже пояса, ясные, тёмно-голубые глаза. На носу жёлтыми крапинками рассыпались веснушки.
Вот, пожалуй, и все приметы. Таких девушек в Обушках с десяток наберётся, а то и больше.
Но всё же было в Насте такое, что отличало её от других: великой мастерицей была она рассказывать сказки и всякие истории. В длинные зимние вечера соберутся девушки прясть куделю и обязательно бегут за Настей.
Одна отворит дверь, крикнет с порога:
– Скорей, Настюшка! Все собрались, одной тебя недостаёт...
– Сейчас! – весело откликнется Настя. – Вот только матушке пособлю – воды бадейку принесу.
Та убежит, другая на смену:
– Да чего ж ты мешкаешь, Настя? Заждалися! Без тебя и работа не в работу...
– Иду, иду! – крикнет Настя. – Дайте хоть платком волосы покрыть. Ишь, нетерпеливые!
А девушек и правда нетерпение одолевает: не успеет Настя порожек переступить, они ей хором:
– Про бабу-ягу – костяную ногу...
– Нет, расскажи нынче про Илью Муромца, про богатыря бородатого...
– Не слушай их, Настя! Ведь обещалася в тот день нам про царевну-несмеяну... Вот и говори про неё...
И начнёт Настя свои сказки сказывать.
Тишина в избе. Не слышно, как лучина потрескивает, как веретёна жужжат. Только Настин голос раздаётся.
А иной раз такое начнёт рассказывать, что девушки забудут и про прядево, и что ночь наступила, что домой пора. Слушают, разинув рты. Дышать боятся, чтобы словечко Настино не упустить...
Ни одна посиделка без Настиных сказок не обходилась, так уж повелось в Обушках.
А так что ж – девушка как девушка, мимо такой пройдёшь и не оглянешься.
Февральским вечером
Было это в феврале. В избу к Протасовым вошёл староста. Сказал Настюшкиному отцу:
– Собирай-ка, Тимофей, свою меньшую. В Ярославль поедет. Барыня Лизавета Перфильевна приказала прислать двух девушек, какие посмышлёнее. Надо быть, твоя подойдёт...
Мать ахнула, залилась слезами: куда ж такую махонькую из дома, да ещё в Ярославль?
Однако против старосты не пойдёшь. В тот же вечер Настю снарядили в дорогу. Староста сказал, что рано поутру из Обушков пойдёт обоз с дровами, заодно и Настю прихватят.
Старший брат Петруша завидовал. Ишь, какое счастье Настёнке привалило – в Ярославль едет! А он из Обушков – никуда. Разве только в лес за дровами, или за клюквой на болото, или на Волгу невода ставить.
В эту ночь перед отъездом из дома Насте долго не спалось. Она всё ворочалась с боку на бок, всё вздыхала. Разные мысли в голове бродили.
Ярославль...
Отец был там раза два. Возвратясь, рассказывал такое, что поинтереснее всяких сказок! И про церкви ярославские красоты неописанной. И про башни кремлёвские – высотой они чуть ли не до неба. Про дом барина Никиты Петровича: вот у кого палаты каменные! И никаких тебе в окнах бычьих пузырей, как у них в избе. Куда там – в каждом окне их дома стёкла блестят!
И про богатые базары ярославские отец рассказывал. Всё можно купить на тех базарах, была бы деньга в кармане.
Лежала Настя с открытыми глазами и будто наяву видела: идёт она берегом, возле самой воды, а на горе – город. Весь розовый, жарко блестят на солнце золотые маковки церквей. А на небе не то белые облака плывут, не то белые птицы летают...
Потом наконец уснула.
Мать её растолкала затемно. Велела поскорее собираться. Было слышно: мимо избы, скрипя полозьями, идёт обоз.
Настя проворно оделась, покрыла голову платком, сунула за пазуху ломоть хлеба, завёрнутый в чистую тряпицу, и выскочила из дома. В руках у неё был узелок – мать собрала и завязала кое-что из одежонки.
Впереди, в хмуром рассвете наступающего утра, виднелись тяжело гружённые дровами сани. Обоз уже опускался вниз, под гору. Дорога на Ярославль шла через Волгу, а потом лесом.
Настя кинулась догонять. Знала, что из Обушков, кроме неё, едет ещё Анфиска Бокова. Вот бы присоседиться на одни с ней дровни!
Пробежав немного, Настя оглянулась.
На крыльце стояла мать. Пригорюнившись смотрела ей вслед. А у плетня, занесённого снегом, ветер сильно раскачивал знакомую ветвистую рябину и шевелил солому на крыше ветхой избёнки.
Сердце Насти сжалось вдруг неведомой ей дотоле тоской, хоть не думала она и не гадала, что последний раз видит и этот плетень, занесённый снегом, и рябину у плетня, и старушку мать, стоявшую на крыльце и глядевшую ей вслед...
Кружева
Барыня Лизавета Перфильевна любила кружева. Десять девушек-кружевниц сидели у неё в девичьей и стемна дотемна плели на коклюшках и фантажные кружева, и мелкотравчатые, и брабантские, и разные другие.
Каждая плетея сидела перед подушкой, вроде круглого валика. Подушки для большей упругости и тяжести были набиты мхом. Плели кружева точёнными из клёна коклюшками.
К тем десяти, что уже находились в девичьей, посадили и Настю с Анфиской, двух девушек из Обушков. Приказали им, не щадя сил, учиться кружевному делу. А если окажутся к нему неспособными, пошлют или на коровник, или воду таскать, или какую другую работу заставят делать.
Настя стала учиться у Фленушки, лучшей здешней кружевницы.
Родилась Настюшка смышлёной, руки у нее были ловкие, проворные, училась она прилежно и вскоре стала выводить из ниток хитрые кружевные узоры – и заплеты, и оплеты, и репья вроде трилистников, и всякие там замысловатые черепушки.
Понемногу и с девушками дружбу свела. Не со всеми, конечно.
Вот Дуняшку, например, она сразу невзлюбила. Была эта Дуняшка рыхлая, ленивая. Работала кое-как. А глаза, из заплывших жиром щёлочек, глядели остро, будто всех щупали и всё высматривали. Приходилась она не то племянницей, не то ещё какой-то роднёй Неониле Степановне, старшей и любимой барыниной служанке.
И хоть нерадива была Дуняшка, хоть кружева плела грубые, простые, но – вот диво дивное! – всё время Дуню звали на барскую половину и оттуда она возвращалась, хвалясь подарками. То новую ленту покажет, то нитку разноцветных бус.
Хвасталась:
– Очень понравилось матушке-барыне Лизавете Перфильевне, какие я кружева плету...
Настя втихомолку удивлялась: неужто барыня совсем ничего в работе не понимает? Дуняшку отмечает, а Фленушку вот никогда, ни разочка не похвалила.
А Настя готова была хоть целый день любоваться Фленушкиными кружевами. Вот искусница так искусница!
Фленушка брала самые тонкие нитки и из этих ниток-паутинок выводила такие узоры, что по ним хоть сказки сказывай.
Вот у неё течёт речка. Течёт, извивается меж высоких берегов. А берега разными травами и цветами оплетены. И ходят между травами красивые птицы-павы. Чинно идут – пава за павой, пава за павой. А по речке будто бы корабли плывут. Остроносые и паруса распустили...
И хоть бы кто-нибудь, кроме Насти, полюбовался этими кружевами, хоть бы разок самой Фленушке кто-нибудь доброе слово оказал.
Сидит она день-деньской и плетёт, и плетёт, и плетёт. Поднимет на минутку голову, скажет что-нибудь тихое, глянет чёрными, как у ласточки, глазами и снова плетёт, плетёт, плетёт...
Но однажды случилось так: в девичью вдруг пожаловала сама барыня Лизавета Перфильевна. А с нею и Неонила Степановна, её любимая прислужница. Между собой дворовые её барской барыней величали: уж больно много она о самой себе понимала.
Лизавета Перфильевна стала обходить девушек, рассматривала, какие кто кружева наплёл.
Неонила Степановна от барыни ни на шаг.
Спрашивает барыня:
– Покажи-ка Дунину работу...
Неонила Степановна засуетилась. Подскочила к Фленушке. Заюлила, заговорила сладким голосом:
– Вот же, голубушка Лизавета Перфильевна! Вот оно, Дуняшкино плетенье! Или не признали? Гляньте, какие узоры вывела... Ну и ну!
Дуне крикнула:
– Подойди ближе, дура! Не скромничай...
А Фленушку оттолкнула к стенке: не путайся, мол, под ногами, твоё дело – сторона.
Вспыхнула тут Настя. Всё в ней словно перевернулось. Сразу поняла: так вот за чью работу Дуняшке похвала и награда!
И, не стерпев, сказала громко:
– А Дуняшке сроду таких не сделать... У нас одна Фленушка такие кружева плетёт.
Сказала Настя и до смерти испугалась. Да как же она посмела при барыне рот открыть!
А барыня, покосившись на дерзкую девчонку, спросила:
– Откуда такая будешь?
– Обушковская она, – за Настю ответила Неонила Степановна. А сама готова была Настю глазами съесть. – Недавно сюда прислана...
– Оно и видно. Говорливая, – сказала барыня и вскоре после того ушла из девичьей.
Ночью в девичьей, лёжа на полу, на постеленной для спанья дерюжке, Фленушка шептала Насте на ухо:
– Настя, Настя, что ты наделала? Глупая ты, неразумная... Кто тебя за язык тянул? Ведь издавна так водится – моя работа за Дунину идёт... Неужто ты не знала?
Настя молчала и думала: почему же так должно быть – видишь неправду, а всё равно не смей говорить?
И хотя в девичьей решили, что теперь Насте несдобровать и бог знает, что будет ей за смелые её слова, на этот раз, однако, дело обошлось...
Настины сказки
На другой же день после приезда из Обушков, как только посадили двух девушек учиться кружевному делу, Анфиска сказала:
– Ох, девоньки! Вы ещё и знать не знаете, какие у нас сказки Настя сказывать умеет. Вы бы попросили её. Насть, а Настенька, не отнекивайся... Расскажи про Еруслана-королевича, а?
А Настю и просить долго не надо. Она сама любит рассказывать.
Так почти с первых дней повелось. Все работают и слушают, а Настя тоже кружево плетёт и говорит, говорит.
Много она знала. Десятки сказок были у неё в голове. Откуда? Да она и сама не могла бы сказать этого. Иные от людей слыхала и запомнила. Другие старая бабка ей шептала на ночь, когда Настя была совсем маленькой. А были и такие, что она сама придумала. Пожалуй, эти, придуманные ею самой, Настя любила больше всего.
Бывало, начнёт:
– В некотором царстве, в далёком государстве жил-был хороший человек. Были у него две дочки. Одна так себе – ни то ни сё. Зато другая – лучше не бывает. И пригожая, и умница-разумница, и добрая душою...
И чего-чего только не нарасскажет Настя. И жар-птица у неё летает, играя радужными перьями. И прекрасная царевна томится в хрустальном дворце на дне синь-моря. И злой разбойник велит снести напрочь голову молодцу, а тот возьми да самого разбойника вниз головой в колодец.
И каждый у неё говорит своим собственным голосом: баба-яга скрипучим, сварливым, а храбрый молодец звонким да молодым. Медведь по-медвежьи рычит, а волк, тот совсем по-другому. Заговорит добрая сестра – слова у неё льются ласковые, певучие. А как ленивая начнёт – то сразу по голосу можно понять, что и ленивая и злая эта сестра.
Расскажет Настя одну сказку, а девушки ей и передохнуть не дадут, просят:
– Ещё, Настенька! Другую...
Фленушка говорила не раз:
– Ты у нас, Настя, ровно солнышко в темнице...
И правда: с той поры, как Настя в девичьей, всем девушкам веселее жить на свете. Даже работа лучше спорится под Настины сказки.
Только Дуняшка нет-нет, да и поворчит:
– Опять завела...– Однако слушала, развеся уши, и глаза у неё горели.
Весна
А время шло.
Наступила весна.
Снег ручейками сбежал в Волгу и в реку Которость. Грязь стала подсыхать, на припёке зазеленела трава. Потом листья на деревьях распустились, расцвели цветы – голубые перелески, жёлтая мать-и-мачеха, белая ветреница.
А там пошла цвести черёмуха. За ней вишня, груша, яблони.
Как-то Настя подняла маленькое квадратное оконце, и вместе с душистым ветром в девичью влетел белый яблоневый лепесток. Настя подхватила его и положила себе на ладонь. Чуть не заплакала: вот и яблони отцветают, а ей так и не пришлось поглядеть, какие они были в эту весну.
Затосковала Настя. Не привыкла она с утра до ночи сидеть взаперти. Доколе это будет?
Дома уж она и на Волгу слетала бы, поглядела на неё, на широкую. Зачерпнула бы горсть воды студёной, испробовала бы – не слаще ли стала водица нонешней весною?
И в лесу побывала бы, послушала, как кукушка кукует. Поспрошала бы у неё – скоро ли, долго ли ждать ей, Насте, пока суженого повстречает?
А ночью постояла бы на пригорке, что за деревней, поздоровалась бы с молодым месяцем: «Здравствуй, месяц – золотые рожки! Ты чего ж не смеёшься, голубчик мой? Чего невесел? Или солнышку завидуешь, что оно день-деньской сияет, а тебе вот только ночка тёмная отведена?»
А если на недельку отпроситься в деревню? Кинуться барыне в ноги, сказать: отпустите меня, матушка, голубушка, Лизавета Перфильевна! Уж больно я по родным местам соскучилась... Неужто барыня не поймёт, как ей хочется отца с матерью повидать?
Рассказала о своей задумке Фленушке, та руками замахала:
– Что ты, что ты... В своём ли уме? Разве можно с таким к барыне?
– Да почему ж нельзя? Худого что тут? – не понимала и допытывалась Настя.
– Худого ничего нет, а всё равно нельзя, – сказала Фленушка и показала на Алёну, девушку-кружевницу, чуть постарше остальных. – Вот она тоже вздумала просить барыню, чтобы её хоть на денёк отпустили в деревню. Там у неё миленький дружок остался. Стосковалась по нему. Подследила Алёна, когда барыня по саду гуляет, и упала перед ней на колени. Стала молить, просить, всё слезами оросила...
– Не пустила барыня? – ахнула Настя.
– Какое там... – Фленушка махнула рукой. – По щекам отхлестала, и весь разговор. Ещё спасибо, что хуже не было.
Сильнее прежнего заскучала Настя. Даже сказки перестала говорить. И так-то была тоненькая, худенькая, а теперь совсем былинкой стала. Одни глаза на лице остались.
«Ах туманы вы мои, туманушки...»
В троицын день, ради большого праздника, выпустили девушек на вольный воздух. Песни пусть споют, хороводы поводят, поиграют. Барыня любила девичьи песни послушать, на хороводы поглядеть.
Девушки сразу затеяли горелки. Стали парами друг за дружкой и запели:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!..
Водит Дуняша: ей выпало. А Настина пара – долговязая Анфиска, та девчонка, что вместе с ней из Обушков приехала.
Анфиска шепчет Насте на ухо:
– А давай не поддаваться, а? Все к Дуняшке подлизываются, а мы вот не станем...
Настя засмеялась:
– Я-то не поддамся, а вот как ты, не знаю!
Обе побежали: одна взяла влево, другая – направо.
На Дуняше сарафан понаряднее, чем у других. И лент у неё много. И бусы гремят на шее.
Сначала она кинулась было за Настей. Но раздумала и повернула за Анфиской.
Настя глянула через плечо: так и есть – не устояла Анфиса. Бежит всё медленнее. Сейчас Дуняша её догонит, схватит за рукав.
И уже слышны льстивые голоса, смех:
– Ай да Дунюшка! Анфиску сумела догнать...
А Насте кричат вдогонку:
– Настя, Настя, ворочайся, тебе водить!
А Настя словно и не слышит. Бежит всё шибче, шибче...
Сквозь густой малинник пробралась.
Потом побежала между вишнями. Голову наклонила, чтобы платок не сбить. А косу со спины на грудь перекинула, не цеплялась бы за вишнёвые ветки.
Велик господский сад. Но вот и ему конец! Дальше бежать некуда. Плетень. За плетнём большак тянется. По нему, говорят, не только до самой Москвы – и в Петербург доехать можно.
Настя перевела дух. Обхватила рукой ствол рябины. Прижалась щекой к гладкой её коре. Такая же и дома возле их избы стоит. Такая же развесистая, кудрявая, красивая.
А внизу, под обрывом, видна Волга. Зелёные у неё берега.
Настя с тоской поглядела на эти далёкие заволжские берега. Ничего впереди не видно, кроме бескрайних лугов да облаков, словно застывших в густой небесной синеве. Но кажется – позорче ей глаза и увидела бы за лугами, за дремучими лесами деревню, где мать с отцом, где изба под ветхой крышей с рябиной на дворе...
Из сада чуть доносится:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло...
Давно Настя не пела. А сейчас вдруг захотелось. Вздохнула всей грудью и тихо, для себя для одной, начала старинную волжскую песню. С детства её знала. Слыхала от матери...
Ах туманы вы мои, туманушки,
Вы туманы мои, непроглядные.
Как печаль-тоска ненавистные!..
Встреча
А в это время из-за поворота дороги выехала запряжённая парой лошадей крытая повозка. Видно, немало вёрст пришлось проехать путникам: кузов повозки был весь в дорожной пыли.
Вдруг ямщик, словно по чьему-то велению, осадил коней, а из повозки проворно вылез человек.
Махнув ямщику рукой, чтобы ехал дальше, человек сказал кому-то сидевшему в повозке:
– Вот так и объяснишь матушке с братьями: что, мол, захотелось пройтись и вскорости буду...
Из повозки высунулась голова старика, видимо, домашнего слуги. Старик принялся ворчливо выговаривать:
– Вечно у тебя непутёвое в голове, Фёдор Григорьевич. И чего тебе приспичило? Можно сказать, возле самого родительского порога...
Но человек лишь улыбнулся в ответ. Бросил ласково и непреклонно: «Ладно, будет тебе, Егорыч!», и снова приказал ямщику, чтобы тот ехал дальше.
Ямщик взмахнул кнутом, лошади резво взяли с места и пошли вперёд. А человек остановился на обочине дороги, что тянулась по обрывистому берегу Волги мимо того плетня, что огораживал сухаревскую усадьбу.
Человек этот был одет в щеголеватую поддёвку купеческого покроя. Шапку, сдёрнув с головы, он держал в руке, и русые волосы его, ничем не прикрытые, волнистыми прядями падали назад, открывая высокий, красивый лоб. Глаза, подбородок, чуть приметная усмешка, трогавшая губы, всё говорило о проницательном, живом уме и твёрдом характере. На вид ему было лет двадцать с небольшим.
Привычная картина открывалась сейчас его глазам. Справа Волга широко и привольно несла свои глубокие воды. Впереди, возвышаясь над одноэтажными домами, виднелись золотые кресты на голубых, разукрашенных затейливой росписью и лепкой куполах ярославских церквей. Ещё дальше– кремлёвские башни и стены. Отсюда всё ему казалось особенно нарядным, богатым и красивым. Как всегда бывает с людьми, вернувшимися после долгой отлучки, он по-новому смотрел на свой город и любовался им...
– До чего славно, до чего хорошо! – воскликнул он вполголоса.
Солнце щедро золотило всё, что было перед его глазами.
Вволю наглядевшись, он медленно пошёл следом за своей уехавшей вперёд повозкой. А пройдя несколько шагов, вынул из кармана книгу небольшого формата, отпечатанную на желтоватой бумаге.
Теперь он уже не глядел по сторонам, а весь углубился в чтение, иногда останавливаясь лишь для того, чтобы громко, вслух прочесть отдельные стихи из книги. Затем он снова шёл, на ходу читая, и снова приостанавливался, произнося где шёпотом, а где и в полный голос.
– Этой трагедией весьма обрадую братьев и других ребят, – вдруг перестав читать, сказал он. И с какой-то мягкой, хорошей улыбкой прибавил: – Особенно Ваню Нарыкова. Его-то более всех других...
И тут он услыхал пение. А услыхав, остановился и вовсе перестал читать.
Женский голос, ясный и чистый, пел незнакомую ему песню. Пел так хорошо и проникновенно, с таким чувством выговаривая слова, что он, забыв о книге, что была у него в руках, стал слушать.
Не подняться вам, туманушки,
Со синя моря долой!
Не отстать тебе, кручинушка,
От ретива сердца прочь...
Он прислушивался, удивляясь выразительности и силе чувства, которую вкладывала поющая в слова песни. Неожиданно для себя свернув с дороги, он пошёл к плетню, из-за которого доносилась песня, и увидел девушку.
Она была совсем юная. В неприглядном сарафане из домотканой пестряди. Худенькая, бледная, с милым и тонким лицом. Пела она негромко, не думая и не зная, что её кто-нибудь посторонний может услыхать. Закрыв глаза, она обхватила рукой прямой ствол рябины, прижавшись к нему щекой.
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, част-крупен дождичек,
Ты размой, размой земляну тюрьму...
Она пела, а скупые непрошеные слёзы одна за другой медленно выкатывались из-под её опущенных ресниц...
И вдруг она почувствовала взгляд, устремлённый на неё. Открыла глаза и в нескольких шагах от себя увидела того, кто её слушал.
Оборвала песнь...
Сперва побледнела, потом, тихо охнув, залилась румянцем.
И не успел незнакомец слово вымолвить, как она кинулась от плетня и мгновенно исчезла в зелёной глубине сада...