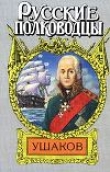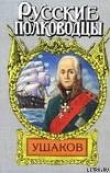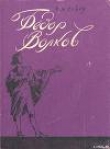Текст книги "Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актёре Фёдоре Волкове"
Автор книги: Софья Могилевская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Расплата
Весь тот день глаза у Насти были синими, испуганными, счастливыми. И, точно сговорясь, все старались в этот день делать для неё только самое хорошее.
Чуть свет из девичьей прибежала Фленушка. Обняла Настю. Принялась её жарко целовать. Зашептала ей на ухо:
– Знаем про нынешнее... Всё знаем! Голубка ты наша... Соловушко голосистый!
Сунула Насте в руку кружевной платочек.
– На, возьми... Такой не совестно будет и княжне держать в руках.
– Не надо, Фленушка, – принялась было отказываться Настя. – Что ты! Не надо...
Но Фленушка обратно подарка не взяла, а Насте на прощанье шепнула: снаряжают они всей девичьей Анфиску. Ей, счастливой, выпал жребий идти смотреть сегодня Настину игру...
В мыслях Насти промелькнуло почти забытое. Неужто и двух лет не прошло с той поры, когда, вот так же, и её всей девичьей снаряжали на представление, что шло в амбаре на Пробойной улице? Только не пришлось ей туда сходить...
А нынче? Поверить трудно...
Когда Настя с Грунькой ввозили во двор на салазках кадки с водой, ворота им открыл Сидор, тот мужик, что топит печи в барском доме. Никогда прежде такого не случалось, а сейчас широко распахнул обе створки.
– Зачем, дядя Сидор? – сказала Настя. – Мы ведь и калиткой можем. Кое-как, а пролезают салазки...
А Сидор вынул из-за щеки денежку, повертел перед Настей и хитро мигнул.
– И ты пойдёшь? – испугалась Настя.
– А то нет? – усмехнулся Сидор и, взяв из Настиных рук верёвку, помог ей подтащить салазки с водой поближе к крыльцу.
У Насти дух занялся. И Сидор пойдёт глядеть её Семиру...
Ох, только бы не осрамиться, только бы не сплоховать!
Девчонка Грунька с самого утра канючила жалобные олова:
– Настя, а Настя, возьми меня задарма... Настя, Настенька! Я на ту дедову копеечку орехов купила, у меня больше нет...
Насте стало жаль девчонку. Вон слезу пустила. Носом шмыгает.
Обещала. Только строго-настрого велела Груньке лишнего не болтать:
– Упаси бог, Грунюшка, не поминай ни имени моего, ни чья буду...
У Груньки вмиг и глаза высохли и нос она получше подолом утёрла.
Но вот что самое удивительное: все дворовые, разве только за малым исключением, знали о том, что Настя сегодня будет представлять в театре. Но в господский дом это не проникло. Никто из Сухаревских, никто из их приближённых и прихлебателей пока ничего не знал о предстоящем.
Перед самым Настиным уходом, когда ей уже бежать на представление той узкой тропкой, что проложила она между высокими сугробами, Настю позвала в людскую стряпуха Варвара.
– Уволь, Варварушка, – сказала Настя, – не стану есть... Не до того мне сейчас...
Но Варвара не затем кликнула Настю. Она подала ей малиновый, в жёлтых цветах, полушалок. В нём к венцу Варвара ходила, а для такого случая пусть Настя голову покроет.
Опять Настя принялась отнекиваться. Да что они все, словно сговорились её обряжать! Точно на смерть...
Варвара обиделась:
– Я от чистого сердца, а ты отказываешься...
Ничего не поделаешь – накинула Настя на плечи Варварин малиновый полушалок.
Тут Варвара принялась охать: ну и хорош полушалок! Теперь таких не видать. Куда там! Да и Настя в этом полушалке...
В эту самую минуту дверь в людскую распахнулась. Наотмашь. С такой силой, будто студёным ветром её вышибло.
Настя поглядела туда и пошатнулась, словно былинка, подкошенная серпом...
На пороге стояла Неонила Степановна.
Никто из дворовых не выдал бы Настю. Все любили ласковую и весёлую девушку, каждый почёл бы для себя грехом сделать ей худое.
Но Неониле Степановне и нужды не было у кого-нибудь допытываться, выспрашивать. Она сама свела концы с концами: вспомнила про Настины сказки, про то, как Настя её самоё передразнивала, вспомнила, как однажды Настя собралась на представление, и про многое другое... Про берестяной кокошник с голубыми бусинками и про тот не забыла!
А потом ещё выспросила Дуняшку, племянницу свою. Пригрозила ей. Та начистоту ей всё и выложила.
Да и сама Настя ни от чего отпираться не стала, когда её кинули барыне под ноги.
Гонец скачет в Ярославль
С год тому назад сенатский экзекутор Игнатьев был послан из Петербурга в Ярославль. Ездил он туда по казённой надобности – расследовать всяческие злоупотребления по винным и соляным откупам. Он провёл там около трёх месяцев. Вернувшись же в Петербург, с большой похвалой отозвался о вновь открытом в Ярославле театре купца Волкова.
Все, кто пожелает, может ходить в тот театр, ибо входная плата невелика: от копейки до пяти копеек. Не более того.
А играют там комедианты не на итальянском языке, и не на французском, и даже не на немецком, как в Санкт-Петербурге, а на чистейшем русском. И потому всем и каждому понятно, и народа на представлениях бывает много.
А пьесы ставят в том ярославском театре тоже свои, русские: «Хорева» и «Аристону» Александра Петровича Сумарокова, духовные драмы Дмитрия Ростовского, например «Покаяние грешного человека», а также комедии, взятые из русского быта и сочинённые самим Фёдором Григорьевичем Волковым: «Суд Шемяки», «Всякий Еремей про себя разумеет». И ещё разное другое.
Об ярославском театре Игнатьев рассказал и своему начальнику – генерал-прокурору Сената князю Трубецкому.
Зная, как царица любит театр, Трубецкой, в свою очередь, доложил о нём и Елизавете Петровне.
Так известие о волковском театре дошло до самой императрицы.
Елизавета Петровна по целым месяцам не принимала своих министров с важными докладами. Балы сменялись маскарадами, маскарады – разными другими увеселениями, и царице было недосуг заниматься государственными делами. До конца своей жизни она думала, что в Англию, коли ей захочется, можно доехать и сухим путём. А убедиться в ином она не составила себе труда.
И недаром про неё сложилась такая песенка:
Весёлая царица
Была Елизавет,
Поёт и веселится,
Порядка только нет...
Но иной становилась «весёлая царица», если дело касалось развлечений и потех. Тут она действовала с великой энергией и быстротой, превращалась в крутую и строгую, замечая все упущения и погрешности.
Выписывая из-за границы итальянскую оперу или французский балет, Елизавета не жалела для этого денег. Вместе с тем она с любопытством, даже более того, со вниманием, следила и за первыми, пока ещё слабыми, ростками своего, российского театра.
Когда ей стало известно, что кадеты Шляхетного корпуса представляют сумароковскую трагедию «Хорев», она потребовала, чтобы трагедия была показана и ей. Спектакль шёл во дворце 7 февраля 1750 года. Из царских кладовых кадетам-актёрам были отпущены на костюмы и бархат, и парча, и золотые ткани, и даже драгоценности.
А Сумароков после этого спектакля был провозглашён «северным Расином».
Узнав об ярославском театре, царица заинтересовалась им. А так как заботы о зрелищах она принимала близко к сердцу, то всё дальнейшее произошло с необычной для того времени быстротой.
3 января 1752 года царица дала указ, чтобы Волкова со всей его театральной труппой привезти из Ярославля в Петербург.
Указ этот гласил:
«Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, сего генваря 3 дня всемилостивейше указать соизволила ярославских купцов Фёдора Григорьева, сына Волкова, он же и Полушкин, с братьями Гаврилом и Григорьем (который в Ярославле содержат театр и играют комедии) и кто им для того ещё потребны будут, привезть в Санкт-Петербург...»
И далее в указе точно и обстоятельно говорилось – и про подводы, которые следует дать актёрам для привозу принадлежащего им платья и декораций, и про деньги, что должны быть отпущены из казны для этой цели, и про всё остальное.
А отправить за ярославскими актёрами велено было Дашкова, подпоручика сенатской роты.
Указ Елизаветы Петровны был объявлен в Сенате на следующий же день – четвёртого января. Пятого января заслушан, скреплён подписями и приведён в исполнение.
И вот из Петербурга в Ярославль мчится гонец – подпоручик Дашков. В руках у него срочная подорожная. Дело не терпит, и станционные смотрители вне всякой очереди дают царскому нарочному свежих лошадей...
В холодном чулане
Сколько уже прошло с той страшной минуты, когда её втолкнули сюда, в этот холодный чулан перед барскими окнами, Настя не знала. Может, день, может, и больше... Она была словно в беспамятстве, в каком-то забытьи. Ничего не помнила, ничего не понимала.
Не чувствовала холода, хоть изо всех щелей дуло, хоть её колотил озноб.
Не чувствовала и голода: к хлебу, что лежал на полу подле неё, не притрагивалась. Лишь иногда припадала запёкшимися губами к деревянному ковшу с водой. С жадностью отопьёт несколько глотков и снова, вся дрожа от унижения и боли, падает на солому, что свалена в углу чулана.
А потом и пить не стала. Воду в ковше сперва затянуло льдинкой, а потом и вовсе заморозило.
Ночь Насте казалась днём. Светлый день чудился тёмной ночью.
Никто к ней сюда не входил. Только Матвей, глухонемой мужик, тот, что у барыни был за палача и тюремщика, рябой и лохматый, отомкнул тяжёлый замок на чуланной двери, положил подле Насти прямо на пол ломоть хлеба и опять ушёл.
Пожалуй, для него, единственного из всей Сухаревской дворни, Настя была наравне о остальными – обыкновенной дворовой. Велела барыня наказать виновную, велела посадить потом в чулан на хлеб да на воду, так Матвей и сделал, не думая, не рассуждая, а лишь свято исполняя господскую волю.
Однако и в его мрачном взгляде мелькнула жалость, когда он глянул на дрожащую в ознобе Настю. Войдя в чулан ещё раз, он промычал что-то и прикрыл её принесённым с собой бараньим тулупом.
С этой минуты, чуть согревшись, Настя опомнилась и стала приходить в себя. Почувствовала голод. Выпростала из-под тулупа руку, отломила кусок мёрзлого хлеба, пожевала. Потом снова закрылась с головой и забылась...
Все Настины помыслы теперь устремились к одному – как ей сказать Фёдору Григорьевичу о той беде, которая над ней стряслась? Кого упросить сбегать на Пробойную улицу или в театр? Она знала – Волков не оставит её. Поможет чем только сумеет. Не забыла Настя тех слов, что ей говорил он как-то раз: «Помни, Настя, во всём я буду тебе заступник...» Может, не такие сказал слова. Но смысл их был такой.
Доносились ей сюда в чулан какие-то отдельные звуки. Сперва она в них не разбиралась. Ничего не различала, кроме собственной боли, страха и отчаяния. Всё для неё сливалось в однородный шум. Но постепенно ухо стало вылавливать знакомые голоса. Вон Лёнька ревёт. Видно, опять его мать отстегала. Скрипнули ворота. Кто-то въехал во двор. Что-то скотница Анисья крикнула. Её голос. Знает ли она, что с Настей? Как не знать. Наверно, все знают – от мала до велика...
Только Фёдор Григорьевич, он один ничего не знает. А то пришёл бы, помог, вызволил её отсюда...
Настина вера в Волкова была велика, и все её мысли теперь были возле него, все её надежды сосредоточились только на нём одном...
Но как сказать ему? Кто из дворовых посмеет подойти к чулану, где она заперта?
Строга, люта барыня. Не терпит поблажек наказанному. Не зря велит сажать в чулан, что выстроен на виду окон её спальной.
В первый день, как Настю сюда заперли, услыхала она возле дверей тихий голос. Узнала Фленушку, та звала её чуть слышно: «Настя... голубушка...» И тут же раздался грубый окрик: «Вот я тебе покажу, негодная! Самой захотелось...» Это Неонила Степановна усмотрела Фленушку, прогнала её прочь.
А потом девчонка Грунька стучала к ней. Звала, всхлипывала, и эту тоже прогнали.
Но Настя ждала, надеялась и верила. Кому-нибудь она сумеет передать заветное словцо. Кого-нибудь упросит сбегать к Фёдору Григорьевичу.
И наконец дождалась! Однажды услыхала издали голос деда Архипа. Дед, видно, снег разметал. Говорил громко: «Ну и сугробы, прости господи! Ну и сугробы!» И говорил дед таким голосом, что Настя сразу поняла: это он ей знак подаёт, что поближе подойти не смеет, потому что на виду, но чтобы Настя ему отозвалась.
Настя рванулась к чуланной двери. Застучала, забарабанила пальцами. Не громко, а чуть-чуть, еле-еле... Посильнее стучать боязно было.
Поймёт ли дед, что она ему сейчас скажет? Подойдёт ли поближе?
И тут услыхала Настя дедов шёпот:
– Настя... Девонька, жива ли?
Отозвалась:
– Дедушка, дедушка, слышишь меня?
А дед ей в ответ:
– Слышу, касаточка!..
И всё издали. Ближе не решается подойти. Не может, значит.
Тогда заговорила Настя не тихо, а громко, боясь, что дед не расслышит слов:
– Сходи к Волкову, дедушка... К Фёдору Григорьевичу. Понял меня, дедушка? На Пробойную...
Услыхал:
– Хуже бы не было, Настенька...
А Настя своё:
– Сходи, дедушка... Богом тебя прошу!
– Настенька...
– Скажи ему всё, как есть...
То ли барыня в окошко глянула, и дед забоялся и ушёл поскорее. А может, кто из господской челяди оказался недалеко. Но только дед больше ничего не сказал, сколько Настя ни прислушивалась. Ни словечка...
И Настя осталась, полная надежды и страха, сомнений и веры...
«Фёдор Григорьевич, а Фёдор Григорьевич, узнаешь ли ты про мои мученья?»
Где Настя?
Нет, Фёдор Григорьевич всё ещё не знал о том, какая беда стряслась с Настей.
В тот день, седьмого января, они до последней минуты не начинали представление «Семиры», Все ждали: вот-вот Настя прибежит.
Фёдор Григорьевич рвал и метал. То и дело посылал рабочего Степана поглядеть на дорогу, что вела со стороны Сухаревского дома: не идёт ли? Сейчас в его мыслях было одно: как им начать представление «Семиры» без Насти? А про то, что с Настей могло быть неладно, у него словно совсем из головы выскочило.
В конце концов, потеряв всякое терпение, Фёдор Григорьевич приказал тому же Степану сходить прямо к Сухаревым на усадьбу и велеть Насте, чтобы мигом шла, что-де, мол, он...
– Бог с тобой, Федя! – остановил разгорячённого Волкова Яков Данилыч Шумской. – Неужто хочешь девушку сгубить?
«Семиру» играли без Насти. Ваня Нарыков надел весь Настин наряд: и сарафан атласный, и сверкающий кокошник, и фату, похожую на облако. Только вот русой Настиной косы у него не было. Да что там коса! Коса нашлась привязная. Дело-то не в том...
Играл Ваня хорошо. Роль Семиры он знал и любил. Даже иной раз обижался на Волкова, что не ему, а Насте дали её играть.
Но вот не было у него ни этой Настиной задушевности, ни нежности, ни женственной мягкости. И когда он, а не Настя, упав на колени, стал заклинать брата своего Оскольда
Коль жар моей любви тебе свободу дал,
Ступай отечества к преславной обороне! —
Волков почувствовал, что это не то, не то, не то...
И Ваня Нарыков это понял. После спектакля он подошёл к Волкову и сказал:
– Эх, Федя...
Волков ничего не ответил, только хмуро посмотрел на Ваню. И без лишних слов они поняли друг друга.
Лишь один Иконников почему-то торжествовал. После окончания представления «Семиры» он тоже подошёл к Волкову.
– Как, Фёдор Григорьевич? Чья была правда? Говорил, что бабьё не след пускать...
Волков не дал ему договорить. Взглянул с бешенством, процедил сквозь зубы:
– К дьяволу убирайся! А то такое получишь...
И быстро отошёл от Иконникова прочь.
Тот только рот разинул. Забормотал растерянным голосом:
– Да я ничего... Я ведь это так... Завтра придёт Настя. Куда ей деваться?
Но Настя не пришла.
Не было её и на следующий день.
И дальше её тоже не было.
Случалось и прежде Насте пропадать. Но на этот раз Волков почти с уверенностью знал, что с Настей случилось худое.
На третий день, посоветовавшись с братом Гаврилой и с Яковом Данилычем, Волков решил послать к Сухаревым сына приказчика, смекалистого паренька Ваську: пусть выяснит, что с Настей. Строго ему наказал: быть осмотрительным, лишнего ни с кем не болтать, постараться увидеть самоё Настю.
– Понял? – спросил Фёдор Григорьевич, в который раз втолковывая Ваське про осторожность и осмотрительность.
– Да мы разве без головы? – ответил Васька, тряхнув длинными, под горшок стриженными волосами. – Мы разве не сообразим, что к чему!
Отправив парня, Фёдор Григорьевич задумался. Зашагал по горнице. Из угла в угол. Когда думал, всегда так вот ходил. Особенно, если в мыслях было беспокойно, неурядливо.
Сейчас он думал о Насте, о Настиной судьбе.
Более так продолжаться не может. Надо добиться, чтобы господа дали ей вольную. Если надо выкуп, он не пожалеет денег. И завтра же пойдёт к Сухареву. Объяснит ему, сколь велик у Насти талант. Сухарев поймёт, не посмеет отказать...
И давно это надо было сделать. Зачем он слушал Настю? Что она понимает?
– Федя! – окликнули его.
Дверь в горницу приоткрылась. Заглянула мать, Матрёна Яковлевна.
Волков приостановился. Взглядом спросил: что надобно?
– Тут старик тебя спрашивает.
– Какой старик? Зачем ему?
– Говорит, очень надо... От Насти, говорит.
– От Насти?
А в это время гонец из Петербурга делал последние вёрсты, приближаясь к Ярославлю. Ещё немного, и кони, запряжённые в кибитку, вырвались из дремучих лесов прямо к Волге. И перед седоком на крутом, высоком берегу во всей своей красе засияли золотые, голубые, расписные маковки ярославских церквей...
Гонец прискакал в Ярославль
Всё клокотало в нём, когда он слушал деда Архипа: и острая жалость к Насте, ненависть к её мучителям и ощущение какого-то своего собственного бессилия...
Какие скоты! Какие подлые скоты...
Да неужто он ничего не сможет для Насти сделать?
Бедная девочка!
Он пойдёт к Сухаревым сейчас же. Ждать больше нельзя ни секунды. Он убедит их. Найдёт слова, которые заставят дать Насте вольную!..
А со стороны глядеть – Фёдор Григорьевич казался спокойным. Глаза были суровы. Взгляд их непроницаем. Слушал старика молча, не перебивая. Только кинул ему два коротких вопроса:
– И сейчас в холодном чулане?
– И сейчас там, батюшка... – ответил дед Архип.
– Не захворала?
– Не пускают к ней. Не знаем...
И всё. Больше ни о чём не спрашивал.
Дед Архип, глядя на это спокойное, словно невозмутимое лицо, с унынием думал:
«Не захочет с господами из-за Настюшки спорить... Зачем ему».
Только незаметные для посторонних глаз признаки выдавали, какое бешенство, какая ярость кипит и бушует в душе Волкова.
Матрёна Яковлевна сына видела насквозь. Попробовала его успокоить. .
– Оно ведь так и быть должно, Федя... Господа ведь ей.
Фёдор Григорьевич так глянул на мать, такими глазами, что та сразу осеклась и замолкла.
А дед Архип воспрянул духом. Подумал: не зря Настя надеялась... Не зря.
Фёдор Григорьевич приказал:
– Мамаша! Велите, чтобы запрягали, – и тут же себя перебил: – Не надо. Здесь недалеко, пешком скорее будет.
Быстро оделся. Пошёл к дверям. Матрёна Яковлевна ахнула ему вслед:
– Федя, да куда же ты простоволосым?
Фёдор Григорьевич воротился и взял шапку.
– Не то в мыслях сейчас... – сказал он и вышел на дома.
Дед Архип пошёл за ним. Когда вышли на улицу, проговорил, кланяясь:
– Я тебе, батюшка Фёдор Григорьевич, буду показывать дорогу...
Но Волков отказался:
– Не надо, дед. Иди себе потихоньку, а я найду и без твоего показа. Ни к чему, чтобы господа видели тебя со мной... Тоже угодишь на конюшню.
Дед отстал. Смотрел вслед. Крестился. Теперь не сомневался: этот поможет Насте, поможет непременно.
А Волкова точно ждали на дворе у Сухаревых. Он только к дому их стал подходить, какая-то девчонка вскрикнула: «Идёт...» – опрометью кинулась за калитку. А калитку перед ним распахнул дворовый мужик и с низким поклоном показал, куда идти. Тоненькая девушка, подняв квадратное оконце задней пристройки, увидела его, всплеснула руками, и такая радость, надежда засветилась на её лице!..
«Её здесь любят... – понял Волков. – Они все ждут и верят, что я ей помогу. И я должен это сделать!»
Он быстрыми шагами пересёк двор. Взбежал на крыльцо по высокой, крутой лестнице...
Но только напрасно и дед Архип, и другие Настины друзья радовались приходу Волкова. Напрасно надеялись...
Он пробыл там недолго. И разговор с Сухаревыми был короток. Сам барин стоял в отдалении, возле окна. Оборотясь к Волкову спиной, ни во что не вмешивался.
А барыня и слушать Волкова не стала. Зло оборвала, когда он заговорил о Насте. Слова не дала ему вымолвить. Ни одного из тех горячих, страстных, смелых слов, которыми он хотел убедить её дать Насте вольную, дать ей возможность заниматься тем благородным и высоким искусством, к которому у неё столь большое дарование...
Барыня стояла перед ним грозная, сварливая, неумолимая. Кинула ему в лицо:
– Порядков, сударь, не знаете! – и, всё более и более распаляясь, продолжала: – Сами бога забыли... Людей в вертепе своём совращаете... А теперь и за крепостных взялись? Коли продолжать сие будете, найду на вас управу! Неонилка! – крикнула она служанке. – Покажи-ка купцу дорогу на выход!..
И вот он снова на улице.
В лицо ему бьют ярчайшие лучи зимнего солнца. Белые сугробы сверкают кругом. Инеем опушены берёзы и в тихом морозном воздухе неслышно роняют вниз серебристую эту опушь.
Кажется, что на весь мир сияет ослепительный солнечный свет!
Нет, не на весь. Иным сияет, это верно. Для других всё небо в тяжёлых свинцовых тучах.
Медленно он идёт, не оглядываясь на красивый барский дом, окна которого блестят ярко и весело...
Так что ж? Неужто Настя на всю свою жизнь останется в неволе? Неужто он ничего не сможет сделать?
Опустив голову, Волков идёт дальше. А навстречу брат Григорий. Бежит, машет рукой. Издали кричит:
– Федя, поспешай! Тебя в канцелярию требуют... Ваня Иконников за тобой прибежал.
Григорий уже рядом. Лицо испуганное. Глаза круглые. Говорит ему шёпотом:
– Из Санкт-Петербурга гонец прискакал. От самой Елизаветы... от царицы...
И уже совсем тихо:
– Тебя касается.