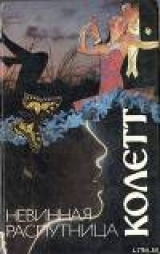
Текст книги "Преграда"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Мне хотелось бы узнать, – вздыхает Жан, – что ты обо мне думаешь… все гадости, что приходят тебе в голову…
– В тебе говорит нечистая совесть!..
– Нет, но я слышу, как ты думаешь. Ты дышишь неровно, когда твои мысли сталкиваются, возникают перебои, а когда ты поворачиваешь голову на подушке, то я слышу, как твои ресницы быстро-быстро, торопливыми прикосновениями скребут шёлк наволочки…
– Неплохо замечено!
– Ещё бы, ведь я такой умный! Тебя что-то мучает?
– Да – ты. Хочешь знать, о чём я думаю? Пожалуйста. Я думала о том, что у меня не хватит духа вернуться вечером в гостиницу…
Он тихонько прижимает меня покрепче к себе и даже не поднимает глаз. Но я вижу, как от век к губам по щеке его скользит тень довольной улыбки. Он разом успокаивается и как-то тяжелеет, словно его уже смаривает сон… Я не жалею о том, что сказала. Днём позже, днём раньше, но испытания совместно проведённой долгой ночи и утреннего пробуждения вдвоём мне было всё равно не избежать. Я чувствую себя сегодня вечером такой малодушной, меня пугает одиночество, которое голосом Майи твердило бы до рассвета: «Он сматывается, и только его и видели…»
Ужин проходит быстро, мы оба в ударе и разговариваем с необычным блеском. Взглянув на монограмму на серебре или достав что-то из старинной горки, Жан начинает рассказывать мне о своей семье, и от этого создаётся впечатление, что он как бы расширяет пространство для моего пребывания в этом доме, приглашает меня остаться здесь со всё большей настойчивостью. Он говорит «мой отец» с преувеличенным уважением, словно ученик коллежа, которого во всём ограничивают, и это его странным образом молодит.
– Сколько тебе лет, Жан?
– Тс-с! Вот уже два года как я это скрываю.
Он шутит, и я тут же воображаю, что он скрывает от меня свой возраст из деликатности, чтобы не давать мне повода сравнивать… И я не смею настаивать, меня бьёт мелкая дрожь…
– Ох этот чёртов отец! Мне придётся провести у него на той неделе три дня… Если считать дорогу туда и обратно, то в целом это будет пять дней отсутствия. Если я пропущу день рождения моей матери, то нашего Самодержца хватит удар. А тебя прельщают пять дней без меня?
– Не знаю, сейчас мне трудно себе это представить.
– Что ты будешь делать всё это время? С кем будешь встречаться? С родственниками, с друзьями?
Он впервые проявляет прямой интерес или, во всяком случае, любопытство к тому, что находится вне сферы нашей близости… Слыша его чёткие вопросы – родные?.. друзья? – я с изумлением поднимаю глаза на это молодое и властное лицо.
– С тех пор как умерла моя невестка Марго, у меня нет родных…
– А друзья? У тебя и друзей нет?
Я подавляю в себе постыдное смущение странницы, у которой нет ничего своего, и отвечаю с вызовом:
– Как так нет? У меня есть Браг… и ещё была танцовщица, но она сейчас в отъезде, у неё есть ребёнок, хотя она и незамужем, её зовут Бастьенна.
Он, видимо, хотел сострить по этому поводу, но вовремя удерживается.
– Да ладно, что об этом говорить, ещё неделя впереди. К тому же… Я не уверен, что не возьму тебя с собой.
– А захочу ли я?
Мы смеёмся, ласково глядим друг на друга, но, пожалуй, не очень искренне. Он рождён, чтобы нравиться с первого взгляда, покорять, а потом сматываться. Я… Я как та серая кобыла, что была у отца: чувствительного удара кнутом она не боялась, но тень кнута в пути возле её морды ввергала её в панику…
И всё же он пытается вести себя как хозяин, и я думаю о том, что в Ницце, меньше месяца тому назад, я говорила ему «Малыш» и бросала через плечо: «Послушайте, вы»…Как далека я теперь от этого фамильярного, небрежного «вы». Теперь я говорю ему «ты», но весьма уважительно – ведь он мой источник наслаждения…
Жан придвинул свой стул к моему и ест десерт из моей тарелки.
– Ты разрезаешь апельсины пополам, а я их чищу и посыпаю сахаром.
– Какая гадость – посыпать апельсины сахаром! Летом я буду делать тебе фруктовые салаты, я великий мастер по салатам.
– Нет уж, увольте! Я запрещаю тебе это делать. Мне всегда казалось, что фрукты в таком салате уже один раз съели.
Всякий раз, когда мы не сходимся во мнениях, нас охватывает какая-то опасная весёлость. И вдруг я говорю как дура:
– Все эти мелочи как будто бы не имеют значения, однако в своё время я просто бесилась, когда мой муж макал хлеб в тарелку с супом…
Но Жану плевать на моего мужа. Он услышал, как настенные часы пробили половину девятого, и с нарочитой буржуазной бесцеремонностью принялся потягиваться и зевать, демонстрируя полный рот белоснежных зубов. Роскошная красная глотка, способная всё сожрать… Он замечает мой взгляд, и выражение его глаз мгновенно меняется, он глядит на меня тяжело, без улыбки, и произносит: «Иди…»
Он спит. Не так, как спит днём. Он чувствует сквозь сон, что долгая ночь ещё впереди, и пронзительный холод, предшествующий позднему мартовскому рассвету, охватывает его – он спит, неподвижный и строгий, укрытый одеялом по самые плечи. Дышит он очень медленно. Газовый фонарь, что стоит на тротуаре, освещает его неровным светом. Окно широко распахнуто, и я вдыхаю, будто за городом, запахи сырой насыпи фортификаций, тумана и холодного воздуха такой безупречной чистоты, что он делает целомудренной комнату нашей любви.
Он оставил мне рядом с собой много места, но я не решаюсь шелохнуться. Я чувствую себя усталой, забытой до его пробуждения, но умиротворённой и терпеливой. Он сейчас не помнит, что я здесь… Я только что коснулась его, но он детским нетерпеливым движением убрал свою руку.
Ничего не изменилось. Только моя бессонница придаёт некоторую торжественность нашей первой ночи, услады которой были такими же, что и во время наших послеобеденных свиданий, но всё же это была «первая ночь»… До этой ночи было моё прошлое – она кладёт ему предел, что до нашего будущего, то разве мне дано знать, какое оно?
Моё бдение, исполненное бережности, желание не нарушать его покой, есть ли в нём ожидание будущего? Мне это неведомо, но я не сплю, ибо это первая ночь. Я не сплю, как не спят, наверное, все те, кто начинает новую жизнь или пытается возродить разрушенную, когда они лежат, исполненные тревоги, рядом со спящим мужчиной.
– До свидания, до скорого! Ты ничего не забыл? Носовой платок? Ключи?.. Я так и знала! Виктор, отнесите мсье ключи, они лежат на туалетном столике.
– Имей в виду, я вернусь не поздно.
– Надеюсь.
В прихожей Жан ещё раз глядит на себя в зеркало и ещё раз приглаживает волосы жестом актёра, поправляющего парик.
– Оставь в покое свою причёску. Эта мода на прилизанные волосы и без того достаточно уродлива!
Но он так не думает. Его лицо выражает довольство, самолюбование без улыбки, отчего его кокетство перестаёт быть отвратительным. Та часть зеркала, которая отражает меня, стоящую рядом с ним, кажется мне более тёмной, зеленоватой и негладкой…
Он вернулся поздно, с порога крикнул: «Я ужинаю у Самодержца!» – и кинул на перила лестницы пиджак и галстук. Платье, что я приготовила для совместного ужина, лежит невостребованное, раскинув короткие рукава и словно говоря: «И мы бессильны что-либо изменить…» Ради удовольствия побыть с Жаном и присутствовать при его туалете я не стала заниматься собой и осталась с небрежно заколотыми на темени волосами, что, к слову сказать, было мне к лицу, но весь мой облик – особенно по контрасту с его отлично сшитым фраком, крахмальной, словно эмалированной, манишкой и бледным, чисто выбритым лицом – кажется мне каким-то расплывшимся, неаккуратным и погрузневшим – я выгляжу, пожалуй, чересчур зрелой и успокоенной…
– Уходи скорее, Жан!
– Иду. Но прежде ты должна меня пожалеть.
– Почему?
– Потому что я ужинаю у Самодержца.
Он явно недоволен, требует прощального поцелуя, одним махом оказывается внизу лестницы и выходит на улицу. Я смеюсь, пожимаю плечами – и думаю про себя, что с Майей он не вёл бы себя так по-мальчишески. Он говорил с ней сухо, бывало, поднимал на неё руку, а она изображала маленькую девочку. Но ведь Майе всего двадцать пять…
Машина удаляется. Я ещё секунду стою на пороге дома, чуть наклонившись вперёд и улыбаясь, словно он может меня увидеть. Над откосом фортификаций небо ещё бледно-розовое и чёрные деревья словно выставляют напоказ свои набухшие, вот-вот готовые лопнуть почки. Соседи, мирные обыватели, живущие на этом бульваре с дурной репутацией, кличут своих собак, прогуливаясь с непокрытыми головами, словно в деревне, перед тем как уступить место сомнительным молодым людям, которых здесь называют «апашами». Вечер выдался очень тёплый, без единого дуновения. Я выбрала бы именно его из всех других вечеров, так полно он соответствует моему желанию побыть одной…
Жан ушёл на несколько часов. И хотя я ему несколько раз повторяла: «Уходи, ты опаздываешь», он не почувствовал, что я его гоню. Он не понял, насколько случайное стечение обстоятельств послужило моему намерению, а у меня есть некое намерение. Это доказывает поспешность, с которой я поужинала, а также выражение моего лица, едва я притворила дверь своей комнаты, выражение, которому нет никакого оправдания, – какое-то преступное выражение – оно отразилось в зеркале. Однако я ведь не собираюсь написать кому-то тайное письмо, несмотря на этот ненавидящий взгляд, я не намерена ни убить, ни украсть, я хочу всего лишь остаться одна. И если бы он сейчас неожиданно вернулся или если бы он прятался за занавесками, то я бы закричала. Я бы закричала, как любая другая женщина на моём месте, ворвись к ней любовник, когда она заперлась одна в своей комнате, закричала бы от страха и гнева – это было бы взрывом оскорблённого целомудрия, для которого такое вторжение подобно изнасилованию. Если бы он вернулся, он нашёл бы меня хуже чем обнажённой, – такой, какая я сейчас!..
Всего месяц, как я живу здесь. Никогда ещё любовница не обустраивалась с меньшими хлопотами: всего три чемодана с платьями и бельём, маленький сундучок с бумагами да туалетная сумка – вот и весь мой багаж. Мой переезд произошёл так быстро и так просто, что какой-нибудь скептический любовник увидел бы в этом проявление проворства, свидетельствующего об известной опытности, но Жан, при всей своей недоверчивости, не является скептическим любовником. В тот день, когда я сюда переехала, я робко поставила на красивое бюро в нашей спальне два основных предмета моей обстановки: самопишущую ручку и старинную китайскую безделушку из нефрита: отполированная груша, потёртая, треснутая и очень приятная на ощупь.
Я тотчас начала учиться существованию, дотоле мне неведомому, которое при всей внешней эксцентричности и иллюзорной свободе всё построено на устаревших обычаях, на, можно сказать, восточной зависимости, – существованию содержанки.
Когда у содержанки нет ни связей в обществе, ни семьи – как у меня, например, – и когда при этом она достаточно отчаянна или достаточно беспечна, чтобы всецело довериться человеку, которого ей уготовил случай, она неизбежно будет получать вместе с радостью и горькие унижения, она будет себя чувствовать примерно как выздоравливающая в санатории, или как воспитанница в неправедном монастыре, или как одна из жён в гареме, а также как домоправительница, у которой полон рот забот о доме. Безделье пробудило у меня охоту хоть чем-то заняться, а ежедневные отлучки Жана – состояние здоровья «Самодержца» вынуждало сына каждый день проводить в родительском доме несколько часов – позволяли мне всякий раз по его возвращении устраивать маленький праздник: ставить на стол цветы или какие-нибудь ранние фрукты либо вести его в заброшенный садик у дома, где неожиданно зазеленела изгородь из бересклета.
А главное, добрый гений кочевников уберёг меня от проявления нетерпения или дурного настроения, шепча мне на ухо: «Это будет длиться ровно столько, сколько тебе захочется, и ни дня дольше…» Ни дня дольше… И я успокаиваюсь и расцветаю – моя запоздалая наивная беспечность объясняется тем, что в юные годы любовь была со мной скупа. Я пополнела, ем вкусно и с удовольствием, как и Жан, много сплю. В течение дня мои заботы примерно те же, что у Виктора, слуги Жана: мсье уходит с мадам? Или один? Вернулся ли мсье? Одевается ли мсье?..
В первые дни во время отсутствия Жана я оставалась верна своим старым маршрутам: то заходила в средиземноморский ресторанчик, где густо посыпанные сыром равиоли искрятся от кипящего жира, то сидела в закусочной, которую Браг хвалил за горячие сосиски и бархатистое пиво, однако прежнего удовольствия – простого удовольствия по-холостяцки живущего гурмана – я там уже не получала. «В такие места нельзя ходить одной! – восклицал Жан. – Такой женщине, как ты, да ещё имея такого любовника, как я, нечего нарочно разыгрывать из себя завсегдатая дешёвых закусочных! В твоём распоряжении дом, кухарка не из худших, а ты бегаешь по Парижу, чего-то ищешь…» – ну и так далее.
И в первый дождливый вечер, сидя перед порцией равиолей, я с покорностью счастливой, легко поддающейся влиянию скотины упрекала себя: «Что это за фокусы, в моём распоряжении дом, кухарка не из худших…»– ну и так далее – и сочла, что Жан во всём абсолютно прав.
Если я ужинаю в ресторане, то только с Жаном. Если иду в театр, то тоже с Жаном. Законный брак, в котором я в своё время состояла, разрешал мне вступать с людьми в товарищеские отношения, но кодекс «связи» предъявляет другие требования. Я могу появляться на людях только в сопровождении любовника, Жана, либо телохранителя, Массо. Тот же кодекс строго регламентирует все мои выходы из дома, причём с такой точностью и скупостью, что это даже становится забавным, и мне тайно даже льстит, что инженю тридцати шести лет содержится в такой строгости. Я как-то рискнула сказать: «Но ведь когда ты был любовником Майи, то, мне кажется…» – и услышала в ответ жёсткие слова: «Майя не жила со мной. А кроме того, Майя – это Майя, а ты – это ты».
«Это будет длиться ровно столько, сколько тебе захочется, и ни дня больше…» И я с любопытством принимаю своё новое положение. Я привыкаю быстро соглашаться и по-детски врать. Я довольствуюсь тем, с чем свыкаются все женщины, оказавшиеся в моих обстоятельствах, и пользуюсь паузой, которая наступает всякий раз, когда Жан уходит из дома.
Ты говоришь, что любишь меня, но ты не знаешь, что даже самой любящей женщине нужно хоть несколько часов располагать собой, выбрать их и хранить в тайне от своего любовника. Самая красивая женщина, если ты за ней следишь, всегда окажется в чём-то уязвимой, а самая верная таится хотя бы ради того, чтобы свободно думать.
Свободно!.. Быть свободной!.. Я произношу это слово вслух, чтобы оно, такое красивое, но потерявшее своё первородство, вновь ожило, обрело полёт и присущий ему зелёный отсвет крыла дикой птицы и леса… Тщетно!..
Ты уверяешь, что любишь меня, а это значит, что отныне на меня всегда будет давить тяжесть твоей тревоги, твоё пристальное, какое-то пёсье внимание к каждому моему движению и твои подозрения по любому поводу. Нынче вечером меня не спустили с цепи, но ты выронил её из своей руки, и она, звякая, волочится за мной по паркету.
Ты уверяешь, что любишь меня, и, наверное, это так и есть, но ты постоянно создаёшь в своём воображении некую женщину, которая красивее и лучше меня, и ты требуешь от меня, чтобы я была во всём ей подобна. Я теперь не только ношу те цвета, которые ты предпочитаешь, но и стараюсь говорить с той интонацией, которая тебе нравится, и улыбаюсь я той улыбкой, которая, я знаю, тебе больше всего по душе. Достаточно одного твоего присутствия, чтобы я чудесным образом преображалась в твою модель, перенимала её обаяние. Я боюсь лишь некоторых минут, таких, как те, что переживаю сейчас, когда мне вдруг хочется тебе крикнуть: «Уходи! Платье принцессы и мой светлый лик исчезнут одновременно, уходи! Настало время, когда из-под подола моей юбки появятся копытца, а из-под шелковистых волос – острые кончики рогов… Меня терзают демоны, будто я на каком-то безгласном шабаше, я должна разрушить, прокляв её, ту изящную форму, в которую ты меня заточил».
Уже далеко за полночь. Должно быть, я давно одна. В который раз я прохожу мимо этого зеркала и всякий раз вижу в нём отражение своего лица преступницы, искажённое кривой усмешкой, неискреннее и тревожное… Одно плечо опущено, другое вздёрнуто чуть ли не до уха, как будто я собираюсь отразить чей-то удар… А немного раньше я сидела перед зеркалом в позе, которую Жан не выносит: скрестив руки на груди и уперев локти в колени, я, словно больной медведь, укачивала себя…
Помню также, что я в исступлении чесала голову, словно завшивевшая цыганка. А ещё долго взгляд мой не мог оторваться от блестящего брюха небольшой медной вазы, сверкавшей, будто головешка в камине. И сейчас у меня от этого ноет между бровями… Всё это время у меня, опустошённой, неподвижной, голова была пуста…
В сознание меня приводит шок от разумной, но малоприятной мысли: «А что, собственно говоря, делает сейчас Жан?» И в виде ответа на этот вопрос прямо с волшебной быстротой в мозгу возникает картинка: Жан не в объятиях Майи, не склонённый над незнакомой женщиной, а Жан один, бодрый и шагающий с высоко поднятой головой, – такой, каким он, должно быть, ходит сейчас по улицам города. Он тоже один… Господи, чего же я ждала, чтобы это понять? Ах, оказывается, и он один?.. Изумление перед этим открытием, тревога… Ну конечно, он один, я этого хотела, я этого хочу достаточно часто. Какая глупость вот уже месяц заменяет мой страх перед тем, что он «смотается»? Я пользуюсь им, его домом, его столом, его машиной. За его счёт я замыкаюсь в зоне одиночества и, отсиживаясь там, пренебрегаю им, едва не забывая о его существовании. Короче говоря, я веду себя по отношению к нему с той эгоистической глупостью, которую женщины обычно называют «мужской»… «Есть два типа любви, – говорит Массо, – неудовлетворённая любовь, которая делает вас в глазах всех отвратительным, и любовь удовлетворённая, которая превращает вас в идиота…»
Жан один. Упоённо один, один, как студент, который не ночует дома, или расчётливо и мрачно один, смирившийся с тем, что застанет в своём доме ту же женщину, что и вчера.
Скажу правду: быть справедливой – это уже большое унижение для женщины; если наша связь ещё продлится (недолго или долго), я могу надеяться лишь на эту готовность Жана смириться, большего я не стою. Вот уже месяц, как я отдаюсь ему всякий раз, когда он этого хочет, всякий раз, когда мы хотим друг друга. Что знает он обо мне во всё остальное время? Разве я Венера или царица Савская, чтобы удовлетворять этого красивого парня, у которого я так и так в долгу, что лежу распростёртой в его постели? Всё остальное время я лишь слежу за ним, не проникая в суть его личности, и сужу его, словно он всё ещё Майин любовник, а не мой. Остальное время – это имеет значение, это весомо, – оно состоит из множества, множества часов…
Когда он был деликатен, я сочла его пустым, а когда стал расспрашивать о моей жизни, я с иронией, подчёркивающей моё превосходство, плела что-то о своём детстве. Чья же вина, что в этот час, вместо того чтобы прийти ко мне, Жан один шатается по улицам или сидит на освещённой террасе кафе и вдыхает мягкий ночной воздух? И я точно знаю, что у него сейчас совсем чужое выражение лица.
Он и не подозревает, что я добрая, привязчивая, что я из породы надёжных друзей. Я наделяю его недостатками, которые обеспечивают успех определённой категории мужчин, – двоедушие, неразборчивость в средствах, лень, но всё это нахожу в нём только я, я примеряю их к нему, словно украшения сомнительного вкуса, которые, полагаю, должны подойти к его грубовато вырубленному лицу…
Моя глубокая ошибка, думается мне, заключается в том, что я ещё не попыталась отделить Жана от жажды наслаждений. Утолённая, она несёт в себе холод и безразличие. А неутолённая, она стремится только к тому, чтобы стать утолённой.
Жан… О, какая же я грубая скотина… Ведь существует Жан, который вовсе не любовник Рене, в котором нет ничего таинственного или сексуально тревожащего, Жан, хоть он уже и взрослый и крепкий, но такой ещё юный, когда заливисто хохочет, похожий на того мальчишку в далёком прошлом, которого мне не довелось знать. Мысли Жана, душа Жана – как я могла подумать, что они умещаются в наших кратких диалогах или в страстном молчании наших ночей?.. Мне казалось, что Жан, который вдруг встал во весь свой рост в моём воображении этой весенней ночью, может довольствоваться одним тем, что я ему отдаюсь, но сейчас я поняла, что оскорбляю его таким предположением. Вот он мне и ответил тем же. Какое счастье, что он ещё не вернулся, я не смогла бы удержаться, чтобы нелепым взрывом не усугубить наше взаимное непонимание. Пусть уж он шатается по городу, гордый своим одиночеством, такой далёкий от меня, словно он никогда и не встречал меня.
Когда он вернётся, я буду уже лежать в его постели и, возможно, уже спать. Я больше не боюсь, что он увидит меня спящей, – теперь я знаю, что меня подстерегают куда большие опасности. Моё спящее тело ему принадлежит и, к слову сказать, не забывает о нём. Не покидая тех глубин, куда меня уносят сны, я сжимаю его пальцы своей рукой или примащиваю его голову на своё плечо… Мне легко спится, когда я лежу, прижавшись к нему. Увы! Он ещё не пришёл, а уже он как бы во мне… Этот мой взгляд, живой и ускользающий, ему нравится…
Чуть прогнув спину и плотно сжав ноги, я стою, вытянувшись во весь рост, с лицом, озарённым светом, который, всё усиливаясь, поднимается от губ ко лбу, – что ж, воссоздай меня такой в твоём воображении, раз тебе хочется видеть меня именно такой – меня, ту, кого ты, быть может, любишь: ты можешь вернуться домой.
– Который час, Массо?
– Без четверти…
– Быстро собирайте карты. Не трогайте пепельницу, я сама её высыплю, и стакан с анисовым ликёром, вот он стоит на столике у стены, передайте его мне, пожалуйста… Никогда не думала, что день так быстро увеличивается. Он опять скажет, что здесь накурено.
– А ведь окно было всё время раскрыто настежь.
– Это не имеет значения, у него нюх как у охотничьего пса. Вы уронили карту.
– «Карта упала – судьбу сказала», – важно произнёс Массо. – Я поднимаю её, это девятка пик – к неприятностям…
– Ах вы старый колдун!.. Слышите, кто-то подъехал? Это он?
– Нет-нет, это такси. К тому же он подъехал бы не с этой стороны.
– Почему? Он теперь каждый день бывает в банке, потому что Самодержец никак не поправится.
– Чтобы ему доставить удовольствие?
– Да… Вернее, нет… Чтобы его заменить… – Пф-ф…
– Послушайте, он всё-таки сын своего отца, он же унаследует его банк. А вам кажется нелепым, что он туда ежедневно ходит…
– Вовсе нет, дорогой друг, вовсе нет. Лучше, чем кто бы то ни было, отнюдь не хуже любого другого, никак не меньше, чем мсье такой-то и такой-то…
– Стоп!
– …я очень точно представляю себе, что есть банк.
– В самом деле? Ишь ты!..
– И доказательство тому, мадам…
Он отгибает по старинной моде уголки крахмального воротничка, подтягивает галстук и, приосанившись, трясёт головой, изображая, что у него отвислые щёки.
– Лаффит?
– Что – Лаффит? Разве он был такой?
– А почём я знаю? Но искренне желаю ему этого. А ну-ка, отдавайте мне три франка двадцать сантимов, которые вы проиграли мне в безик… Так, благодарю вас. Бог воздаст вам стократно.
– Получится не больше шестнадцати луи… А вот теперь и в самом деле он… вы поужинаете с нами?
Массо бросает жадный взгляд на ломберный столик, который уже сложили:
– Давайте сыграем на мой ужин. Если я выиграю, то остаюсь. Если проиграю, то вы меня оставляете ужинать, чтобы утешить…
Не зная, чем заняться, Массо следует за мной в столовую, где я рассеянно ставлю приборы, поправляю цветы в вазе, переставляю бокалы… Единственное дерево в садике, каштан, упирается в оконное стекло листьями, высветляющимися от падающего на них электрического света, они теперь кажутся блёкло-зелёными, словно совсем молодые стручки…
– Поглядите, Массо, у этого каштана будут тёмнокрасные свечки. Это видно по цвету почек… уже видно…
Он соглашается, покачивая своим печальным черепом, обтянутым пергаментной кожей, которую не в силах прикрыть пряди тщательно распределённых длинных волос, подобных пучкам высохшей травы… Привыкшая восхищаться внешностью Жана, я быстро отвожу взгляд от Массо, и он упирается в открытую дверь.
– Это не он, – с горькой проницательностью замечает Массо.
«Он»… Массо не произносит имя Жана… И я тоже говорю «Он», как все фанатичные влюблённые. Но я краснею, когда мы, будто сообщники, что нас отнюдь не возвышает, понижаем голос, как слуга Виктор, который, склонившись над кухонным лифтом, соединяющим кухню со столовой, сообщает громким шёпотом невидимой кухарке: «Он сказал, что соус сегодня не удался… Он заметил, что компотница склеена…»
В прихожей резко зазвонил телефон…
– Ой, телефон, ненавижу… Моя бы воля, я разбила бы его… Алло! Это ты, Жан?
Я заранее знаю, что мне скажет этот далёкий чёткий голос, голос Жана, но звучащий в нос, словно он насмехается надо мною…
– Алло… Да, это я… Послушай, не жди меня к ужину, мне придётся остаться здесь с папой, нынче вечером он чувствует себя неважно…
– А?
– Да… Ты меня слышишь? Алло?.. Что с этим аппаратом?.. Алло… Я вернусь сразу же после ужина… Ты одна?
– Нет, здесь Массо…
– О, раз Массо здесь…
– Что ты говоришь?
– Ничего… До скорого!
– Да… До скорого.
Я в сердцах вешаю ненавистную трубку, как бы специально созданную для того, чтобы быстро передавать дурные вести, а голос в ней выдаёт тайные намерения и задние мысли говорящего… «О. раз Массо здесь…» Что это может означать?
А это значит лишь то, что Жану спешить нечего, что он может смело вернуться домой в два часа ночи… Я начинаю узнавать цену этого «до скорого!»
Я гашу свет в прихожей – по старой привычке экономить, от неё нелегко отделаться, а ещё потому, что лицо разочарованной женщины, которая едва сдерживает свой гнев, не может быть привлекательным.
– Идёмте к столу, старина, Жан остаётся ужинать у отца.
Из любви к симметрии Виктор накрыл для Массо на месте Жана. Я не могу выразить, какое отчаяние охватило меня, и я с трудом подавила слёзы, когда увидела напротив себя вместо чётко очерченного лица с низкими бровями, красивым ртом, прямым носом и подвижными ноздрями мелкие черты подёргивающегося от нервного тика постаревшего и почти лысого мужчины… О, как я хотела бы в эти минуты стать Майей или ещё кем-нибудь в этом же роде, чтобы облегчить себе душу потоком наивных слёз, битьём посуды и воплями: «Подайте мне Жана, я хочу его видеть!» или «Я не желаю больше видеть его, он мне отвратителен!» Сцены такого рода надо оставлять всевозможным Майям, которые недавно отпраздновали свою двадцать пятую весну, которые, пролив потоки слёз, могут тут же расхохотаться и, не смущаясь, показать покрасневший носик и красивые влажные ресницы, – их естественной свежести позволено всё… А вот для Рене Нере слёзы – это трагедия…
– Что вы ищете под столом, Массо?
– Какое-нибудь животное, чтобы его покормить.
– Но ведь вы прекрасно знаете, что здесь нет животных.
– Ещё бы не знать, и меня это удивляет.
– Этого ещё не хватало!.. Вырастить маленькую собачку или кошечку, привязаться к ней, таскать её с собой из гостиницы в гостиницу…
Массо замигал быстрее:
– Зачем из гостиницы в гостиницу? Ведь… ведь…
– Да, конечно, сейчас речь не идёт о переездах из гостиницы в гостиницу, поскольку… Но кто знает, что будет, мы с Жаном не скованы друг с другом цепью на всю жизнь… К счастью, мы не поклялись друг другу в вечной любви!..
Я чувствую, что говорю жёстко и как-то неуклюже и голос мой звучит фальшиво, а кислое выражение лица не вводит в заблуждение, моя якобы независимость может обмануть только дураков, но уж никак не Массо, который чувствует себя настолько неловко от понимания всего того, о чём я умалчиваю, что даже забывает меня смешить… Я с ним не откровенничаю, хоть и привыкла к его присутствию. Я помню, что это он привёл меня к Жану, и в том приятельстве, что я к нему проявляю, есть и доля этакого циничного доверия, которое внушают евнухи или наперсницы без предрассудков…
Ужин, если ни один из сидящих за столом не хочет есть, тянется долго. Однако Виктор обслуживает нас подчёркнуто быстро и молчаливо, что меня раздражает. Его шустрая крысиная головка, его невесомый шаг так назойливо намекают: не обращайте, мол, на меня внимания, – что видишь и слышишь только его…
– Кофе будем пить в гостиной, не правда ли, Массо? И я валюсь в мягкое кресло «бержер», которое люблю больше других, восклицая:
– Вот наконец-то мы одни!.. Я говорю наконец… За эту неделю это уже третий ужин без Жана. Что поделаешь, у него настоящий культ семьи!
– Его отец болен, – замечает Массо.
– А я разве возражаю?.. И даже если вы мне скажете, что его отец – ослепительная блондинка и носит юбки с разрезом, поверьте, я из этого не сделаю драмы.
– Но я вам этого не скажу, – по-прежнему мягко говорит Массо.
– Неужели вы думаете, что я вас об этом спрашиваю, мой бедный Массо?
– Представьте, думаю и ограничиваюсь следующим ответом: одно из двух, либо Жан поверяет мне свои секреты и я не должен их выдавать, либо я их не знаю, и тогда, как бы мне ни хотелось смертельно ранить вашу душу, я не смогу этого сделать, и мне приходится молчать, обогащая кое-какими записями мой Трактат…
– Какой Трактат?
– Тс-с!.. И утверждать, обыгрывая вас в карты, своё превосходство в безике.
– А как насчёт того, чтобы мне помочь, стать на мою сторону, если бы пришлось удружить мне и сказать Жану…
– Нет! – прервал меня Массо с таким жаром, что часть его тщательно уложенных волос-соломинок встали дыбом. – Нет!.. Поймите меня, – добавил он, понизив голос, – опиум стоит дорого.
Я понимаю. Я очень хорошо понимаю. Бедняга Массо… Я знаю, что Жан даёт ему деньги на наркотики с невозмутимой беспечностью друга-отравителя, словно угощает его хорошими сигарами!
– Всё ясно… Старина, не ждите от меня, что я вам скажу: «Не курите больше – надо выздороветь».
– Так и вам не дождаться, чтобы я посоветовал: «Бросьте Жана, если вам в тягость… состояние здоровья его отца. Либо сделайте его счастливым раз и навсегда…» Впрочем, моё последнее предложение умная женщина выполнить не в состоянии…
– Знаю. Это под стать только пройде-служанке, которая забралась бы в постель хозяина. Короче, надо Жана женить на его кухарке.
– Вы рассуждаете в моём духе, – заметил Массо не моргнув глазом. – Но спешить нам некуда, у нас есть время подумать о вас, только о вас, поскольку речь идёт о существе не таком уж сложном: тщеславном – от семьи, в которой родился; деспотичном – в силу полученного воспитания и ещё потому, что он всегда видел, как мать дрожит перед отцом; несколько униженном тем, что, перепробовав многое, он так и не смог ни к чему привязаться; ещё чересчур молодом, чтобы быть добрым, и ещё настолько во власти своих иллюзий, что он не в силах смириться с тем, что женщина может занимать главное место в жизни мужчины и в его сердце. Одним словом, дорогие господа и коллеги, у нас есть все основания горячо поздравить муниципальных советников всех вместе и констатировать: настал счастливый день для Республики!








