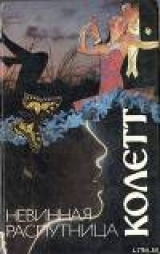
Текст книги "Преграда"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Она врёт. И становится от этого даже трогательной. Бедная маленькая Майя, как она изо всех сил хорохорится. Ей и надо быть трогательной. Любой мужчина пожалел бы её тогда. И даже, возможно, женщина – но только не я.
Ибо этот любовник, разрывом с которым она хвастается и с которым рассчитывает вновь соединиться сегодня вечером, завтра, а может, и через час, – она говорит о нём, словно потеряла его навсегда, разоблачает его, вспоминает его, жалеет, что рассталась с ним, – словом, говорит о нём так, будто он уже является частью её прошлого.
Я делаю для Майи то, что могу, то есть я слушаю её и время от времени киваю в ответ. Теперь её щёки и лоб покрыты лиловатой пудрой, а верхние веки – ярко-розовой, что на фоне серых теней выглядит весьма эффектно. Ресницы… Рот… Большая бархатистая мушка в уголке губ… Дело сделано. Она рассеянно улыбается мне в зеркало.
– Как внимательно вы на меня смотрите, Рене! Не могу не вспомнить Жана, который всегда говорил: «Красивая женщина за туалетным столиком – это всегда некрасиво!» С этим гадом ох как нелегко!..
– А зачем вы делали все эти работы по усовершенствованию себя при нём?
От изумления Майя широко раскрывает глаза, свои прелестные глаза, окаймлённые ставшими жёсткими ресницами.
– Дорогая, да что вы? Когда мне будет тридцать пять или там сорок лет, может, мне и захочется делать это в тайне, но теперь!.. Разве у меня прыщи или красные веки или я покрыта морщинами? Мне скрывать нечего! Смотрите сколько хотите. Я такая, какой меня создала природа. Тс-с-с, тихо…
– Что?
– Мне послышались шаги. Бедняжка… Она его ждёт – а он не идёт.
– Скажите мне, Майя, было ли между вами что-нибудь более серьёзное, чем обычное столкновение?
Она глядит на меня растерянно. На этот раз она искренна.
– Пожалуй, нет… В том-то всё и дело. Напротив. Именно это меня и удивляет. Можно даже сказать, что и ссоры-то настоящей не было. Мы больше не дрались, глядите: у меня на руках нет никаких синяков… Странно. Вот уже несколько дней как с Жаном что-то происходит. Но он молчит, изображает из себя этакого мечтателя, безразличного ко всему. Вы знаете, у него появляется такое выражение лица, которое… Так и хочется назвать его «платным трахальщиком»…
Она покусывает губы, покрытые ярко-красной помадой, и не отрывает взгляда от тусклого серо-зелёного моря, кажущегося нынче каким-то больным. В её глазах я угадываю удивление и полную неспособность что-либо понять в происходящем, как у существа, которому несправедливо угрожает неведомая опасность. И в моей памяти вдруг очень чётко встаёт лицо Жана в полумаске тёмных очков – губы, утопленные в уголки рта, выпирающие скулы, как у фавна, подбородок, расколотый ямочкой пополам, и крепкая, но мягкая шея… Я вдруг снова чётко вижу его таинственное безглазое лицо и жалею бедняжку Майю, потому что на этом мужском лице проступают все оттенки хитрости, грубоватая сила и одновременно слабость, но настолько соблазнительная, что с ней можно всего добиться, – одним словом, вне всякого сомнения, в этой паре он, а не она всегда одержит верх.
– Нам можно войти?
– Кому это «нам»?
– Нам!
Мелодичный голос, в котором я, однако, не узнаю красивого меццо Майи. Её голос звучит так, что все произносимые ею слова кажутся золотыми. Я отворяю дверь и вижу на пороге двух мужчин – Массо и Жана. Фальцетом говорит Массо. То ли он уже встал, то ли ещё не ложился. Во всяком случае, Жан повстречал его на пляже, где он прогуливался вдоль моря по гальке, поражая встречных своим карикатурным обликом жёлчного муниципального чиновника. Серые лайковые перчатки, мягкая велюровая шляпа, небрежно повязанный галстук – всё, что на нём, уж не знаю почему, выглядит крайне экстравагантно. К тому же, как меня заверил Жан, Массо только что пересёк набережную, прилегающую к ней улицу и вестибюль гостиницы, украшенный гирляндой из водорослей, которую море выбросило на пляж. Он повесил эту гирлянду себе на шею, а теперь, стоя перед моим зеркалом, замотал вокруг шеи и шёпотом, словно обращаясь к самому себе, произнёс:
– Глядите-ка, Коломбина!
– Вы что, окончательно рехнулись, Массо? Немедленно снимите с себя это. От вас разит сырыми мидиями.
– Одно из двух, – отвечает мне Массо. – Либо вы раба предрассудков, которые именуют модой, и я отворачиваюсь от вас, либо вы разрешаете мне ютиться в тени вашего сердца и обещаете мне то, что испытывает любая женщина, глядя на меня, а именно любовь, и тогда вас должен привести в восторг этот маленький каприз, пришедший мне в голову чудесным весёлым утром. Либо… Но тогда я должен был бы сказать «одно из трёх»… Что же, я начну с начала. Итак, одно из трёх…
– Жан, вы не могли бы освободить его от этого украшения?
– Боюсь, что нет. Не знаю, в чём причина, но я чувствую себя бессильным перед Массо. Живи мы на другой стороне земного шара и будь я там королём, то объявил бы Массо святым, раздел догола и поставил под баобаб.
– Я однажды уже был святым, – холодно осадил его Массо. – От этого быстро устаёшь. Гигиена святых на той стороне Земли оставляет желать много лучшего. Верующие постоянно приносят святому дары – фрукты, рис с шафраном, баранину с рисом, сладкий рис. Неизбежно происходит растяжение желудка, и тогда теряется интерес к своей профессии.
Обычно я очень боюсь сумасшедших, но, как и Жан, я испытываю некоторую слабость к этому чудаку. Никогда нельзя понять, когда он говорит всерьёз, а когда валяет дурака. Как-то Массо признался мне, что у него и вправду что-то не в порядке с головой, потому что каждую фразу, которую он произносит, он видит как бы написанной перед собой и поэтому не может не отмечать знаками пальца пунктуацию своей речи. Когда же он порой, как, например, только что, начинает говорить быстро и чётко, без излишних грамматических завитков, то рассказывает только коротенькие истории, лишённые какого бы то ни было правдоподобия, но которые я всегда готова принять за подлинные. Майя ненавидит Массо, которого она не в состоянии ни соблазнить, ни понять. Она чувствует себя перед ним как собака перед ощетинившимся ёжиком.
– Майя идёт за вами следом, Жан, или мы зайдём за ней по дороге?
– Ни то, ни другое, – отвечает Жан, машинально передвигая на туалетном столике мои щётки в серебряной оправе, чтобы они лежали симметрично. – Майя нездорова и не будет обедать с нами.
– Да что вы говорите? Я сейчас пойду… Жан быстро поворачивается ко мне:
– Очень мило с вашей стороны, но идти к ней не надо. Она хочет спать. Она попросила, чтобы ей принесли в номер яйцо и чашку бульона.
Он не делает никаких усилий, чтобы я ему поверила. Он просто говорит, ни на чём не настаивая. Он хорошо выглядит, как выглядят брюнеты со смугловатой кожей. И он с обычной бесцеремонностью откупоривает по очереди все мои флаконы. Я тоже не настаиваю.
– Хорошо. Зайдём узнать, как она себя чувствует, на обратном пути. Пошли? Массо!.. Нашёл время писать открытки!.. Массо!
– Всецело в вашем распоряжении, – говорит Массо. – В вашем… (он указывает на открытку, которую пишет) и в Её.
Я жду его не без раздражения. Я терпеть не могу, когда кто-то пишет за моим письменным столом и когда Жан открывает и нюхает все мои флаконы и коробки с пудрой. Я не люблю также, когда приходят в мою неубранную комнату, полную моих запахов, и указывают пальцем на прядь волос, выбившуюся у меня на затылке, или когда снимают нитку, прилипшую к моей юбке выше колена. У меня с недавних пор появилась страшная физическая нетерпимость, вполне объяснимая, но, наверно, не очень приятная в обращении с людьми, и я с трудом её скрываю за фальшивым, так сказать, «рубаха-парнизмом».
К счастью, погода сегодня хорошая. В этих местах погода всё заменяет, в том числе и любовное счастье, и является всегда готовой темой для разговоров.
– Каков денёк, а? Жалко, что Майя… Говорят, что в Париже идёт снег… Куда делся Массо?
– Вешает свои водоросли в гардероб… Закуску вам брать?
– Нет, сегодня не надо. Такая жара!
Я непроизвольно подставляю лицо солнечному лучу как бы для того, чтобы он меня поцеловал, и так же непроизвольно отворачиваюсь от него. «Когда мне будет лет тридцать пять—сорок», – говорила Майя… Когда она это говорила, я глядела на её чистый лоб, гладкие виски, юную шею… Я отклоняю голову так, чтобы тень от полей моей шляпы упала мне на щёки, и кладу на скатерть свои ухоженные руки, теперь уже не натруженные ручками чемоданов и не испачканные гримом.
– Недурной бриллиант, – говорит Жан.
– Могли бы сказать: «недурные руки», невежа!
– Конечно, мог бы, но комплимент насчёт ваших рук может сделать любой. А вот в драгоценных камнях мало кто разбирается.
Я смеюсь, отмечая про себя, что я частенько бывала с Майей без Жана, но впервые, из-за отсутствия Майи, мы оказались с ним вдвоём – Жан и я.
– Жан, пока нету Массо, скажите, что с Майей? Вы снова поссорились? Это просто смешно, все ваши драмы из-за кисточки для бритья или рожка для обуви. Честное слово, вы должны бы…
Для того чтобы выслушать, что «он должен», любовник Майи принял весьма вызывающую позу. Он засунул обе руки в карманы, стал что-то насвистывать и, откинув голову и прищурив глаза, принялся меня разглядывать. Я покраснела: уже много лет не встречалась с такой мужской грубостью. Майя не задумываясь влепила бы пощёчину этому типу с «лицом платного трахальщика», которое кажется моложе, чем есть на самом деле, хотя потом, правда, горько в этом раскаивалась бы.
– Я прошу вас, дорогой, простите меня – я вмешиваюсь в то, что меня не касается.
– Что верно, то верно. А кроме того, – добавил Жан выпрямившись, – вам-то что до всего этого?
– Как что? Вы сказали, Майя заболела. Я видела её вчера утром… А, вот и Массо… Я видела её вчера утром совсем растерянную среди этого сумбура переезда… И тогда…
– Ну понятно, вами руководят дружеские чувства… Массо, мы вам ничего не заказали. Антрекот по-беарнски вам подойдёт?
– Уже подошёл, причём вплотную к сердцу.
– Отлично. Итак, моя дорогая, вы пытаетесь нас помирить из дружеских чувств?
В эту минуту мне всё стало не ПО душе: и наш стол, который в отсутствие Массо оказался слишком просторным, и это объяснение, которого я хотела избежать, и манера Жана вести себя… Он выбирает выражения и говорит с нарочитой сдержанностью, едва подавляя охвативший его гнев.
– Итак, значит исключительно из дружеских чувств, да? Причём скорее к Майе, чем ко мне? А к Майе вы никаких дружеских чувств не испытываете?
– Что за дурацкий вопрос?
Мне следовало бы рассердиться. Что было бы куда удобнее, чем врать. Я не понимаю, чего он добивается? Неужели он рассчитывает, что я скажу дурное о своей подруге?.. Я перестаю чувствовать голод. Какая-то странная раздвоенность удаляет меня от того места, где я сейчас нахожусь, и делает маленькими всех этих чужих людей, которые едят вокруг, и предательское солнце, и того, кто, сидя напротив, не спускает с меня своих светло-серых глаз.
– Какой дурацкий и оскорбительный вопрос…
– Вот именно, оскорбительный. Притом для нас обоих. И нечего смеяться… Массо, рассудите нас.
Но Массо скрылся от нас за развёрнутым листом газеты. Я вижу только его сухую руку, которую он приподымает, как бы отстраняя от себя всякую ответственность… Я чувствую, что силы покидают меня, и малодушно спрашиваю Жана:
– Зачем вы мне это сказали?
– Чтобы позабавиться… А ещё потому, что я так думаю. Послушайте, Майя, конечно, очень мила, но такая женщина, как вы…
Эта оборванная фраза содержит в себе всё, что может вызвать моё недоверие, – комплимент для меня и страшное оскорбление для своей любовницы. Он, правда, и прежде обзывал её в моём присутствии кривлякой и даже жалкой шлюхой. Но дойти до того, чтобы сказать про неё «очень мила»… Тут из-за газеты с сатанинской улыбкой вынырнул Массо, словно надеясь услышать ещё более хлёсткие выражения.
– Что вы несёте? «Такая женщина, как я»! Прежде всего учтите, что я вовсе не «такая женщина, как я». Ценю все дары этого мира, и мне дорога ложка к обеду.
Массо вынимает из кармана самопишущую ручку и выводит на больших спелых яблоках, гладких, как камни на берегу: «Привет из Трепора! Биарриц – король пляжей. Дьепп, лето 1912 года». Затем он выкладывает их вокруг своей тарелки и сидит не притрагиваясь к еде. Когда ему приносят антрекот, он горько вздыхает и говорит: «Что это за дохлятина?» – с таким ужасом в голосе, что я рывком отодвигаю свою тарелку с кровавым куском мяса, к великой радости Жана, который давится от хохота. Он смеётся не как весёлый мужчина, а как злой мальчик, и всё же его смех заразителен.
– Если жить рядом с вами, Жан, то станешь плохим. Вы смеётесь, только когда случается беда… Господи, нет, я не хочу есть это мясо. Закажите мне разных сыров, мисочку сметаны и фруктов. А что до вас, Массо, то я желаю, чтобы ваша подруга сожгла все трубки, которые она для вас заготовила… Мы когда-нибудь уйдём отсюда? Этому обеду нет конца.
Жан начинает думать о том, чем бы заняться после обеда, о Майе, которая его ждёт, и мрачнеет. Кофе нам подают первоклассный, он смягчён сливками; затяжка сигаретой, которую мы закурили, вселяет в нас оптимизм – эфемерный, но от этого ещё более желанный и ценный. Я воспринимаю только приятные запахи очищенных апельсинов, обжигающего кофе и тонкого табака. Жан курит с наслаждением, он снова сияет. Лицо его подвижное, но непроницаемое, состояния его души обозначаются на нём только в конечной фазе, как свет и тьма, без раскрывающих всё переходов.
На уровне нашего столика вдруг возникает голова мальчишки-посыльного из гостиницы «Империал», он протягивает Жану письмо и говорит:
– Мадам велела передать вам, как только уедет.
– «Уедет»?..
Жан недоумённо смотрит на нас и распечатывает конверт. Он едва бросает взгляд на листок и протягивает его нам. Это записка, написанная карандашом:
«Приятного аппетита. Я ухожу. Прощай. Майя».
– Что это значит, Жан?
Посыльный, который явно не бежал, чтобы поскорее доставить нам это письмо, изображает, что с трудом переводит дух, и безостановочно моргает – у него робкие кроличьи глаза. Жан бросает ему: «Всё в порядке, парень, отваливай», – и шлёпает его по плечу так, что посыльный чуть не растягивается на полу. Миг – и робкого кролика как не бывало.
– Послушайте, Жан, это невероятно! Надо всё выяснить у портье.
– Что «выяснить»? Умоляю вас, дорогой друг, садитесь в своё кресло… У вас вид дамы, потерявшей своего любимого бежевого грифона!.. Кофе остынет.
Он слегка отодвигается от стола, закидывает ногу на ногу и закуривает. Но ноздри его трепещут, а по вздрагиванию перекинутой ноги я могла бы, пожалуй, сосчитать ускоренные удары его сердца. Мы остались едва ли не последними в зале ресторана, и я охотно исполнила бы тайное желание метрдотелей, которые с враждебной поспешностью убирают посуду с соседнего столика, чтобы накрыть его к файф-о-клоку… Я исподтишка ищу на лице Жана героическую и болезненную гримасу, исказившую, быть может, лицо Макса, когда он прочёл – тому уж скоро будет три года – моё прощальное письмо: «Макс, дорогой, я ухожу…», – но в лице Жана я не прочитываю ничего, кроме выражения ожидания, нерешительности, словно бы он не думает ни о чём, а только слушает, и от этого его разом похорошевшее лицо приняло совсем новое выражение чуть ли не влюблённости, он глядел не на нас, а на море, глядел, как любовник, не со слезами на глазах, а с надеждой…
– Массо?..
Хотя я позвала его очень тихо и подбородком указала на выход, Жан это заметил.
– Надеюсь, вы не уходите? Нет, в самом деле! Из деликатности? Вы… сочувствуете моему страданию? Я не требую этого от вас, особенно от вас, Рене.
– Мы расстаёмся, мсье? – говорит Массо театральным голосом, закидывая за плечо полу воображаемого плаща.
– Нет, старик, нет. Не будем разыгрывать драму из-за того, что бедняжка Майя…
– Ах, Жан, только не смейте, прошу вас, снова говорить о ней дурно.
Я смеюсь, очень чётко при этом понимая, что не говорю того, что должна была бы сказать, и каждое моё слово подтверждает правоту Жана, который только что произнёс: «Нет, вы не подруга Майе».
– Бог ты мой, я и не собираюсь, – вздыхает он, невидимый в облаке дыма. – Ведь, по сути, она права, другой такой не найти…
Я с облегчением кидаюсь на указанный путь:
– Не правда ли? Не правда ли?.. Другой такой не найти… Столько подлинной наивности, несмотря на то что она всё время делает вид, будто «прошла огонь, и воду, и медные трубы», как она говорит. Верно, Массо? Когда вы её дразнили, она так сердилась, что краснела до корней волос, в этом было столько детской искренности…
– Не сомневаюсь, – подтвердил Массо с опасной поспешностью. – Хотя мы часто расходились во мнениях, она говорила столько прелестного – о международной политике, например, и о многом другом, в частности, о значении религиозного чувства в современной музыке.
Он потирал сухие ладони, злой, как старая ведьма.
– Такие шутки уже давно вышли из моды, Массо! Вы мне сейчас напоминаете лисицу неопределённого возраста под прекрасной виноградной лозой. А этот господин… Он посмеивается… Ах вы, мужчины! Двадцать пять лет ей от роду, волосы – чистое золото, сияющие белизной зубы, а глаза!.. Вам всё отдаётся, так много, что и не ухватить, а вы ещё недовольны! Что вам ещё надо, чёрт возьми!
– Я как раз и хотел у вас спросить, – сказал Жан едва слышно.
– Но, Жан, эта малышка вас любила! Да и вы, к слову сказать…
Я предпринимаю отчаянные усилия, чтобы не сразу изменять тон и не сразу отказаться от своей фальшивой горячности, которая, впрочем, не находит у Жана ни малейшего отклика.
– До сих пор слышу, как она жаловалась на вас два дня назад. Не сомневаюсь, что у неё были на это основания.
– Не менее чем на три или четыре тысячи франков в месяц, говоря её языком. Нет-нет, я ведь не хам, я просто так, для смеха. Бедная малышка Майя и бедный брошенный я…
Какая мысль таится в глубине его серых глаз? С тех пор как Жан получил письмо, он не позволил себе ни одной непосредственной реакции – глаза оставались сухими, рука не сжималась в кулак, чтобы трахнуть по столу, крик не сорвался с его губ, как знак оскорблённого самолюбия.
– Что вы собираетесь делать, Жан? Её ведь нетрудно найти, эту убежавшую девочку. Не пройдёт и двух часов, ну максимум двенадцати, и вы её настигнете…
– Я?!
Вот он, крик, но я ждала не такого. Этот прозвучал как возмущённый лай. В нём был бунт и гнев, от которого вода пляшет в графинах.
– Я её настигну? Чтобы я это сделал!! Когда со мной случилось такое… такое… Я не нахожу слов, чтобы выразить это. Короче, «это было предрешено». Чтобы я вернулся к ней, когда я вкусил удивительное чувство… Нет, не свободы, а обещания. Мне кажется, что оттого, что я теперь один, я имею право на весь земной шар со всеми находящимися на нём женщинами, словно все они мне обещаны, но когда я говорю «все», я имею в виду ту единственную, которую я желаю… Вернуться к Майе, когда… Когда я здесь…
Горячая сильная ладонь схватила мою, стиснула её и заключила в себя, словно большая раковина. Жест этот оказался таким внезапным, а обхват – таким деспотичным, что я молчу, словно он меня ударил. Я только поднимаю на Жана бессмысленные глаза, а он повторяет, на этот раз уже тише:
– Вернуться к Майе!..
– Вам не пришлось бы далеко идти, – говорит Массо своим старческим голосом, – она наверху, в своём номере. И тут, друзья мои, я должен извиниться… Вечный дурашливый студент… Анемичный поскрёбыш рода, который пускает в мир… Это я велел передать Жану написанное мною письмо. Вот и всё…
Он часто моргает, хрустит сухими пальцами и ждёт реакции. Таким образом, он проявляет определённую смелость или полную беспечность, потому что щёки Жана побурели от притока крови. Моя рука всё ещё в плену, и мне кажется, что я не смогу сдвинуться с места, пока его рука будет сжимать мою. Наконец я чувствую себя освобождённой и слышу несколько надсадную ухмылку Жана:
– Сдохнуть можно от смеха. Но какого дьявола вы это сделали, Массо?
– Просто так, поглядеть, – отвечает как всегда непроницаемый Массо.
И он снова предаётся своей лицедейской мании – напяливает на голову салфетку, свёрнутую в кулёк, сводит брови, кривит в жестокой гримасе рот и объявляет:
– Торквемада.
…Комната натоплена слишком жарко, но сквозь распахнутое окно вползает сырость, пропитывает волосы, увлажняет ноздри.
Я приехала сюда в душном поезде, и после сухой, позолоченной ранним солнцем Ниццы я с наслаждением вдыхаю этот холодный воздух, запах дождя, к которому больше не примешивается запах йода и соли и который не смягчён ароматом цветущей мимозы. Ветер приносит его мне на озеро Леман, где низко плавают тёмные тучи, а в редких просветах сверкает совсем близкий Монблан.
Мне хорошо знакома эта комната, я узнаю её розовые стены, отделанные лиловым бордюром, и небесно-голубые двери. Гостиница, где я остановилась, вполне приличная. Это одна из многих подобных ей швейцарских гостиниц на берегу озера или в других живописных местах. В Париже меня никто не ждал, а я вспомнила, что в Женеве в конце февраля часто бывает мягкая погода и чайки там приветливо машут крыльями. К тому же у Брага начинаются его ежегодные женевские недельные гастроли.
С тем же успехом я могла бы поехать в двадцать других городков на юге вместо Женевы – пляж с горячим песком и между двумя красными скалами, итальянская деревня, провансальские селения, где выжимают сок из фиалок и жанкиля. Но я не могу забыть, что все эти райские местечки, едва только наступает час сумерек, лишаются своего единственного украшения – особого света и превращаются в мрачные казематы, а туристам ничего не остаётся, как только таскаться от террасы к расстроенному фортепьяно и от читальни, оккупированной дряхлыми англосаксонскими призраками в очках, к салону, где судачат молодые и старые девы, готовые от скуки кидаться на людей, визжать и кусаться…
Мне здесь хорошо. Мягкость холодного воздуха, серая гладь озера, такая неподвижная после дождя, что маленький паровой буксир оставляет за собой след, длинный и тонкий, словно плетёный канат. Здесь всё удаляет меня от Ниццы, от Майи и Жана. Всё, вплоть до скупой и строгой красоты зимнего букета из едва проклюнувшихся листиков прибрежной ивы, меня молодит и освобождает от груза воспоминаний о пребывании на Ривьере, заключительная сцена которого и положила ему конец.
В течение сорока восьми часов я ещё терпела общество этих двух любовников. Майя снова стала весёлой влюблённой и ходила с демонстративно победоносным видом, как всякий раз, когда она сдавала свои позиции и унижалась перед Жаном. Когда они оставались наедине, Жан, не найдя для себя моральной позиции, которая давала бы ему хоть какое-то преимущество в моих глазах, принял разумное решение вновь вести себя как в прежние дни.
Накануне отъезда, уже тайно сложив чемоданы, я согласилась провести полночи в комнате-курильне Массо, на белой циновке и подушках, обтянутых прохладным блестящим шёлком. Опиума я не курила, но позволила себе этот вечер как некое постыдное наслаждение и «чтобы поглядеть», как говорит Массо.
Майя жадно накинулась на опиум – не столько ради удовольствия, сколько чтобы продемонстрировать свою опытность. Она говорила «шарик», «бамбук», «доза» и хвалила вязкость опиума со знанием дела старого, насквозь прокуренного китайца.
Жан закурил без желания и без удовольствия, как-то торопливо, словно ему не терпелось поскорее достичь благословенного мига, когда приклоняешь к подушке задурманенную, плывущую голову. Когда он отложил свою последнюю трубку, он вытянулся на циновке и упёрся в меня взглядом, в котором не было ни желания, ни тревоги, а лишь спокойная, как смерть, уверенность.
Я не лежала, как они все, а скорее сидела на циновке. От Жана меня отделяла Майя, распростёртая на полу, но какая-то неспокойная, её мучила мигрень и желудочные колики. Мне нравился приглушённый свет красного шёлкового фонаря и тихие хлопоты Массо с той, кого Массо называл своей гончей: жалкое, уродливое создание с красивыми, готовыми повиноваться глазами, как у служанки. Я толком не понимала, почему все эти люди, за исключением Массо, курят опиум, но мне казалось естественным, что Жан, накурившись, отдыхал, как человек, который напился специально, разрядки ради.
Короткое пламя миндалевидной формы под стеклянным колпаком вновь и вновь приковывало к себе мой блуждающий взгляд, я следила за почти неуловимой на белой циновке тенью Будды из хрусталя, стоящего возле лампы… Там, за Жаном, то и дело мелькали тоненькие сухие руки Массо – светлые пятна в полутьме комнаты. Они двигались медленно, с точностью и осторожностью, присущей, пожалуй, только рукам святых. После того вечера для меня был неприятным только один час – тот, что предшествовал отъезду на вокзал. В присутствии невозмутимого Жана Майя обрушила на меня целый шквал вопросов.
– Ну почему? Что это вам взбрело? Жан, скажи, разве она не рехнулась? Держу пари на десять луи, что через две недели вы снова будете здесь… Ну конечно, её влечёт страсть к перемене мест. По сути, она такая же чудачка, что и я!..
Майя тараторила без умолку, что-то восклицала, оборачиваясь то ко мне, то к Жану. Я боялась, что она увидит на наших лицах одинаковое желание молчания и обмана. Однако я не обменялась с её любовником ни одним заговорщическим словом, и он ничего не предпринял, чтобы меня удержать.
Мне хорошо. Я рада, что рассталась с теми людьми чисто, легко, без драматических сцен и без низкого флирта. Добропорядочная Швейцария внушает мне желание отойти в сторону от всего этого. Пройти, так сказать, курс «литературной терапии». Передо мной лежит кипа журналов: «La Grande Revue», «La Revue des Revues», «La Revue de Paris», «Le Mercure de France» и ещё много других… Хватит чтива и на ночь, и на день, и вообще на всю ближайшую неделю. Я их ещё не разрезала, но уже глядя на них, я могу с презрением относиться к спутникам, которых только что покинула, за исключением, конечно, Массо, существа безответственного, но бесспорно начитанного и таинственного. Я от них ото всех уже мысленно отстраняюсь и не без похвальбы говорю себе: «Как это я могла прожить три недели в обществе этих людей? И обходиться пятьюстами слов, которые составляют их словарь?»
Двести слов, чтобы заказать выпивку, сто слов, чтобы обсудить меню, несколько цифр, чтобы оценить проходящую мимо женщину и её платье и соотнести одно с другим, ещё сто слов, чтобы пересказать очередную пикантную сплетню, и последняя сотня слов нужна для тем, «возвышающих душу», а именно: мораль, литература и искусство. На это сотни хватало с лихвой. Да так недолго и родной язык забыть! Арго Брага, ломаный французский мюзик-холльного закулисья – всё лучше, чем тот язык, на котором объяснялась Майя с Жаном и которым я довольствовалась, кто бы мне теперь объяснил, как и почему?
Дождевая туча, плававшая по небу, а сейчас стремительно приближающаяся к городу, гасит ослепительное белое сверкание Монблана. На фоне низких тёмных туч мечущиеся чайки становятся снежно-белыми, а пока я достаю из кучи журналов тот, что в оранжевой обложке, мысли мои приобретают другой оттенок…
Да, я довольствовалась обществом этих людей, я довольствовалась им из-за беспринципной гордости, застарелой гордыни «синего чулка» и улыбалась, исполненная иронии и снисхождения, на просторечье Майи, на лень Жана, который не давал себе труда заканчивать начатые фразы… Чувство, которое удерживало меня при них, было сродни молчаливому презрению убогой школьной учительницы к своим тупым и нерадивым ученикам – так бывало чаще всего, но иногда, глядя на них, я тоже становилась эдакой разбитной тварью, любящей сладко пожрать, в охотку выпить, жадной до деликатесов, автомобильных прогулок, шикарных ресторанов с цветами на столах, ко всей этой пошлой роскоши, созданной для доступных женщин и богатых мужчин.
Сказать, что я терпела их общество, – это сказать лишь половину правды. На самом же деле я пыталась их покорить. Для кого же, как не для них, я мобилизовала все свои возможности нравиться, которые, впрочем, год от году ослабевали и теряли силу своего воздействия. Моим главным оружием было веселье, лёгкое веселье не очень молодых женщин, которые хохочут с излишней готовностью, что является сознательной демонстрацией хорошего настроения и отменного аппетита – что, несомненно, составляло неблагоприятный фон для Майи, ещё неуравновешенной в свои двадцать пять лет… Двадцать пять – это не возраст покоя, ещё слишком близки годы отрочества с их экзальтацией, самых экстравагантных надежд и готовностью к самоубийству… Майя в свои двадцать пять не жалеет времени на слёзы, притворство, на недомогания, на чёрные мысли… А Рене Нере в тридцать шесть ничего не требует, и даже может показаться, что она всё предлагает.
Я отдавала себе отчёт в том, что в глазах посторонних даже минуты моей слабости были мне выгодны, поскольку женщина бывает красивой лишь в сравнении. Рядом с Майей я не без умысла подчёркивала свою полную уравновешенность, гармоничную неподвижность, чтобы от Майи возникал образ недозрелого фрукта, висящего на сотрясаемой ветром ветке.
Короче говоря, я нашла довольно ловкий способ защищать себя, и его, в известном смысле, бесчестность не скрылась от посторонних глаз, поскольку в моих ушах ещё звучит фраза, сказанная Жаном: «Признайтесь, что вы не любите Майю». Я вполне заслужила эти слова, более того, я их добивалась. Это несколько болезненное вознаграждение за моё хитрованство!..
К счастью, я вовремя рассталась с этими людьми и грешила лишь по легкомыслию, поскольку совсем не думала о Жане. Я не придаю никакого значения его порыву накануне моего отъезда. Многие мужчины, когда их бросают любовницы, начинают признаваться другим женщинам: «Я вас давно хочу, как всё удачно складывается!..» Конечно, с моей стороны было крайне неосторожно жить какой-то единой жизнью с Жаном и Майей. Пробуждение в Жане врождённого инстинкта полигамии было неизбежно. И привычка находиться в обществе двух женщин не могла не пробудить в нём желания… Если ты мужчина и дружишь с женщиной, у которой нет любовника, охотно ищешь её общества, потому что она не глупа и не занудна, доверяешь ей свою любовницу, которая скучает, то в один прекрасный вечер нервно раскидываешь в стороны свои руки и обнимаешь сразу обеих женщин, а потом всё то ли налаживается, то ли разрушается…
Я всё наладила наилучшим образом, ничего не разрушила и уехала абсолютно свободная… А чем бы мне, собственно говоря, здесь заняться? Любые женевские развлечения мне доступны. Не покормить ли мне хлебом ручных чаек? А может быть, сесть на пароходик и поехать в Нойон, в ту маленькую гостиницу, где нас с Врагом угощали прохладным чаем и малиновой наливкой?..








