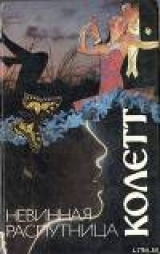
Текст книги "Преграда"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Перед «Отель де Пари» наша машина словно в нерешительности притормозила, как бы приглашая нас выйти.
– Жан, я тебя уверяю, ужинать нам следует здесь. Не снимая очков, он мотает головой, а потом, спохватившись, поворачивает ко мне выразительное полулицо:
– А вы как хотите?
– О… Я… Видите ли…
Мне хотелось бы вернуться в Ниццу, но если я в этом признаюсь, то спровоцирую бурную реакцию Майи, и я трусливо отступаю, не в силах вынести ругани и слёз в течение оставшихся сорока пяти минут пути.
– Я, видите ли…
– Вижу, – решительно сказал Жан. – Шеф, поехали дальше. Мы возвращаемся в Ниццу.
– Хамьё! – воскликнула Майя. – Ну что тебе стоило сделать мне приятное? Почему ты не захотел остаться здесь ужинать, я тебя спрашиваю?..
– Потому что у меня не возникло такого желания, – спокойно сказал Жан.
В ответ на эти слова раздался скрипучий смех Массо, который за эти несколько часов не произнёс ни звука.
– Ах, глядите, он прорезался! – враждебно крикнула ему Майя. – Оклемался, что ли? Тебе лучше?
Массо снимает очки и в мелькающем свете проносящихся мимо огней обнаруживает маленькие глазки с красными веками, мигающими прямо по-сатанински. Глаза этакого чёрта из адской канцелярии.
– Да, лучше, чем если бы было хуже. Ведь когда вы говорите: «Мне лучше», вы даёте этим понять, что прежде – причём не уточняете, когда именно, – было хуже. Но так как в данном случае я не доволен состоянием моего здоровья, могу вам лишь ответить: «Да, лучше – лучше, чем если бы было ещё хуже».
У него голос старика, а лицо без возраста. Физически он слаб, но редко бывает усталым: то он капризно взвинчен наркотиком, то сокрушён им. Майя говорит ему «ты» – но она с таким количеством мужчин на «ты», – похоже, она знает его не больше, чем я, которая за последние две недели находилась в его обществе четырнадцать или пятнадцать раз. Когда я её спросила про Массо, она ответила:
– Почём я знаю? Старик… Видно, жил в колониях. Нынче вечером он пробуждается после долгого и мрачного молчания, оживлённый, должно быть, ночью, приближением часа принятия яда. Он поглаживает тонкой желтоватой рукой свою как бы соломенную бородку и говорит, глядя на меня искоса:
– Вот жест мужчины, у которого много женщин. Он раздвигает свою бородку, как веер, и произносит:
– Вот вам Генрих Четвёртый.
Потом снимает с головы мягкую фетровую шляпу, сворачивает волосы на лбу в рог и произносит:
– А сейчас – Людовик Десятый.
Потом, с той минуты, как ночь, ещё более тёмная после огней Монте-Карло, накрывает нас, он снова погружается в молчание и зябкую неподвижность.
Прожекторы, которые только что зажглись, высвечивают перед нами круглую бухту и туннель света, увеличенный бледной и дрожащей радугой. От сухого и потеплевшего воздуха мои ноздри расширяются, и я, расслабившись, упираюсь затылком в сложенную крышу машины и чувствую себя в безопасности от уверенности, что теперь до Ниццы буду невидимой, лучше скрытой от чужих глаз темнотой, чем полумаской со стеклянными глазами…
– Простите. – Это голос Жана, который коленями коснулся моих колен.
– Этого ещё не хватало! – выговаривает ему Майя. – Пихать её ногой, дальше уж ехать некуда!
– Почему «дальше ехать некуда»? Ты ведёшь себя невежливо по отношению к госпоже Рене Нере, Майя!
– Что означает «дальше ехать некуда» после отказа поужинать в Монте-Карло? – доносится сквозь ветер бормотание Массо. – Вот ответ: после отказа поужинать в Монте-Карло «дальше ехать некуда» означает «пихать ногой госпожу Рене Нере»…
Я чувствую, как Майя не в силах усидеть на месте от бешенства.
– Господи, до чего же вы оба мне отвратительны! Подумать только, все почему-то считают, что у меня умный любовник, и находится немало чокнутых людей, которые уверяют, будто у Массо изысканный ум! А я всё ломаю себе голову, что же в вас есть хорошего, что в одном, что в другом! Эй ты, умный любовник, ты хоть раз отказал себе в чём-либо, чтобы доставить мне удовольствие? Сделал ли ты хоть что-либо ради меня, ну скажи?
– Никогда, – очень чётко отвечает умный любовник. – Ты не старая дама, и нас не связывают узы родства. Следовательно…
Лишний раз я забавляюсь этой парой. Они изумляют меня, потому что женщина в ней становится женщиной, только когда лежит в постели.
Когда Майя находится в вертикальном положении, она лишается всех привилегий своего пола. И любовное согласие подменяется школьным соперничеством… Люди такого типа для меня новость. Я терпела иго своего мужа, когда была молодой и глупой женой, Максим Дюферейн-Шотель пытался держать меня в нежном, буржуазном, традиционном подчинении. Я видела, как Амон, мой старый друг, страдал от дурацких капризов своевольной девчонки. Я наблюдала за кулисами примитивную страсть, которая вынуждала самку склоняться перед вожаком стаи… Но я никогда и нигде не встречала чего-либо подобного отношениям Майи и Жана.
Не считая денег и ласк – впрочем, насчёт этого тоже не всё ясно, – она не получала от него ничего, в чём бы проявлялось мужское к ней уважение.
– Да, кстати, – вдруг произносит Майя, словно она следила за моими мыслями. – С завтрашнего дня я перейду в отдельный номер с ванной в «Империале». Мне надоело, чтобы ты первый залезал в ванну и чтобы твоя кисточка для бритья лежала на моей зубной щётке. Моя дорогая, – Майя поворачивает ко мне маленькое личико, бледную округлость которого я едва различаю в темноте, – я не знаю, такая ли вы, как я…
– Нет, – говорит Жан. – Что нет?
– Я говорю: нет, она не такая, как ты. Она не находит кисточки для бритья на своей зубной щётке, и она не моя любовница.
– Скажи ещё, что ты об этом жалеешь. Давай-давай, тут же говори!
– О, почему тут же? Майя, когда ты перестанешь так торопиться? Эта вечная спешка портит лучшие минуты. Вот вчера утром, чтобы привести хоть один пример…
– Вчера утром? Чем я провинилась вчера утром?
– Хочешь, чтобы я сказал?
Массо, который, казалось, дремал, вдруг заинтересовался разговором. Мы проезжаем Больё, и в свете огней я вижу, что он, чтобы лучше слышать, застыл в позе сентиментального портрета из галереи Дидери – прижав указательный палец к уголку рта, он навострил уши, придал глазам выражение крайнего внимания и заявил:
– Я императрица Евгения.
Но сенсационных разоблачений не последовало, потому что редкие мирные прохожие Больё становятся свидетелями весьма необычной сцены: в проезжающем по улице открытом автомобиле красного цвета во весь рост стоит молодая женщина и со знанием дела бьёт кулаками сидящего напротив неё господина, выкрикивая при этом:
– Я запрещаю! Я запрещаю тебе рассказывать, что было вчера утром! А не то я расскажу про твой чирей выше бедра и историю с гигроскопической ватой!
В ответ на эти слова сильный удар валит Майю на заднее сиденье, на котором я в полной растерянности забилась в уголок. А ведь эта ночная поездка вдоль моря, испещрённого горизонтальными световыми полосами от фонарей, могла бы быть поистине прелестной. Ночь спустилась так быстро, что вода, слегка покачивающая освещённую эскадру на рейде, едва угадывается. Любовники, только что сразившиеся в публичной потасовке, продолжали толкаться сидя, и я отвернулась не столько из собственной скромности, сколько из-за бесстыдного любопытства Массо к происходящему.
Наконец мы подъезжаем к Ницце. Эта яркая гирлянда огней там, вдали, – Английская набережная, а на набережной находится моё временное жильё. Пусть это всего-навсего гостиничный номер, но зато я могу запереть на задвижку свою дверь, и меня не будут мучить запахи дурных духов.
– Который час?
Вопрос этот как-то сам собой сорвался с моих губ, когда мы проезжали мимо крошечного театра, название которого, обозначенное красными лампочками, освещает листву деревьев городского сада. Такой крошечный театрик! Там было очень хорошо в прошлом году, когда декабрьские ливни хлестали по тротуару, а вымокшие цветы мимозы качались на ветках, похожие почему-то на приклеенные перья.
– Штраф! – кричит Майя. – Она спросила, который час, и одним луи ей не отделаться!
– А кому их давать? – поинтересовался Массо.
Такси остановилось перед входом гостиницы «Империал», но неподдельное изумление не даёт Майе сразу выйти.
– Как кому? Естественно, мне. Когда я с вами, кому ещё можно давать деньги? Разве не ясно?
Жан пожимает плечами и молча соскакивает на тротуар. Нет таких ранящих слов, таких гибких розог, которые вылечили бы Майю от её врождённого порока: она всему знает цену и занимает у всех деньги; всё, что видит, она тут же оценивает во франках и луидорах. Вернись она с царского обеда, она не воскликнула бы: «Стол так и ломился от цветов и фруктов», а выразилась бы точнее: «Там были персики по сто су за штуку, дети мои, а орхидей на столе стояло не меньше чем на пятьдесят луи…» Майя пользуется чужим кошельком не как мошенница, а как какая-нибудь важная гостья, которая первой берёт с каждого блюда свою долю.
Ну вот, наконец-то мы вернулись! Вернулись ещё раз. Прибыли домой, нагруженные мехами и очками, словно полярные исследователи, хотя на самом деле проехали каких-нибудь жалких сто километров по прибрежному шоссе. Мы жмуримся от яркого света в вестибюле под любопытными взглядами англичан – холостяков с короткими трубками и игроков в рулетку – двадцать су на пятый номер, двадцать су на десятый и… ну пусть на сороковой, хоть на него никогда не выпадает. Все они ужинают вовремя и уже вышли из ресторана. Для этой весьма неизысканной публики Майя снимает свою шиншилловую шапочку и встряхивает волосы, из которых дождём посыпались шпильки в соответствии с правилами поведения той, что говорила про себя: «Ну где вы ещё такую найдёте?», и Жан поощряет её резким ударом носка башмака по голени. Массо, вполне равнодушный не только к моде, но даже к нормам приличия, зевает так, что у него слёзы выступают на глазах, а бородка упирается в причудливый воротник в стиле Медичи его пальто из зелёного сукна.
Массо видит своё отражение в зеркале, растягивает губы в особую улыбочку и, наклонившись ко мне, говорит доверительно:
– Генрих Третий.
Лифт, кажется мне, что-то долго не спускается…
Я испытываю чувство неловкости от откровенного любопытства, с которым нас разглядывают эти иностранцы, должно быть задаваясь вопросом: «С кем из этих двоих мужчин поднимается та из женщин, что помоложе?»
Наконец железная клетка поднимает нас всех четверых. Этим прерывается воцарившаяся между нами какая-то неловкость, фальшивая фамильярность, почти антипатия. И мы говорим друг другу: «До скорого…» – чётко и холодно, словно нам уже не суждено больше встречаться.
– Ах эти люди, эти люди… – Я не знаю, что ещё добавить, и снова повторяю: – Эти люди… С меня довольно!..
Посыльный, который приносит мне в номер поднос с чаем и фруктовое пюре, уносит с собой записку для Майи, в которой я вкратце извиняюсь:
«Я, видимо, простудилась, дорогая Майя, ложусь не ужиная. Чувствую себя скверно. До завтра».
Теперь, когда дверь заперта на два поворота ключа, я могу шагать из угла в угол, уже не сдерживая своего дурного настроения: «Мне определённо надоели эти люди!» Горячая, благоухающая экзотическим ароматом ванна, которая меня уже ждёт, распространяет кисловатый запах и в комнате. А я хожу в старых шлёпанцах, в халате, накинутом на мятую рубашку, кружевная отделка которой не стянута лентами: сразу видно, что я пользуюсь ужасной гостиничной прачечной. В те годы, когда я зарабатывала себе на жизнь, моё более скромное бельё всегда было с продёрнутыми лентами и пришитыми пуговицами. От этой ничем не оправдываемой небрежности моё настроение вконец портится: «Ой, до чего же мне осточертели эти люди!..» Но я никого не называю по имени, боясь, видимо, что придётся назвать самоё себя.
Ну как я могу в чём-нибудь обвинить Массо, человека образованного, знатока и любителя книг, которого одолел опиум? Почему Майя заслуживает большего порицания, нежели Жан, за то, что они оба, томясь от собственного безделья, ищут моего общества, наблюдая за моей бездельной жизнью. Ведь Майя не злая, а Жан приятен в общении, обходителен, охотно смеётся и не болтлив к тому же. В число «всех этих людей», которые мне так осточертели, надо ли включать моего Одинокого Господина, беднягу, и служащих гостиницы, и людей, прохаживающихся на молу? Да, я предпочитаю включать. Так лучше, это менее несправедливо. Бедная Майя, ведь она мне ничего плохого не сделала… Сейчас она ужинает с Жаном у «хорошей хозяйки», или в казино, или в комнате № 82, где, наверно, всё уже дрожит от криков и яростных схваток очередного сражения… Я потягиваюсь, погружаюсь в обжигающую воду и недобро ухмыляюсь, воображая, как будет выглядеть Майя завтра поутру, вся в мелочных расчётах и беспрестанных жалобах.
– Вы только поглядите, моя дорогая, и оцените: на мне синяков не меньше чем на полсотни луидоров!..
Да, правда, все эти люди мне надоели. Но я теперь начинаю лучше разбираться не только в себе, но и в сильных и слабых сторонах этого странного края, где утро всякий раз восхищает, а вечерами, даже если небо усыпано звёздами, прошибает лёгкий озноб от нездорового ощущения какой-то двойственности здешнего климата. Здесь ночная прохлада не бодрит, тёплая ночь пробуждает не сладострастие, а только лишь озноб. Неужели я за столь малый срок стала так чувствительна к капризам средиземноморской зимы, а может быть, я уже заранее была сродни здешней погоде? Здесь от январского солнца может созреть виноград, однако достаточно единого ледяного дуновения, чтобы всё увяло… Макс, я лежала в ваших объятиях словцо в могиле, выкопанной по моему размеру. И всё же я встала из неё, чтобы убежать…
Однако всё это вовсе не означает, что я должна оставаться с «этими людьми». Нас ничто не связывает, кроме безделья. Прошлой зимой у Майи был другой любовник, менее соблазнительный, но более удобный, чем этот. Этого я приняла с некоторым смущением и холодом, в то время как Майя обживалась в этой новой связи с такой естественностью и активностью, которую обычно проявляют, когда нужно обставить новую виллу.
Майя?.. Я легко обошлась бы без неё, как, впрочем, и без Жана. За прошедший год мы ничуть не сблизились. Мы говорили о любви, гигиене, платьях, шляпах, косметике, кухне, но от этих разговоров не возросла ни наша привязанность, ни уважение друг к другу. Раз десять за это время я расставалась с Майей без всякого сожаления, десять раз она уезжала безо всяких нежных прощаний, лишь пожав мне руку, и десять раз случай вновь приводил её ко мне – либо одну, либо в чьём-то обществе. Она появлялась неожиданно, напрочь разрушая мои намерения вести регулярный образ жизни, окончательно встать на путь мудрой зрелости, и при этом всегда восклицала: «Ну где же вы ещё такую найдёте?» Стоит Майе только открыть рот, как захлопывается моя раскрытая книга, грёзы теряют свои цветные обличия, а мысли, пытавшиеся вознестись, становятся плоскими. Более того, даже слова все разлетаются, остаётся всего двести или триста самых употребляемых и несколько арготичных выражений – короче говоря, только то, что нужно, чтобы спросить, как пройти, попросить выпить, поесть или лечь с кем-то в постель, – как в разговорниках на иностранных языках… Я ей никак не сопротивляюсь, я послушно захлопываю книгу, которую читала, надеваю платье и следую за Майей или за Майей и Жаном в какой-нибудь ночной клуб…
Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что Майя обладает не большей волей, чем я, а всего-навсего большей «активностью», силой, налетающей время от времени этаким вихрем, поскольку её никогда не тормозит мысль. От неё я узнала, что можно обедать не испытывая голода, без умолку говорить, так ничего и не сказав, смеяться по привычке, выпивать исключительно из чувства уважения и жить с мужчиной, находясь у него в рабском подчинении, но при этом делая вид, что ты абсолютно независима. У Майи периодически бывают приступы неврастении, и она впадает в глубокую депрессию, но ей известно, как врачевать эти душевные недуги: маникюрщица и парикмахер – вот её единственные врачи. А над ними – только опиум и кокаин. Если Майя, бледная, с синяками под глазами, то и дело пересаживается из одного кресла в другое, беспрестанно зевает, зябко поёживается и плачет от каждого сказанного ей слова, если она не желает слышать о своём пустейшем прошлом и таком же будущем, она рано или поздно возопит со страстью в голосе: «Немедленно вызовите ко мне маникюршу!» – или: «Пусть парикмахер вымоет мне голову!» И в тот же миг успокоившись, расслабившись, она отдаёт свои короткие пальцы или золотистые волосы во власть ловких рук, которые умеют мылить, деликатно скрести ногтями, расчёсывать щёткой, лакировать и завивать локоны. Под воздействием этих благодатных движений Майя начинает улыбаться, прислушиваться к сплетням, к как бы невзначай оброненным комплиментам и в конце концов впадает в полудрёму выздоравливающих.
Весёлая ли Майя? Мужчины уверяют, что да, но я считаю, что нет. На её круглом, как у ребёнка, лице природа нарисовала рот в форме опрокинутой радуги, глаза с лукавыми складочками в уголках и крохотный подвижный носик – черты, олицетворяющие смех как таковой. Но веселье – это не постоянная вздрюченность, не бессмысленная болтовня, не вкус к тому, что дурманит голову… Веселье, как мне кажется, – нечто более спокойное, более здоровое, более существенное…
Собственно говоря, Жан, быть может, веселее Майи. Его мало слышишь, он так же внезапно может пригрозить, как и улыбнуться, но в нём я чувствую невозмутимость людей с хорошим пищеварением, тогда как Майя впадает в неистовство с самого начала ссоры и тут же начинает искать глазами или нашаривать рукой ножницы либо шляпную булавку. А Жан бесхитростно шлёпает её своей тяжёлой ладонью с чисто гимнастическим упоением.
Нет, надо расставаться с этими людьми. В самом деле, с ними необходимо поскорее расстаться. Хочу ли я этого или нет, но они занимают слишком много места и времени в моей жизни. Правда, она пустынна, хотя Майя появляется там всё вновь, и вновь, оставляя вытоптанную тропинку, где уже ничего не растёт. Зачем тянуть? Я уйду, твердя себе: «Я этих людей, собственно, и не знаю толком…» Нынче вечером я с каждой минутой вижу их всё в худшем свете, я должна себе признаться: «Я их слишком хорошо знаю». Кроме того, я догадываюсь, что скорее всего говорят о нашей тройке: мол, одинокая женщина, чрезмерно тесно связанная с этими разнузданными любовниками… Представляете, до чего я докатилась! От одной только мысли, что обо мне могли так дурно подумать, обо мне, такой беззащитной, а теперь и потерянной среди других людей, мне начинает казаться, что Париж, провинция и даже иностранные государства упёрлись в меня своими осуждающими глазами, и моя постель, только что ещё такая свежая, с хорошо выглаженными скользкими простынями, теперь согревается от охватившего меня добродетельного гнева, и мои духи уже не могут полностью заглушить чуть пробивающийся запах стиральной соды.
Я уже почти спала, когда вернулся жилец из соседнего номера и бесцеремонно хлопнул дверью. Потом я услышала стук двух упавших башмаков, брошенных, видно, из одного угла комнаты в другой. Стук такой громкий, что можно было подумать: «Сосед носит солдатские бутсы». Теперь он ходит в носках, но рассохшийся паркет скрипит от каждого его шага, и я невольно слежу за всеми его перемещениями, как он идёт от туалетного столика к тумбочке, потом от тумбочки в ванную комнату… Из его ванной комнаты, смежной с моей, до меня доносится позвякивание зубной щётки в стакане, резкий звук от падения на кафельный пол какого-то серебряного или никелированного предмета, шум воды, наполняющей ванну… Увы, от меня не сокрыто ни одно действие запоздалого постояльца… Я жду, исполненная отвращения и покорности, чтобы сон хоть на несколько часов выключил из жизни этого ненавистного мне незнакомца, этого господина Икс, которому я желаю если не смерти, то внезапного паралича… Я жду, когда же наконец он перестанет бродить по номеру, громко зевать, откашливаться, прочищая горло, харкать, пробовать свой баритон звуками «гмм-гмм», от которых звенит посуда на столике у моего изголовья.
Потолок надо мной дрожит от чьих-то шагов. Теперь оживает и слева соседняя с моей комната – оттуда доносятся мелкие шажки и резкий женский голос с агрессивными интонациями. Эта женщина, видно, ссорится с кем-то, чьи ответы я не слышу. Можно предположить, что она спорит по телефону… Я жду. Я противопоставляю этим разнообразным шумам неподвижность притаившейся до поры до времени грабительницы. Я едва дышу, словно желая этим подать пример тишины…
Раздаётся звонок в коридоре, раз, два, три раза, десять раз. Кто-то без конца нажимает кнопку нервными пальцами. Потом я слышу, как останавливается лифт – пум! – гулко разносится по этажу, и кто-то с маху захлопывает железную дверцу кабины… Это типичная ночь в гостинице. И в своей жизни, которая бросала меня из гостиницы в гостиницу, я перестала считать эти мучительные ночи, когда стук ботинок об пол, хлопанье дверей, чей-то кашель – все эти звуки человеческих стойл медленно отмеривают вяло текущие часы ночи. На фоне постоянных звуков храпа мне не раз приходилось быть свидетельницей весьма жестоких сцен: револьверный выстрел сумасшедшего, дикий крик одной истеричной дамы, кошмарные вопли игрока из Монте-Карло, спустившего всё до нитки. Перегородки между номерами, словно сделанные из тонкого картона, не раз позволяли мне расслышать и более тихие звуки – вздохи, шорохи любовных объятий, которые я безжалостно прерывала искусственным кашлем, а иногда и просто ударом кулака о стенку – последнее время я стала совсем уж нетерпимой к чужому сладострастию…
Ничто меня, впрочем, уже не вынуждает терпеть и дальше множество мелких ночных пыток, неизбежных, когда живёшь в гостинице. Если я захочу, то могу хоть завтра переехать на тихую виллу здесь, на Лазурном берегу, или в комфортабельную квартиру в Париже, поскольку смерть моей невестки Марго сделала из меня рантьершу. Двадцать пни. ТЫСЯЧ франков ренты для такой женщины, как я, – это богатство. Но всё дело в том, что я не хочу, не умею. Собака, которую долго не спускали с поводка, не бежит, когда ей дают волю, а продолжает привычно идти рядом с хозяином, инстинктивно соразмеряясь с длиной уже не существующей цепи. А я вот продолжаю свою привычную гостиничную жизнь. Почему же, спрашивается, мне её не продолжать? Еженощно прерываемый сон, отсутствие покоя, неупорядоченная еда, кофе с цикорием, голубоватое разбавленное молоко – всё это является частью моей судьбы.
К тому же, с тех пор как я бросила сцену, у меня появилось желание, довольно, к слову сказать, эгоистическое и даже, более того, порочное, – отдыхать по утрам, когда большинство людей уже работает. Признаюсь, что мне особенно сладко слышать в тот час, когда наступающий день начинает синеватым светом пробиваться сквозь щели ставен, как коридорный стучит в соседние с моим номера, и я представляю себе, сколь тяжело просыпаются люди, чувствующие себя совсем разбитыми, с каким отчаянием они зевают, а тут ещё спешка, и льёт дождь, и страх опоздать на поезд… Гадкое чувство реванша заставляют меня зарыться в тёплые простыни, и я только успеваю пробормотать: «Что ж, теперь их очередь», прежде чем снова погрузиться в сон, в дневной сон, лёгкий, полный сновидений, почти сознательный, озарённый изнутри странными светилами, что сопутствуют снам, а снаружи – дневным светом, который сочится сквозь неплотно прикрытые веки…
Должно быть, уже поздно, но электрические стенные часы отмеряют время лишь едва слышным скрипом каждые шестьдесят секунд. Майя и Жан уже, наверное, перестали ссориться, а может, и мирятся?.. В соседней комнате храпят – простой, величественный храп, всякий раз прерывающийся на выдохе сухим, кратким всхлипом «клок», звучащим одновременно и смешно, и зловеще. Этот тип храпа я знаю и предпочитаю его нарастающему храпу, который начинается едва слышно, постепенно набирает силу и завершается надрывным кашлем. Большой нос Массо издаёт, наверное, ужасающие звуки, а может курильницу опиума ещё не погасили, и она горит прибитым пламенем под каплей потрескивающего сока…
Я не сплю – но и не теряю терпения. Эта ночь не будет ни длиннее, ни короче других подобных ночей. Любой ночи приходит конец – этого люди, страдающие бессонницей, не знают достаточно твёрдо. Я им это прощаю, потому что они в большинстве своём больны. А я не больная, я к этому привыкла. Я не зажигаю лампы и не открываю книгу – это ведь лучший способ окончательно изгнать сон и изуродовать отёком веки. Я жду. Они отвратительны, все те, кто за стенами моей комнаты и над потолком отдыхают, как настоящие варвары, они, конечно, отвратительны, но… они есть. Кто мне скажет правду? Может, я вовсе не хочу от них бежать, а, напротив, ищу их присутствия? Может, я ошиблась в тот день, когда, покидая свою квартиру и отказываясь от удобного жилья, считала, что делаю ещё шаг навстречу одиночеству… Окружённая ненавистными соседями, которых ровно столько, сколько есть стенок в моей комнате, я всё повторяю, чтобы убедиться, что они все тут: «Они отвратительны», – и покорно жду, окружённая ими, успокоенная их присутствием, как над морем забрезжит рассвет, как подымутся волны от утреннего ветерка и этот бледный невнятный свет дойдёт наконец до моей кровати, до моего лба, до моих нечувствительных глаз, теперь уже с плотно закрытыми веками.
Говорят, что женщина с трудом сохраняет хладнокровие при виде плачущего мужчины. Я что-то не припоминаю, чтобы слёзы Макса в тот день, когда он так наивно плакал, узнав о моём предстоящем отъезде, меня особенно разволновали.
Но я считаю, что для женщины горе другой женщины может представлять душераздирающее зрелище, потому что способно вызвать эгоистический страх, называемый предчувствием. В чужом женском горе женщина почти всегда видит своё отражение. Она могла бы выразить это предчувствие примерно так, как пьяница, ещё не принявший ни грамма, говорит об уже набравшемся алкаше: «Вот таким я буду в воскресенье».
Майи горе. Я прекрасно обошлась бы и без того, чтобы вникать в её обстоятельства. Но «такая, как она» считает откровенность своей, так сказать, профессией и бесстыжую откровенность выдаёт за естественное прямодушие.
Бедная Майя! Вот она и переехала в номер, в котором желала жить одна.
О, как она печальна среди этого пёстрого и весёлого беспорядка, где в кучу свалены её шёлковые рубашки, кружевные чулки, платья с длинными шлейфами и короткими юбками. На кровати громоздятся ящики, вынутые из кофра, и раскрытая коробка из-под шляп. Горничная Майи, упрямая гасконка, болтается по комнате взад-вперёд, всем своим видом выражая неодобрение. Рядом с чайным подносом я замечаю две коробочки с какими-то пилюлями, а также широкогорлый флакон с белым порошком. Майя прерывисто зевает и хлюпает носом, вконец подавленная этим промозглым утром, тёмным из-за постоянно набегающих туч, безутешными слезами, а главным образом тем, что нанюхалась кокаина.
– Высморкайтесь, Майя.
– Этого ещё не хватало, чтобы нос стал красным. Лучше уж буду сопеть.
Она смеётся с хрипом, как ребёнок, который слишком долго кричал, ибо её горе – и за это я её хвалю – не выражается в рыданиях. Она мне сказала: «Ну вот. Случилось. Это было неизбежно». Она ругалась как мужчина и обзывала своего Жана самыми страшными словами. Она унесла с собой, зажав в руке, фотографию Жана, отпечатанную на открытке, и пачку ассигнаций, которую, воспользовавшись беспорядком, вынула из жилетного кармана своего любовника… Мне хотелось бы подняться к себе в комнату. Я в халате, но без чулок, и зябну после ванны, потому что плохо вытерлась… Я чувствую, что мне недостаёт жалости, теплоты, если быть честной – любви, и поэтому изо всех сил стараюсь быть дружественной.
– Ну послушайте, Майя, это же несерьёзно. К тому же это случается у вас не впервой.
– Не впервой – что? То, что я переезжаю в отдельную комнату? Э-эх! Если бы у меня было столько тысяч франков ренты, сколько раз мы с Жаном ссорились!.. Сама знаю, что это несерьёзно…
Однако она обустраивается в номере так, будто это серьёзно. Она передвигает туалетный столик к окну, поворачивает зеркало к свету и начинает приводить в порядок своё лицо – она занимается этим, нимало не смущаясь присутствием Жана, меня, коридорного, посыльного. Дело своё она знает, тут уж ничего не скажешь. Она особо протирает уши и уголки губ. Она даже приподнимает и кончиками пальцев выворачивает веки, – так проверяют жабры у рыбы сомнительной свежести… Потом Майя, обернув платочком указательный палец, засовывает его в каждую ноздрю и начинает орудовать с виртуозностью официанта, протирающего бокалы, для шампанского. Перламутровым ножичком выскребает язык, ногтями обеих рук безжалостно выдавливает крошечный прыщик, маленьким пинцетом выдёргивает ненужные волоски…
– Я-то лучше, чем кто бы то ни было, понимаю, что это несерьёзно. Но, видите ли, я знаю мужчин, а особенно Жана. Я с ним общалась… Что вы сказали?
Я ничего не сказала, а только слегка отвернулась, чтобы скрыть улыбку, не злую и не добрую, которую я не могла сдержать после слов Майи «я знаю мужчин»… Почему эту классическую фразу произносят женщины не после своего триумфа, а после поражения, доказывающего как раз обратное? Я ничего не сказала, я не знаю мужчин…
– …Я с ним общаюсь уже год и могу не хвастаясь сказать, что он не из тех, кто ржавеет в любовных делах…
Закрутив волосы в пучок на китайский манер и стянув их сеткой, она накладывает на лоб и щёки толстый слой кольдкрема, но её желание меня убедить столь сильно, что она прерывает свой массаж и продолжает говорить, шевеля растопыренными пальцами. А я в это время вспоминаю, как гримировалась и разгримировывалась в прежние времена, вспоминаю ту эпоху, когда Браг называл меня, лоснящуюся от вазелина, «крысой, упавшей в подсолнечное масло»…
– …Год с мужиком – это уже почти контракт, хотя мы жили вместе только на взморье или на водах. Общая городская квартира, знаете… Нет, это не для нас. У него свои занятия, у меня свои идеи. Есть такое, чего я не могу принять… Что вы говорите?..
Я ничего не говорю, но, обладая тонким инстинктом, Майя всякий раз чувствует, когда вызывает у меня недоверие. Есть такое, чего она не может принять? Что же это, интересно? Она берёт деньги, получает пощёчины, терпит всевозможные грубости, и всё это, правда, с вызывающим видом мелкого деспота…
– …Короче, если Жан остаётся со мной… Не думайте, я не строю себе никаких иллюзий… то это не столько из привязанности, сколько из тщеславия, потому что знает: где он такую найдёт? Но я не шибко удобная, никогда не позволяю перейти определённую границу. И вот вам доказательство, – заключила Майя, указывая на развёрстые чемоданы. – Я ему сказала: «Пока, малыш! До встречи на этом свете или на том». Вот и всё.








