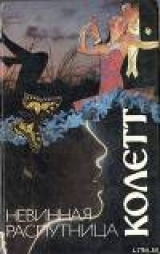
Текст книги "Преграда"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
И он ушёл, крикнув в последний раз: «До свидания!» Он врал. Я вернулась в его дом и начала ждать «письма», как говорила Майя, «письма, сообщающего, что всё кончено».
Я ничего не получила, даже этого письма, от которого я могла бы защититься, спорить с ним, в крайнем случае – угрожать. Я не получила ничего, не считая двух двусмысленных телеграмм, отправленных, видимо, для того, чтобы выяснить, живу ли я всё ещё в его доме, который мне не принадлежит. Когда я получила вторую телеграмму: «Будь добра вели Виктору выслать костюм для верховой езды сапоги обнимаю», я расшифровала её по-своему и тут же, не колеблясь, надела шляпу и отправилась в Батиньоль посмотреть, в порядке ли моя мебель, которую я хранила в маленькой двухкомнатной квартирке, служившей складом для моих вещей. Я оглядела всё в царящем там мрачном полумраке, вытерла пальцами пыль с расколотого стекла рамки пастельного рисунка, покачала головой и громко сказала: «Нет, не могу». И вернулась в дом Жана.
На следующий день я попросила в гостинице «Мёрис» один из синих номеров, в которых я привыкла жить за последние три года. Пока служащий расхваливал те усовершенствования, которые сделала администрация, называя меня при этом «госпожа Рене», я с ужасом слышала, как в холле скрипки «выстанывали» чувствительный вальс, связанный отныне для меня с таким жгучим воспоминанием.
В этот час я проявила, быть может, самую позорную слабость в своей жизни. Я познала холодный ужас, страх перед змеёй, которую никто не видит, но которая ползёт где-то здесь под ногами, страх ямы с осыпающимися краями, напоминание при каждом шаге, ежеминутно, о том, что я потеряла… «Нет, я не могу». И я вернулась домой к Жану.
Здесь, по крайней мере, меня ничто не отвлекает от мыслей о нём, а чувствительный вальс пою я сама.
– Что с тобой?
– Со мной ничего.
Один из нас постоянно задавал этот вопрос, другой отвечал на него, и постепенно мы свели к этим фразам все наши диалоги.
Наше общение свелось к тревоге, ибо во время объятий не говорят. Постепенно слова покидали нас, как, наверно, понемногу глохнут на остывающей звезде и крики, и пение – тёплые звуки живых созданий. Наша любовь, рождённая в молчании и объятиях, умирала в объятиях и молчании. Однажды я осмелилась спросить Жана: «О чём ты думаешь?» – но тут же начала смеяться и говорить, не дожидаясь его ответа, одинаково боясь лжи и признания. Я чувствовала его рядом с собой, но трепещущим и выскальзывающим, как птица, уже поднявшая крылья для полёта. Однако каждая ночь возвращала его мне, и ни разу я не нашла в себе решимости отказать ему в его желании, которое требовало полной темноты, и подражала его мрачному и упорному молчанию. После яростной любовной схватки он вырывал наконец у меня негодующее наслаждение, а потом с вызовом покидал меня. Пропасть между нами, еженощно углубляющаяся под тяжестью наших тел, разделяла нас и на остаток дня.
Я дошла до того, что с восхищением разглядывала запечатанные письма, которые приносил ему почтальон, и думала о том, что есть же на свете люди, находящиеся с ним в переписке, обменивающиеся идеями, планами, говорящие с ним о будущем… Люди, которые, хоть и повстречали его на своём пути, познакомились с ним, полюбили его, продолжали после этого жить по-прежнему, думать и вести себя нормально… Я завидовала даже Майе, которая так легко от него освободилась. Я отрицала, мысленно проследив в обратном направлении наш короткий и крутой путь, что может родиться здоровая и сильная любовь после нескольких недель фальшивого товарищества и поцелуя в затылок, – и в то же время память о том тяжёлом поцелуе всё ещё гнёт меня вперёд… Но если это любовь, то почему мы не более счастливы, чем есть?..
Прошло время задавать себе этот вопрос. Я не посмела спросить его почему, а ведь, может быть, он это знал… Я не посмела. Он был всего лишь мужчиной, который видел меня обнажённой.
Он ушёл. Сказали ли об этом Майе? Виделись ли они? Она всего-навсего маленькая бедная невинная пророчица. Теперь, когда судьба поставила её на своё место, я думаю о ней строго. Более того, я обвиняю её – её и ей подобных, её и тех, кто был до неё, – я обвиняю их в том, что они были близки с Жаном, который ещё не знал меня, что они формировали его для незнакомки, которая не похожа на меня, к которой он стремится, отшвыривая нас всех… Видится ли он с Майей? От этого вопроса моя кровь не бурлит сильнее, никакая оскорбительная картина не встаёт перед моим внутренним взором: мысль об измене занимает так мало места в моих страданиях… И дело здесь не в моём благородстве или презрении – я чувствую необъяснимую безопасность и убеждена, что между Жаном и мною не стоит никакая реальная женщина. Он ушёл, выведенный из себя, не могущий больше выносить тяжесть нашего молчания, чреватого какими-то тайнами, но мысленно занятый единственно мною. Однако это не оставляет мне никакой надежды, разве что боль моя несколько очищается, разве что избавляет меня от жалких усилий сравнивать, искать и находить в молодой, хорошо сложённой первой встречной основание презирать то немногое, что осталось от моей красоты. Хотя я уже на пути увядания, меня несколько утешает моя привлекательность, но при этом я не ошибаюсь насчёт того, чем могу ещё располагать, а что безнадёжно утрачено. Если бы горе съедало годы, то я была бы уже глубокой старухой. А так, несмотря на бессонницу, на слёзы, которые не всегда удаётся сдержать, на навязчивую идею, отнимающую куда больше сил, нежели слёзы и бессонница, я слежу за своей внешностью, готовая к неожиданному появлению Жана с момента пробуждения до того, как ложусь в постель, и даже Массо ни разу не видел меня разобранной.
Теперь я дорожу обществом моего странного друга. Я подозреваю, что Жан пишет ему, – во всяком случае, что он пишет Жану. Если он теперь уже не посланник, каким бывал прежде, более того, почти посредник, я уверена, что он ещё остался соглядатаем и передаёт Жану мои слова, описывает выражение моего лица, рассказывает, как я элегантно погибаю. Для Массо я каждый вечер воскресаю. Чувство собственного достоинства не позволяет мне показать своё отчаяние, но вместе с тем я всегда почти бессознательно подчёркиваю, что это чувство достоинства брошенной женщины. Я встречаю Массо весело, быть может, даже чересчур. Во время ужина я изображаю добродушие, и тоже, быть может, чересчур, как говорят в театре: «она так старательно изображает естественность» – естественность примадонны, которая, кусая губы и прижимая руки к сердцу, уверяет всех, что у неё всё в порядке и что решительно ничего не случилось.
Комедия… Но если бы я не играла комедию, если бы дала себе волю, Массо застал бы меня на пороге дома бледную, с дрожащими руками, и я бы кричала, захлебываясь: «Вы его видели? Вы говорили с ним? Он спрашивает обо мне?.. Рассказывайте, рассказывайте! Верните его, верните! Пусть он от вас узнает, что я на всё согласна, только бы он вернулся! Скажите ему, что, если он вернётся, я почувствую его приближение, когда он только появится там, в конце улицы. Я это почувствую с той же неотвратимостью, с какой пересохший от засухи лист чует приближение дождя!.. Скажите ему это, но главное, скажите, чтобы он вернулся, потому что я день ото дня слабею и всё внутри меня опустошается, и я боюсь умереть без него!..»
– Здравствуйте, мой дорогой Массо!
– Примите, дорогая госпожа Нере, выражение моего глубокого почтения. Ваш Массо.
– Вот так?
– Да, вот так. Если теперь пишут так, как говорят, то почему же, скажите на милость, не говорить, как пишут? Я поссорился – но это история из моей блестящей юности – с Обернон потому, что, когда писал ей, мне показалось, что я с ней говорю, и моё письмо заканчивалось следующим образом: «Всего доброго, дорогая Обернон, до встречи на следующей неделе». Вас это забавляет?
– Нет, меня смешит ваша шляпа…
Массо весь целиком, от шляпы-канотье до жёлтых ботинок, отражается в зеркале, всегда кажущемся как бы заплесневелым из-за того, что маловато света проникает сквозь слуховое окошко в прихожую, а стены её обиты серо-зелёными холстинами. Я вижу себя, стоящую рядом с ним – как я стояла рядом с Жаном, когда он отправлялся ужинать к своему отцу, – и обрываю свой смех, пока не затихнет боль воспоминания – своего рода судорога, от которой сводит рёбра, словно я погружаюсь в ледяную воду.
– А что уж такого особенного в моей шляпе?
Не знаю. Обычное канотье из соломки. Когда эту шляпу держишь в руках, она ничем не отличается от других канотье. А галстук Массо тоже не отличается от других ему подобных, как, впрочем, и его пиджак – самый обычный пиджак, но на нём скромный шевиот, невинная рисовая соломка и дешёвенький шёлк приобретают зловещий характер. Кажется, что стоит Массо утром подать знак, как все эти предметы разом сбегаются к нему: канотье катится колесом, пиджак, прихрамывая, ковыляет на пустых рукавах, а галстук, шипя, приползает, как гусеница.
– Генерал Буланже, – сообщает мне Массо, не отходя от зеркала. – Плохи дела.
Повернувшись ко мне, он снисходит до того, что объясняет, дотронувшись пальцами до своих отёкших щёк:
– Когда я начинаю походить на генерала Буланже, это значит, у меня болит печень.
– Это, верно, из-за жары?
– Да, летняя жара – лето тысяча восемьсот восемьдесят девятого года было в Сайгоне очень тяжёлым.
Массо потирает руки, и я веду его в курительную.
– Не правда ли, здесь очень мило?
Я вру. В курительной зловеще-мрачно из-за прикрытых ставен, из-за того, что нет хозяина, а только брошенная женщина.
– Да, очень мило, – подтверждает Массо садясь. У него особая манера садиться: он присаживается на краешек стула, словно проситель.
– Дни уже становятся короче, – слышу я его голос старой дамы.
Эти его слова прямо швыряют меня, сама не знаю почему, в бездну отчаяния, но я это скрываю.
– Конечно, старина, пора. Ничего нового?
Он долго сморкается, прежде чем мне ответить, и я жду, напряжённая и неподвижная, и твержу про себя: «Подольше, подольше сморкайся… Оставь мне хоть ещё на мгновение сомнение, надежду, что есть что-то новое…» Был бы он очень злым, он смог бы продержать меня в неуверенности весь вечер и, только уходя, сказать: «Кое-что новое есть».
Но он не злой. Он тут же отвечает:
– Нет, ничего нового. А у вас тоже нет новостей?
– Нет.
И я чуть слышно добавляю:
– Почему?
Массо повыше задирает своё плечо писца в знак бессилия, и тогда я решаюсь продолжить:
– Всё-таки он мог бы… Хотя бы из простой вежливости… И даже из простой невежливости… – да, мне так больше нравится – мне пишет: «Чёрт возьми, мне всё это надоело!» Одним словом, Массо, я всё же не такая женщина… Я хочу сказать, вы понимаете…
– Нет, не понимаю, – говорит Массо.
Я подыскиваю слова, словно иностранка, я не хочу выдать свою сердечную боль.
– Я хочу сказать… Меня не в чем было упрекнуть…
– Было в чём, – говорит Массо.
– Ну знаете!.. Если бы ещё речь шла о такой женщине… О такой женщине, как Майя…
– Речь идёт 6 такой женщине, как Майя, – говорит Массо.
Я открываю было рот, чтобы выразить свой гневный протест, но поза Массо не позволяет мне что-либо сказать. Он сидит, как факир, его маленькая пергаментная ручка то ли благословляет, то ли приказывает, и до меня доносится дыхание человека, который почти никогда не ест.
– Я буду говорить! Я буду изрекать бессмертные истины! Мне так хочется сочинить апологию, что прямо судорогой сводит бока. Жил некогда человек в долине Буа-Коломб, и вот однажды он возвращался домой. Когда он подошёл к своей земле, до него донеслись из дома ужасный шум, крики и бой барабанов. Тогда, переступая родной порог, он произнёс проклятие и заткнул себе уши. Тут ему шибанула в нос чудовищная вонь – он снова прокричал проклятие и зажал ноздри. Потом он кликнул жену. «Фаб, – сказал он, не отнимая пальцев от ноздрей. – Кажи мне, что за хужасный фапах и жум?» Жена усмехнулась и ответила: «Запах – это от превосходного сыра, который ещё не созрел, а шум – это твой сын, который играет в войну, выбивая дробь и трубя». Тогда человек этот восхвалил Аллаха и воскликнул: «Воистину мой сын рождён воином, чтобы всегда бить в барабан и могуче дуть в трубу! А что до сыра, то даже амброзия не сравнится с ним, а от его чудного аромата я просто исхожу слюной!» Потом человек сел за стол, отрезал ломоть сыра и поцеловал сына.
– А потом что было?
– На этом апология кончается.
– Смысл тёмен, Массо!
– Если бы он не был тёмен, то это не была бы апология. Тёмен, запятая, тире – но доступен даже женскому уму. Жан – это шумящий сын, Жан – это вонючий сыр.
– Вы хотите этим сказать, что я должна восхищаться всем, что исходит от него, только потому, что это от него. Больно уж всё это просто получается.
Наш восточный сказитель, украсивший себя теперь медной скрепкой для бумаг, нацепив её на нос, покачал головой:
– Не так-то уж просто, как вам кажется. Я пытаюсь при помощи барабана и сыра «пон-левек» объяснить вам, что есть любовь.
– Я вас ждала!
– Да вы меня и теперь ещё ждёте. И вы могли меня ещё долго ждать, если моей слабостью не был бы интерес к Жану. Вы его любите, женщина-как-Майя?
– Я… Да, Массо.
– А он, он вас любит, простите, он вас любил. Ладно-ладно, давайте без нервов. Дитя моё, учтите, что врач – это как исповедник, а исповедник – это как врач. Впрочем, я не врач и не исповедник. Ха-ха-ха! Продолжим. Вы ему писали?
– Конечно. Очень мало. Один-единственный раз, но большое письмо, в том месяце…
– И каково же содержание вашего досточтимого письма?
Я переносила этот допрос с напряжённой покорностью собаки, которой перевязывают больную лапу.
– Уже не помню, Массо. Что я несчастна… Что удивлена его поведением… Что он не должен был бы так со мной обращаться… Что… что у женщин тоже есть чувство достоинства…
– Хватит, хватит! – застонал Массо. – Я был в этом уверен!
Он разгибает тощие ноги, встаёт, завязывает развязавшийся на ботинке шнурок и холодно говорит мне:
– Можете издохнуть. Даю вам на это время.
Он делает три шага к двери, однако потом возвращается.
– Ваше несчастье, ваше горе, ваше одиночество! Ваше достоинство! Во-первых, достоинство – это недостаток мужчин! Вы, вы, вечно вы! Требовать, стонать, дуться, переживать и скрывать под всем этим ваш вечный порок: неспособность чем-либо обладать! Пф! И даже фи! Требовать, и всегда немного одновременно!
Я не смогла не улыбнуться.
– Немножко?.. Но почему? Я лично согласна и на всё! Не моя вина, если…
Мой домашний чёрт прерывает меня, разрубая воздух своей фанерной ладонью:
– Ваша, ваша вина! Опять вы! Я сказал – немного, потому что вы хотите от Жана только его любви. И не говорите, что это «уже немало»! Вы тратите всё своё время, чтобы сталкиваться лбами. Эта позиция пригодна только для лёгкой связи, не больше! А вот войти в его душу и пустить его в свою – это уже совсем другой коленкор. Да, принять его в себя, нести в себе так, чтобы все его проявления, переливы всех его состояний – веселья, гнева, страдания, чувственности, вместо того чтобы трогать вас в той же мере, в какой они трогают других людей, вы могли бы ощущать как свои собственные… Скажите, тупое выражение вашего лица – это что, знак понимания?
– Да… Подождите, Массо, я хочу это сказать по-другому: я нахожусь в тени, но мне на это наплевать, если я несу фонарь. Я вас верно поняла?
– Грубо и невыразительно говоря – да.
– Но… А он, Массо?
– Что он?
– Да вернёт ли он мне это той же монетой? Должен ли и он нести меня в себе, как вы изволили выразиться, до такой степени, чтобы, застав меня в объятиях другого мужчины, восклицать: «Ах, как моё отражение хорошо умеет любить!»
– А вот это вас решительно не касается. Какое вам до этого дело? Как будто женская любовь имеет что-то общее с нашей любовью!..
«Наша любовь…» Он укачивает себя, упираясь одной ногой в пол, словно общипанная цапля. Он говорит о любви с пафосом и категоричностью, это странное существо, так мало похожее на мужчину…
– Если любовь, которую вы испытываете к своему любовнику, его хоть в какой-то степени к чему-то обязывает, это уже не настоящая любовь.
– То, что вы от меня требуете, Массо, это материнское чувство.
– Нет, – возражает Массо. – Материнский инстинкт не прогрессирует. Он рождается разом, во всём своём объёме, во всеоружии, готовый пролить кровь. В то время как любви любовников дано тяготеть к совершенству.
– Это что, совет?
– Нет, всего лишь мнение. И даже не надежда.
– Не сомневаюсь, что вам нечасто доводилось встречать эту идеальную самку.
– Вы правы, нечасто. Один-единственный раз. И я на ней тотчас же женился. Это была моя прислуга.
– Давайте споём куплетик о «благородстве обездоленных»!
– Сами сочиняйте, мой дорогой друг, здесь нужны простые рифмы. И молите Бога, чтобы я не ошибся, когда счёл вас и Жана достаточно «убогими», чтобы создать дружную пару. Вы, к счастью, не гениальны, а фотография Жана никогда не будет напечатана в газете. Вы мечтаете быть послушной при условии, что вам разрешат ходить одной по улицам и покупать галантерею в Лувре. Он любит командовать, особенно когда защищён. И наконец, вы оба были – как мне жалко употреблять здесь прошедшее время – достаточно обыденны, чтобы зачать великую любовь…
Великая любовь… Слова, которые он сказал, – это слова мужчины. Это умно, пожалуй, даже чересчур умно для меня. Вместо того чтобы продолжить его мысль в том направлении, которое он предложил, я упрямо стараюсь извлечь рецепт поведения из его речи, я искажаю её, пытаясь обнаружить в ней скрытую волю моего любовника, я низвожу Массо к его жалкой роли посланника и, вместо того чтобы оценить по достоинству его роскошную концепцию женской самоотверженности, вижу в ней лишь способ понравиться.
Солнце спускается к морю, усеянному пятнами островов. После покоса на тощем лугу, который завершается пляжем, трава не выросла, и засушливая осень сжигает молодой лес. Все яркие краски пейзажа: зелень луга, интенсивно розовый, синий и густолиловый – собрались в море и в отражающемся в нём чистом небе.
Здоровая усталость удержала меня после обеда на террасе. Ветер, дующий с берега, приносит запахи лугов и гари сжигаемых сорняков. Жан скоро вернётся, он принесёт какую-нибудь добычу. Несмотря на линялую куртку, у него всё же будет несколько фатовской вид, вызывающий усмешку, – эдакий шикарный охотник. Мне будет дарована в виде приветствия улыбка, а также быстрый взгляд, которым он окинет меня и всё вокруг, чтобы обнаружить какой-нибудь беспорядок – вот, скажем, это крошечное кофейное пятнышко на моём белом платье или охапку безвременников, которые я сорвала утром, и они до сих пор вянут на скамейке…
То, что вот уже два месяца, как мы снова живём вместе, – это просто чудо, и я склоняюсь перед ним, как и положено склоняться перед чудом, не пытаясь найти ему объяснения. Когда я была ребёнком, мне подарили голубенькую древесную лягушку и, когда я спросила: «Почему же она голубая, а не зелёная?» – ответили: «Никто не знает, это чудо…»
Он не хотел ко мне возвращаться, и я чувствовала, что потихоньку отмираю. Я себя оплакивала. Я говорила себе: «Какая жалость!.. Лучше бы кто-нибудь погиб вместо меня, во мне ещё бродит столько сил… Вот она я, этот мозг под этим лбом, всё в лучшем виде, всё во мне может быть ещё полезным и счастливым…»
Однако наступил день, когда моя печаль вошла в период неумолимой активности и поступать разумно стало выше моих сил. Вновь увидеть Жана – сделать всё, что он пожелает, чтобы его увидеть, – употребить любые средства, отбросить всякий дальний расчёт, исходить только из самого насущного, того, что можно делать немедленно. План, на котором я остановилась, был весьма хитроумен: ложный отъезд, а потом терпеливое ожидание его возвращения.
Телефонный звонок чуть было не провалил этот план, потому что я не смогла устоять, зная, что он вернулся домой, перед потребностью услышать его голос. Стоя в телефонной кабинке, в гостинице, я слышала, как он кричал: «Алло!.. Ну что там?.. Кто у аппарата?..» Но я молчала, я затаила дыхание, словно моё малейшее движение могло бы меня погубить… Он, видимо, почувствовал, что это я, потому что тембр его голоса вдруг изменился. Я услышала, как он сказал более низким голосом: «Алло, послушайте… Алло… Алло…» Потом он неуверенно добавил: «Уж не…» – и умолк. И я услышала щелчок крайне бережно повешенной трубки!..
Соучастием Массо и – менее бескорыстным – слуги Виктора я располагала. И вот однажды вечером я поджидала Жана у него в доме, а утром этого дня моё письмо, отправленное Брагом, сообщало Жану, что я уехала в Гавр и возвращаюсь к старой профессии.
Я ждала его, погасив повсюду свет, в нашей спальне, освещённой газовым фонарём с бульвара Бертье. Я слышала, как протекают часы, не испытывая ни усталости, ни страха, даже страха перед тем, что моя романтическая засада делает меня смешной. Конечно, если бы я написала Жану: «Мне необходимо с тобой поговорить», он встретился бы со мной на следующий же день, но я хотела увидеть не такого Жана.
Я ждала, наслаждаясь неведомым мне доселе покоем, словно я дошла до конца своей жизни. Я ждала, сидя в темноте. Запах розы, которую я засунула себе за пояс, бил мне в ноздри, не встречая никакого сопротивления в недвижимом воздухе. Я слышала каждую машину, которая проезжала мимо дома, и шаги каждого проходящего прохожего. Всякий раз я говорила себе спокойно: «Это не он». В середине ночи я вдруг услышала медленные шаги, приближающиеся к дому, и моё невозмутимое спокойствие вдруг превратилось в своего рода безумие. Немедленно удрать, закричать, побежать вниз отворить дверь, а потом спрятаться на чердаке – я едва не проделала всё это. Однако когда тот же медленный шаг донёсся до меня с лестницы, я всё ещё сидела на том же месте. Я подумала, как во сне, что он может испугаться, войдя в комнату, и, прежде чем открылась дверь, произнесла довольно громко: «Жан!»
Он наверняка услышал, как я его окликнула, но не ответил. Он вошёл в комнату, прикрыл за собой дверь, зажёг свет – мы стояли друг против друга с вытянутыми вперёд руками чуть пониже уровня глаз.
– Ты здесь? – произнёс он после некоторого молчания.
– Да, здесь. Я тебя окликнула, чтобы ты не очень удивился, увидев меня.
– Выходит, это ловушка?
Он тихо рассмеялся, а я потеряла всякую надежду, потому что у него был такой любезный вид, он держался так уверенно, с такой лёгкостью, будто пришёл с визитом… Он показался мне выше ростом, более красивым, но менее молодым, чем был в моей памяти. Насколько я помню, мысли мои кружились в тот миг в трёх разных планах: прежде всего – вот он, передо мной. Потом: до исхода ночи я узнаю свою судьбу. И наконец: на лбу у него две бороздки морщин, он уже не ребёнок, не жестокий подросток, он – мужчина, существо одной со мной породы и возраста, между нами должны быть способы общения, возможность что-то обсудить по-человечески…
Я тоже улыбнулась и сказала:
– Конечно! Ты же знаешь моё давнее пристрастие к театральным сценам, куда мне от него деться?
Какая-то тень поползла с его лба, тут же захватив всё лицо, тень животная, предвестница страшного гнева, но он вовремя овладел собой и предложил мне сесть. И так как он протянул ко мне руку, я взяла её в свою, весело пожала:
– Здравствуй, Жан.
– Здравствуй…
Я прочла на его лице выражение глубокой растерянности, но вместе с тем и облегчение оттого, что он застал меня весёлой, без слёз, без драматических криков и угроз. Я была настолько сосредоточена на том, как себя вести, что мне показалось – я его больше не люблю. Я совершенно перестала страдать. Он сел и провёл рукой по лбу.
– У тебя усталый вид, Жан.
– Да, представь себе, я теперь работаю. Мой отец уже не сможет вернуться в свой кабинет. А у меня ещё нет ни привычки работать, ни охоты… не знаю, зачем я тебе всё это рассказываю: ведь тебя это решительно не интересует…
Он говорил нарочито раскованно, но тем не менее в его словах звучал упрёк, уже упрёк, наконец-то! Наконец-то зазвучала прелюдия к объяснению любовников… Я не упускаю случая ответить и отвечаю:
– Да нет, Жан, меня это интересует. Даже очень интересует, как и всё, что касается тебя.
Я чувствую, что перестаралась, он понял, на какую дорогу я его вывожу, и не стал настаивать. После этого моего прокола мы не меньше четверти часа говорили друг другу несущественные любезности и банальности. Ночное время, резкий свет из комнаты через распахнутое окно, падающий на обожжённое молнией дерево на бульваре, а главное, наши задние мысли придавали этому идиотскому диалогу между господином во фраке и дамой в уличном костюме трагический колорит. Я не уставала. «Достоинство – это недостаток мужчины», и Жан первый проявил признаки утомлённости. Он нервно зевнул, и этот зевок не только не оскорбил меня, а напротив, вызвал у меня образ такого Жана, каким я обычно пренебрегала: серьёзного, занятого работой, склонившего свою крепкую шею гурмана над листком, исписанным цифрами… Крепкая шея гурмана… Волна яростной чувственности поднялась вдруг во мне из самой глубины моего нутра – кровь прилила к горлу так, что я стала кашлять, и забилась в ушах, словно тамбурин на танцах, эдакое страстное движение животного, призывающего своего самца… Я знаю, что я тогда встала, причём так резко, что опрокинула стул, на котором сидела, и выкрикнула в бешенстве:
– Ну и что?
Он тоже вскочил и, увидев выражение моего лица, стал следить за моими руками.
– Ошибаешься, – сказала я кратко. – Тебе нечего бояться. Я вот что хотела сказать: «Ну что, кончилось? Кончилось то, что было между нами?»
Он мрачно глядел на меня и злился на то, что я заставляю его ответить.
– Что кончено? Что кончено? С тебя не хватит этой жизни? Ты считаешь, что мы хорошо жили? Тебе хочется снова начать?..
Благодаря логической перестановке наши позиции переменились: он стал тем, кто говорит, кто жалуется и кто обвиняет, а мне остаётся только слушать, я отвечала ему только про себя, зато от всего сердца: «Начать с начала, о, конечно, начать с начала что угодно, лишь бы это было с тобой…»
Но вслух я только пролепетала: «Но, Жан…» – чтобы он продолжал, чтобы он продолжил с ещё большей силой, как река, преграждённая чересчур слабой запрудой.
Он стал расхаживать по комнате.
– Снова начать такую жизнь… Прошу тебя простить меня за то зло, которое я тебе причинил, – сказал он весьма язвительно, – но, я полагаю, мы квиты.
– Ты на меня сердишься, Жан?
Он остановился, словно желая бросить мне вызов:
– Да, сержусь. Не могу этого отрицать. Не знаю, прав ли я или нет, но я на тебя сержусь.
– Мой дорогой…
Я пробормотала это еле слышно, но он услышал. Чувство благодарности так переполнило меня, что я едва устояла на ногах, – раз он таит на меня обиду, значит, я не стала для него чужой. Нежная и рабская благодарность жён, которых мужья «учат» рукоприкладством, – ведь Майя расцветала после того, как Жан её бил!.. Он, в свою очередь, решил внести ясность и сказал:
– Нет. Ты свободна. Но знай, если это может удовлетворить твоё «женское достоинство», как ты это назвала в своём письме, так вот знай, что ты – самое ужасное воспоминание моей любовной жизни.
Я снова села, оперлась головой о знакомый шёлк кресла и стала тихо повторять, закрыв глаза:
– Да… говори… говори… Он пожал плечами:
– «Говори!» Давно пора! Восемь месяцев высокомерного молчания, ты приходишь ко мне и твердишь: «âîâîôè!»… à ôû oâàëèëànu, âcaoî слышишь, как я думаю, так зачем тебе надо, чтобы я говорил?
– О, Жан, слышу, как ты думаешь… Я могла сказать это только ради игры, но…
– Не ври! – крикнул он. – Ты врёшь! Ты слышала, как я думаю, или, вернее, ты приписывала мне мысли, соответствующие тому фальшивому представлению, которое у тебя сложилось обо мне, вернее, не обо мне, а о мужчине, о мужчине, твоём враге, дьяволе во плоти…
– Да… говори…
– Всё лучшее, что я тебе дал, ты использовала для того, чтобы наиболее изощрённо унижать меня, ты наделила меня качествами хама и недостатками идиота… А-а! Ты полагала, что из нас двоих только ты одна слышишь, что думает другой?..
Он отошёл к столу, чтобы налить себе стакан воды, и я услышала, как горло графина стучит о стакан… Я не двигалась, не открывала глаз, так я боялась прервать его… Но к счастью, он ещё не всё сказал:
– И даже если бы твоё тщеславие прорицательницы тебе не изменяло, даже если бы я и вправду был тем сомнительным господином, с которым ты связала раз и навсегда свою судьбу, подслушивать, что я думаю, – это постоянное оскорбление моему покою, моей безопасности мыслящего существа, той священной недостижимости моего внутреннего мира, на которую я имею право и которую ты не должна нарушать!..
Я по-прежнему не открывала глаз и только едва заметно кивала головой в знак внутреннего одобрения: «Хорошо. Очень хорошо». И к тому же он сказал: «Ты должна», а не «ты должна была»…
Он умолк, а я продолжала им любоваться, как он ходил взад и вперёд по комнате и дрожал от нескрываемого гнева, которым я начинала гордиться… «Принять его в себя, нести в себе так, чтобы все его проявления, переливы всех его состояний, вместо того чтобы трогать вас в той же мере, как других людей…»
– Но, Жан… Почему ты не защищался, не пытался объяснить… Почему ты не раскрылся?..
Он двинулся ко мне так резко, словно хотел меня ударить:
– Объясняться! Защищаться! Слова судьи после молчания судьи… но прежде всего, почему я всегда должен что-то делать, а не ты?
Я наслаждалась этими словами упрямого ребёнка, я наслаждалась тем, что нахожусь здесь, в жаркой словесной схватке любовников, которая, похоже, продлится ещё долго…
– Это справедливо, – честно признала я.
Он присел на маленький диванчик, и на его лице лежала печать большой усталости. С той минуты, как он меня увидел, у него не было ни одного чувственного порыва, он не пытался сорвать ни одного гневного поцелуя, ставшего со временем единственным способом нашего общения… Словно ему в голову пришли те же мысли, он добавил с безнадёжностью в голосе:
– Вместе спать – это же так легко…
Я не обиделась на то, что он считал себя ни в чём не виноватым, выходило, что он ничего не требует от женщины, кроме женского тепла и живого прибежища в виде сомкнутых объятий… Но так вести себя я не смела, мне даже казалось, что никогда уже не осмелюсь…
– Правда, что ты уезжаешь? – спросил он тем же усталым голосом, – что ты возвращаешься в театр к своей старой профессии? Я покачала головой.
– Нет, Жан, это неправда, это ещё одна ложь. У меня больше нет профессии.
И я продолжала про себя свой монолог с печальной истовостью: «У меня больше нет профессии. Её нет, зато есть цель, вот она, передо мною: этот человек, который меня больше не хочет и которого я люблю. Настичь его, дрожать, что он снова ускользнёт, видеть, как он ускользает, и снова терпеливо его настигать, чтобы снова завладеть им. Вот отныне моя профессия. Всё, что я любила до него, будет мне тогда возвращено – яркое солнце, музыка, шёпот листьев, застенчивые и страстные голоса домашних животных и гордое молчание страдающих людей – всё это мне будет возвращено, но только через него, только если я им завладею… Я вижу его так близко от себя, так плотно прильнувшего ко мне с первой нашей встречи, и я подумала, что владею им. Я так безумно желала переступить через него, принимая за препятствие ограниченность своего мира… Мне думается, что многие женщины бродят вокруг да около, как я, прежде чем вновь занять своё истинное место, которое всегда по эту сторону мужчины…»








