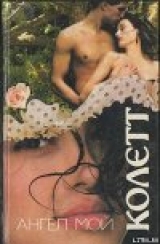
Текст книги "Рождение дня"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Она шла к своим невинным целям с каким-то возрастающим беспокойством. Она вставала рано, потом ещё раньше, потом и того раньше. Она хотела, чтобы мир принадлежал ей, причём мир пустынный, в форме маленького загона, беседки из виноградных лоз и покатой крыши. Ей хотелось девственных джунглей, пусть хотя бы и ограниченных ласточкой, кошкой, пчёлами, большим пауком на своём кружевном, посеребрённом ночной влагой колесе. Её мечтание убеждённой исследовательницы разрушалось от стука соседской ставни, хлопнувшей по стене, и каждый день в тот час, когда начинает казаться, что холодная роса звонкими неровными каплями падает из клюва дроздов, оживало вновь. Она покидала свою постель в шесть часов, потом в пять часов, а к концу её жизни маленькая красная лампа пробуждалась зимой задолго до того, как зовущий к заутрене колокол начинал сотрясать чёрный воздух. В эти, ещё ночные, часы моя мать пела и замолкала тогда, когда её могли услышать. Так же как и жаворонок, который поднимается к самой светлой, наименее населённой части неба. Моя мать всё поднималась и поднималась по часовой лестнице, стараясь завладеть началом начал… Я знаю, что это такое, подобное опьянение. Однако она, она подстерегала горизонтальный, красный луч и бледный цвет серы, который предвещает появление красного луча; она хотела видеть влажное крыло, которое, как руку, вытягивает первая пчела. От летнего ветерка, что рождается перед приближением солнца, она получала свой первый букет ароматов акации и дровяного дыма; раньше всех отвечала на постукивание копыта и негромкое ржание лошади в конюшне по соседству; раскалывала пальцем в ведре на колодце первый, тончайший диск ледяного зеркала, в котором осенним утром отражалась она одна…
Как бы я хотела предложить этому твёрдому и выпуклому персту, способному отщипывать черешки, собирать душистый лист, соскабливать зелёную тлю и вопрошать спящие в земле посевы, как бы я хотела предложить ему то, что ещё недавно было моим собственным зеркалом: нежное, хотя и с какой-то едва заметной мужской грубоватостью лицо, которое мне возвращало мой улучшенный образ! Я бы сказала своей матери: «Посмотри. Посмотри, что я делаю. Посмотри, чего мне это стоит. Стоит ли это того, чтобы я надевала мой оклеветанный маскарадный костюм, который позволяет мне втайне поддерживать своим дыханием ту жертву, из которой, как кажется со стороны, я пью соки. Стоит ли это того, чтобы, отвернувшись от утренних зорь, которые мы с тобой так любим, я уделяла столько внимания векам, ожидая звёздных восходов от их ослепительного блеска. Вглядись и оцени лучше меня самой моё подрагивающее творение, которое я устала созерцать. Ну приготовь же, садовница, свой огрубелый перст!..» Однако было уже слишком поздно. Та, которой я признавалась во всём, к тому времени уже обрела свои вечные утренние сумерки. Её суд на нами, увы, был бы недвусмыслен в своей небесной, не ведающей гнева жестокости: «Отторгни, дочь, свой чудовищный черенок, свой привой, который хочет цвести только за твой счёт. Это же ведь омела. Уверяю тебя, это омела. Я вовсе не говорю тебе, что привечать омелу дурно, потому что зло и добро могут одинаково и цвести, и плодоносить. Только…»
Когда я пытаюсь сочинить за неё то, что она могла бы мне сказать, то всегда дохожу до места, где у меня перестаёт получаться. Мне не хватает слов, особенно главных аргументов: бранных либо неожиданно снисходительных, в равной степени пленительных и лёгких, которые, отделяясь от неё, медленно достигали моей тины, мягко в неё погружались и так же медленно вновь всплывали. Они всплывают во мне сейчас, и порой их находят прекрасными. Однако я отлично понимаю, что хотя они и узнаваемы, но всё же искажены в соответствии с моим личным кодом, из-за моего малого бескорыстия, моего сдержанного великодушия и моей чувственности, у которой, слава богу, глаза всегда были больше, чем чрево.
У нас обеих было по два мужа. Только если оба мои мужа – вы представляете себе мою радость – живы и поныне, то моя мать дважды оставалась вдовой. Верная по своей природе из-за нежности, долга, гордости, она омрачилась при моём первом разводе, ещё больше при моём втором браке, причём давала этому весьма своеобразное объяснение. «Я осуждаю не столько развод, – говорила она, – сколько брак. Мне кажется, что всё было бы лучше, чем брак, только, правда, так не получается». Я смеялась и пыталась ей доказывать, что она сама дважды послужила мне примером. «Так было нужно, – отвечала она. – Я-то ведь из одной с ним деревни. А вот ты, ну что ты будешь делать с таким количеством мужей? К ним привыкаешь, а потом без них уже и не обойтись».
– Но, мама, а что бы ты сделала на моём месте?
– Наверняка какую-нибудь глупость. Ведь вышла же я замуж за твоего отца…
Если она не осмеливалась говорить, какое место он занимал в её сердце, то понять это, уже после того как он навсегда её покинул, позволили мне её письма и ещё – её приступ рыданий на следующий день после похорон моего отца. В тот день мы с ней приводили в порядок ящики секретера из жёлтой туи, где она обнаружила письма, послужной список Жюля-Жозефа Колетта, капитана первого полка зуавов, и шестьсот франков золотом – всё, что осталось от недвижимой собственности, от растаявшей собственности Сидони Ландуа… Моя мать, которая стойко, без признаков слабости, разбирала реликвии, наткнулась на эту горсть золота, вскрикнула и залилась слезами: «Ах! милый Колетт! неделю назад, когда он ещё мог говорить, он мне сказал, что оставил лишь четыреста франков!» Она рыдала от благодарности, и в тот день я начала сомневаться, любила ли я когда-нибудь настоящей любовью… Нет, естественно, такая великая женщина не могла совершать те же «глупости», что и я, и она первая отбивала у меня охоту ей подражать:
– Тебе что, действительно так нравится этот господин X.?
– Но, мама, я ведь люблю его!
– Да, да, любишь… Конечно, ты его любишь…
Она снова задумывалась, делая над собой усилие, чтобы не произнести того, что ей подсказывала её небесная жестокость, а потом снова восклицала:
– Нет! и всё же я недовольна!
Я притворялась скромницей, опускала глаза, стараясь удержать образ прекрасного, умного мужчины, которому многие завидовали, имеющего совершенно блестящие перспективы, и кротко отвечала:
– Тебе трудно угодить…
– Нет, я недовольна… Мне нравился больше тот, другой, молодой человек, которого ты сейчас просто ровняешь с землёй…
– О! мама!.. Он же дурак!
– Вот-вот, дурак… Именно…
Я ещё и сейчас помню, как она наклоняла голову, прищуривала свои серые глаза для созерцания предстающего в выгодном свете, ослепительного образа «дурака»… А она добавляла:
– Сколько бы ты, Киска, написала прекрасных вещей с дураком… А с этим у тебя только и будет занятий, что отдавать ему всё лучшее, что у тебя есть. А в довершение всего, понимаешь ты это, он сделает тебя несчастной. Это самое вероятное…
Я смеялась от всего сердца:
– Кассандра!
– Да-да, Кассандра… А если бы я ещё рассказала тебе обо всём, что предвижу…
Её серые, прищуренные глаза читали вдалеке:
– К счастью, ты не слишком в опасности… Тогда я её не понимала. Потом, наверное, она бы мне объяснила. Теперь я понимаю её двусмысленное выражение «ты не в опасности», которое относилось не только к риску оказаться жертвой несчастного случая. В её понимании я уже преодолела то, что она называла «худшим в жизни женщины – первого мужчину». Умирают только из-за него, а после него супружеская жизнь – либо её подделка – становится карьерой. Карьерой, иногда бюрократией, от которой нас ничто не отвлекает и не освобождает, за исключением игры равновесия, которая в заданный час толкает старость к младости, а Ангела к Леа.
Благодаря климактерическому правилу и при условии, что оно не порождает низменной рутины, мы наконец можем возвыситься над тем, что я назову общей массой любовников. Нужно только, чтобы это возвышение брало своё начало в катаклизме и так же умирало, чтобы оно не стало источником отвратительного упорядоченного голода! Ведь любовь, если ей дать волю, тяготеет к структуре наподобие пищеварительного тракта. Она не упускает ни одной возможности утратить свою исключительность, свой аристократизм истязателя.
«Виноград лишь осенью сбирают…» Быть может, так же и в любви. Что за сезон для чувственной самоотверженности, что за передышка в монотонной череде битв равного с равным и что за чудо эта остановка на вершине, где целуются два склона! Виноград лишь осенью сбирают – привилегию кричать об этом имеют лишь те уста, что как высохшую слезу сохранили лиловатую каплю сока, который ещё не стал настоящим вином. Сбор винограда, стремительная радость, поспешность, с которой в прессе, вместе, в один день, смешивают без разбора и зрелые ягоды, и кислый сок незрелого винограда, ритм, оставляющий далеко позади широкий, мечтательный темп жатвы, самое алое из всех удовольствий, песни, хмельные выкрики, затем тишина, покой, сон молодого вина, заточённого в темницу, отныне недосягаемого, вырвавшегося из перепачканных рук, которые, сострадая, его мучили… Я люблю, когда то же самое происходит с сердцами и телами: вложив сполна, я препоручила свои рокочущие, достигшие сейчас апогея силы юной темнице в образе мужчины. Я даю отбой своему огромному сердцу, которое трепещет, лишившись трёх-четырёх своих чудес. Как хорошо оно билось и сражалось! Так… так… сердце… так… спокойно… отдохнём. Ты пренебрегало счастьем, надо отдать тебе должное. Та, к кому я обращаю свой взгляд, Кассандра, которая не осмеливалась предрекать всё, нам, однако, предсказала: мы не рисковали ни погибнуть во славу любви, ни, слава Богу, удовлетвориться каким-нибудь добротным маленьким блаженством.
Пусть же удаляется, уменьшаясь, тот период моей жизни, который видел меня клонящейся целиком в одну сторону подобно тем аллегорическим фигурам фонтана, которых тянут вниз и увлекают за собой распущенные волосы из струй. Я и вправду тратила себя без оглядки – по крайней мере, так мне казалось. Становиться в горделивую позу классической статуи Изобилия, обречённой как заведённая опорожнять свой наполненный всякой всячиной рог, – значит выставлять себя на критическое лицезрение публики, которая вертится вокруг цоколя и оценивает изваяние, как если бы оно и впрямь было живой, в избытке наделённой красотой женщиной: «Гм… Да разве же так бывает, чтобы выкладываться, как она, и не худеть? С чего бы это она так округлилась?..» Людям нравится, когда дающий хиреет, и по-своему они правы! У пеликана на роду не написано ожирение, а стареющая возлюбленная подтверждает своё бескорыстие, лишь тускнея от благородного похудения в пользу молодых, залитых розовым цветом щёк и алых губ. Такое случается редко. Порок задаривания любовника-юноши не в силах разорить женщину, скорее даже наоборот. Давать превращается в нечто вроде невроза, в жестокое наваждение, эгоистическое неистовство. «Вот тебе новый галстук, или чашка горячего молока, или живая часть меня самой, пачка сигарет, беседа, путешествие, поцелуй, совет, опора моих рук, идея. Бери! И не вздумай отказываться, если не желаешь мне погибели от полнокровия. Я не могу давать тебе меньше, так что как-нибудь устраивайся!»
Между ещё совсем молодой матерью и зрелой любовницей возникает соперничество за то, кто больше даст, и это отравляет два женских сердца и порождает визгливую ненависть, лисиную войну, в которой материнские вопли оказываются ни наименее дикими, ни наименее нескромными. Уж эти мне любимые сыновья! Отполированные женскими взглядами, всуе исцелованные выносившей вас самкой, обожаемые ещё с времён глубокой ночи чрева, прелестные избалованные молодые самцы, вы не можете не совершать измены, пусть невольной, когда вы переходите от одной матери к другой. Даже у тебя, моя милая, такой чистой, как я надеялась, от искушающих меня заурядных преступлений, в твоей переписке я натыкаюсь на слова, написанные старательным почерком, который, однако, не способен скрыть от меня прерывистого биения сердца: «Да, мне так же, как и тебе, госпожа X. показалась очень изменившейся и погрустневшей. А поскольку мне известно, что в её личной жизни нет никакой тайны, то можно держать пари, что у её уже взрослого сына появилась первая любовница».
Надежда иссякнуть мгновенно столь привлекательна, что если бы была возможность истратить себя без остатка в несколько мощных порывов, то многие из нас, тех, кому «больше сорока», не преминули бы этим воспользоваться. Я знаю некоторых, чья реакция была бы незамедлительной: «Решено! Коль скоро ада не избежать, то пусть в нём будет один-единственный бес, а затем – покой, пустота, благотворный абсолютный покой, отрешённость…» Сколько их таких, кто искренне надеется, что старость налетит, как коршун, который после долгого и незаметного парения вдруг отрывается от неба и падает вниз? И что же это такое – старость? Это я узнаю. Правда, когда она наступит, я её уже перестану воспринимать. Моя дорогая, милая предшественница, ты ведь ушла, не объяснив мне, что такое старость. Ведь ты мне пишешь: «Не беспокойся по поводу моего так называемого атеросклероза Мне уже лучше, и доказательство тому – стирка, которую я устроила сегодня утром в своей речке. Я была в восторге. Что это за прелесть, плескаться в чистой воде! Кроме того, я ещё попилила дров и наделала из них шесть маленьких вязаночек. И я опять убираю у себя в доме, из чего ты сама можешь сделать вывод, хорошо ли у меня убрано. И потом, мне вообще-то всего семьдесят шесть лет!»
Ты мне писала в тот день, за год до своей смерти, а завитки твоих прописных Б, твоих Т, твоих Г, несущих сзади нечто вроде гордо заломленной шляпки, все сияют радостью. Как же ты была богата в то утро в своём маленьком домишке! На краю сада резвилась маленькая речушка, такая живая, что вмиг уносила всё, что могло бы её обезобразить… Богата оттого, что получила ещё одно новое утро, одержала новую победу над болезнью, богата оттого, что сделала ещё одно дело, от драгоценных россыпей, сверкающих в бегущей воде, от ещё одного перемирия между тобой и всеми твоими невзгодами… Ты стирала в речке бельё, безутешно вздыхала по поводу смерти твоего возлюбленного, говорила «юиии!» зябликам, думала о том, что расскажешь мне, как прошло твоё утро… О собирательница сокровищ!.. То, что коплю я, не столь ценно. Однако всё из собранного, чему суждено остаться, рождается в параллельной, более глубокой рудной жиле с вкраплениями плодородной почвы, и я довольно скоро постигла, что наступает возраст, когда остаётся позади пора горестных слёз, целебных бальзамов, воспалённого дыхания, затухающего у заключённых в её объятия прекрасных, устремлённых в дальние края ног, возраст, когда всё, что случается с женщиной, её лишь обогащает.
Она складывает и инвентаризирует всё вплоть до следов ударов, вплоть до шрамов – шрам, то есть метка, которой у неё не было при рождении, становится приобретением. Когда она вздыхает: «Ах! Сколько Он мне принёс огорчений!», то невольно взвешивает и определяет цену слова, цену даров. Она их берёт одно за другим, наводит в них порядок. По мере накопления сокровищ их количество и время заставляют её немножко от них отстраниться подобно художнику, рассматривающему своё творение. Она отстраняется, возвращается и снова отстраняется, передвигает в соответствующий ряд какую-нибудь скандальную деталь, приближает к свету какое-нибудь скрытое тенью воспоминание. Совершенно неожиданно она вдруг становится беспристрастной… Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я пишу собственный портрет? Терпение: это только моя модель.
Когда мужчина наблюдает за некоторыми домашними приготовлениями, особенно за приготовлением пищи, на его лице можно обнаружить смешанное выражение религиозного благоговения, скуки и ужаса.
Мужчина, как кошка, боится подметания, боится зажжённой плиты, боится мыльной воды, которую гонит по плиткам половая щётка.
Для празднования дня местного святого, который традиционно предоставляет повод для пирушки, Сегонзак, Карко, Режи Жинью и Тереза Дорни должны были спуститься с высот своего холма, чтобы отведать мой традиционный южный обед – салаты, фаршированные морские ежи и пампушки с баклажанами, – обыденность которого обычно скрашивалась жарким из какой-нибудь птицы.
У Вьяля, который живёт в трёхстах метрах от меня в доме, напоминающем покрашенный розовой краской кубик, лицо сегодня утром не выражало счастья – угол террасы загромождал утюг, похожий на жаровню с углями, и мой сосед весь съёжился, как охотничья собака в день свадьбы.
– Тебе, Вьяль, не кажется, что они будут в восторге от моего соуса и моих цыплят? От моих четырёх разрубленных вдоль и отбитых обухом топорика цыплят, которых я посолю, поперчу, освящу чистым оливковым маслом и подам с зелёным ёршиком пебреды, листки и вкус которой останутся на жареном мясе? Взгляни-ка на них, ну не красавцы ли?
И мы стоим, на них смотрим. Вьяль и я. Красавцы… На разорванных суставах изуродованных, ощипанных цыплят ещё оставалось немного розовой крови, и можно было различить форму крыльев, молодую чешую, обувавшую маленькие ножки, которые ещё сегодня утром весело семенили, разгребали… Почему бы тогда не взять и не зажарить ребёнка? Моя тирада иссякла, а Вьяль не произнёс ни слова. Взбивая маслянистый кисловатый соус, я вздыхала, прекрасно понимая, что совсем скоро аромат нежного, исходящего соком на горячих углях мяса широко распахнёт мой желудок… Конечно, не сегодня, но в скором времени, размышляю я, я навсегда откажусь от мяса животных…
– Вьяль, завяжи мне фартук. Спасибо. В будущем году…
– Что вы сделаете в будущем году?
– Стану вегетарианкой. Обмакни-ка кончик пальца в соус. Как? Такой соус да ещё на маленьких нежных цыплятках… И всё же… – только не в этом году, сейчас я слишком хочу есть – и всё же я стану вегетарианкой.
– Почему?
– Это долго объяснять. Когда отмирает одна разновидность каннибальства, то другие уходят сами собой, как блохи с умершего ежа. Подлей мне масла, только тихонько…
Он наклонил свой обнажённый торс, отполированный солнцем и солью до такой степени, что в нём отражался свет. Когда он шевелился, его кожа на пояснице казалась зелёной, а на плечах – голубоватой, совсем как у красильщиков из Феса. Когда я сказала «стоп», он разорвал нить золотистого масла, выпрямился, и на мгновение я положила руку на его грудную клетку, как если бы он был лошадью, которую я хотела поласкать. Он взглянул на мою руку, на которой написан мой возраст, – по правде сказать, она мне несколько лет прибавляет, – но я её не отняла. Это маленькая, добрая, потемневшая рука с несколько растянутой у фаланг и на тыльной стороне кожей. Ногти на ней коротко подстрижены, большой палец вздёрнут наподобие хвоста скорпиона, повсюду рубцы и царапины, и всё-таки я её не стыжусь, даже скорее наоборот. Два изящных ногтя – подарок матери и три гораздо менее красивых – память об отце.
– Купался? Уже проделал свои четыреста метров вдоль берега? Тогда почему, Вьяль, у тебя выражение лица как в конце каникул, хотя сейчас всего только июль?
Малейшее нарушение душевного спокойствия искажает правильные, довольно красивые черты Вьяля. Он не выглядит весёлым, но и грустным его никогда не видели. Я говорю, что он красив, потому что здесь после месяца отдыха все мужчины становятся красивыми – от жары, от моря и от наготы.
– Вьяль, ты что мне принёс с рынка? Ты меня уж извини. У Дивины времени хватило только сбегать за цыплятами…
– Две дыни, пирог с миндальным кремом и персиков. Ранние фиги уже отошли, а другие поспеют только…
– Я знаю это лучше тебя, ведь я на своём винограднике гляжу на них каждый день… Ты прелесть… Сколько я тебе должна?
Он сделал жест, показывающий неосведомлённость, и его плечо с вырисовывающимися на нём мускулами заволновалось, поднимаясь и опускаясь, как грудь при дыхании.
– Забыл? Постой, я посмотрю размер дынь… Этот пирог, такой стоит франков шестнадцать, и здесь два килограмма персиков… Четырнадцать и шестнадцать – тридцать, тридцать и пятнадцать – сорок пять… Я тебе должна что-то около сорока пяти—пятидесяти франков.
– На вас под фартуком купальный костюм? Вы не успели искупаться?
– Нет, успела.
Он непринуждённо лизнул мою руку около плеча.
– Да, правда.
– О! впрочем, это могла быть и соль, оставшаяся со вчерашнего вечера… Давай отдохнём, у нас ещё очень много времени, они все непременно опоздают…
– Конечно… Могу я сделать что-нибудь полезное?
– Да, жениться.
– О!.. Мне тридцать пять лет.
– Вот именно. А это тебя омолодит. Тебе не хватает молодости. Она придёт к тебе с возрастом, как сказал Лабиш. Твоя подружка не вернулась с рынка вместе с тобой? Ты, должно быть, её встретил в порту?
– Мадемуазель Клеман доделывает этюд в Лаванду.
– Я вижу, ты не любишь, когда я её называю твоей подружкой?
– Должен признаться. Когда так говорят, то можно подумать, что она моя любовница, а это совсем не так.
Я рассмеялась, остужая слишком горячие угли в утюге. Мне почти совсем не известна порода, к которой принадлежит этот юноша с его тихой жизнью. Он из поколения Карко, Сегонзака, Леопольда Маршана и Пьера Бенуа, Мак-Орлана, Кокто и Диньимона – тех, о ком я говорю, что видела их «совсем малышками», до и во время войны. Не в ту ли самую пору, когда капризные приливы увольнений приносили их в Париж, я усвоила привычку почти всех их называть на «ты», доверившись выражению их лиц – у одних странно пополневших, у других исхудалых, как у слишком быстро выросших школьников? Нет, это всё только потому, что они молоды, и если они меня приветствуют, широко распахнув объятия и шумно целуя в щёку, то и это тоже только потому, что они молоды… Но если самые нежные из них – те, чьи имена я упомянула, и те, чьи имена я опускаю, – называют меня «мадам» либо шутливо «мой дорогой мэтр», то это потому, что они – это они, а я – это я.
Этот почти обнажённый юноша, который наливал мне сегодня утром масло, тоже воевал. Потом, когда речь зашла о том, чтобы вернуться торговать коврами, он заупрямился, испугавшись, по его словам, отца, ещё достаточно бодрого, рьяного в делах и самодовольного. Иногда у меня возникало желание написать историю потомства, до последней косточки перемолотого челюстями своих предков. Я могла бы, например, начать с госпожи Лермье, которая пришила дочку к своим юбкам и, не позволив ей выйти замуж, превратила свою глупую послушную дочь в нечто вроде ссохшейся сестрицы-близнеца, которая не покидала её ни днём, ни ночью и никогда не жаловалась. Однако как-то раз я поймала взгляд мадемуазель Лермье… Ужас! Ужас!.. Я бы позаимствовала также несколько черт у Альбера X., вдохновенной жертвы, беспокойной тени своей матери, у Фернана 3., мелкого банкира, который тщётно ждёт смерти своего ещё крепкого банкира-отца… Их так много, что в выборе недостатка бы не было. Но ведь Мориак уже написал свою «Прародительницу»… Не будем слишком оплакивать судьбу Вьяля-сына по имени… как там его?
– Вьяль, как тебя зовут?
– Эктор.
Удивившись, я перестала расставлять свои первые в этом сезоне георгины, которые сорвала для стола.
– Эктор? А мне кажется, тебя звали… Валером?
– Правильно, но я хотел убедиться, что вы это почти совсем забыли.
…судьбу Вьяля-сына, который хитрит со своим затянувшимся коммерческим несовершеннолетием и заказывает визитные карточки, где написано «Вьяль, декоратор». К коврам он больше отношения не имеет. У него в Париже маленький скромный магазинчик: наполовину книжки и романтика, а наполовину всякая всячина, как обычно… Любовь к обществу художников заставила Вьяля полюбить и их картины.
Среди бумагомарателей, у которых только и свободы что писать, он позволяет себе роскошь читать, делать эскизы мебели и даже судить нас. Обращаясь к Карко, он заявляет, что тому бы следовало публиковать только стихи, а Сегонзаку – что он мистик. Большой «Деде» без улыбки вежливо отвечает: «Валер! Сукин ты сын, голова у ваус не так плохо устроена, как заудница!» А Карко призывает меня в свидетели: «Колетт, если бы такое мне сказал профессионал, я бы его назвал олухом. Но что я должен отвечать обойщику? Господин меблировальщик, ты преувеличиваешь!»
Помимо сказанного я почти ничего не знаю о моём маслочерпии. Впрочем, а что я знаю о других моих друзьях? Искать дружбу, предлагать её – это в первую очередь значит кричать: «Приют! приют!» Всё остальное в нас наверняка менее привлекательно, чем этот крик, что, однако, никто не торопится доказывать.
Я уверена, что присутствие людей в больших количествах утомляет растения. Садоводческая выставка изнемогает и умирает почти каждый вечер, перенасытившись поклонениями; когда мои друзья ушли, сад мне показался усталым. Возможно, цветы реагируют на звуки голосов. А они у меня столь же непривычны к приёмам, как и я сама.
После ухода гостей кошки выползают из своих убежищ, зевают, потягиваются, как если бы их вытащили из дорожной корзины, обнюхивают следы чужаков. Сонный кот стекает с шелковицы подобно лиане. Его восхитительная подруга выставляет на вновь ей возвращённой террасе свой живот, где в облаке голубоватой шерсти торчит всего один розовый сосок, потому что в этом сезоне она кормила только одного котёнка. Уход посетителей ничего не меняет в повадках брабантской суки, которая за мной наблюдает, наблюдает не переставая, которая никогда не переставала за мной наблюдать и только со смертью перестанет одаривать меня вниманием всех отпущенных ей мгновений. Одна только смерть может положить конец драме её жизни: жить со мной или без меня. Она основательно стареет, она тоже…
Вокруг этих трёх власть имущих представителей животного царства зверушки второй ступени занимают места, определяемые скорее зоологическими, нежели человеческими законами: плоские кошки с близлежащих ферм, собаки моей сторожихи в белом маскарадном наряде после принятия пылевой ванны… «Летом, – говорит Вьяль, – здесь все собаки ходят напудренные».
Моя «компания» разошлась, когда ласточки уже принялись пить, припадая к мойке, и ловить подёнок. Разогретый лучами солнца, которое сейчас садится поздно, послеполуденный воздух утратил свой свежий вкус, и наступила сильная жара. Однако солнцу трудно меня обмануть: я клонюсь к закату вместе с самим днём. И к концу каждого дня кошка, оплетая «восьмёркой» мои лодыжки, приглашает меня праздновать приближение ночи. Эта кошка в моей жизни третья, если считать только тех, которые отличались незаурядным характером, выделяясь среди всех остальных котов и кошек.
Устану ли я когда-нибудь восхищаться животными? Вот эта кошка просто исключительна как незаменимый друг, как безупречный возлюбленный. Откуда только берётся та любовь, которую я встречаю с её стороны? Она сама научилась соразмерять свой шаг с моим, так что соединяющая теперь нас друг с другом невидимая связь как бы подсказывает мысль об ошейнике и поводке. У неё было то и другое, и носила она их с таким видом, как если бы вздыхала: «Наконец-то!» От малейшей озабоченности её малюсенькое, стянутое в кулачок, бесплотное личико с каёмкой голубого дождя вокруг чистого золота глаз сразу вдруг стареет и кажется более бледным. У неё есть и превосходные любовники, и стыдливость, и отвращение к навязчивым контактам. Она больше не будет появляться в моём рассказе. Скажу лишь, что она состоит ещё из молчания, верности, душевных порывов, из лазурной тени на голубой бумаге, которая впитывает в себя всё, что я пишу, из безмолвного хода смоченных серебром лапок…
Потом, после неё, далеко позади неё, в моей иерархии следует кот, её великолепный супруг, весь погружённый в сон от собственной красоты, от своего могущества и застенчивый, как все силачи. За ними идут те, кто летает, ползает, скрежещет: живущий в винограднике ёж, бесчисленные ящерицы, которых кусают ужи, ночная жаба, которая, когда её подберёшь на ладонь и поднимешь к фонарю, роняет в траву два хрустальных крика, спрятавшийся под водорослью краб, голубая тригла с крыльями стрижа, взлетающая с волны… Если же она падает на песок, лишённая чувств и вся покрытая мелкими камешками, я её подбираю, погружаю в воду и плыву рядом, поддерживая ей голову… Однако теперь я уже больше не люблю писать портреты и истории животных. Зияющая пропасть между ними и человеком по-прежнему велика, и заполнить её не под силу даже столетиям. Я кончу тем, что и своих собственных животных тоже стану прятать ото всех, за исключением нескольких друзей, которых они выберут сами. Я покажу котов Филиппу Вертело, кошачью мощь – Вьялю, который влюблён в кошку и который вместе с Альфредом Савуаром утверждает, что я могу вызвать появление кота в таком месте, где котов не бывает… Нельзя одновременно любить и животных, и людей. День ото дня я становлюсь всё более подозрительной для себе подобных. Однако если бы они были подобными мне, то я у них подозрения бы не вызывала…
«Когда я захожу в комнату, где ты одна со своими животными, – говорил мой второй муж, – у меня появляется такое ощущение, что я веду себя бестактно.
В один прекрасный день ты удалишься в джунгли…» Не желая размышлять о том, какая за подобным пророчеством могла прятаться лукавая – или же нетерпеливая – подсказка, не переставая ласкать взором предлагаемую им любезную картину моего будущего, я останавливаюсь на этом, чтобы припомнить глубокую, логичную подозрительность слишком очеловеченного человека. Я останавливаюсь на нём как на приговоре, написанном пальцем человека на лбу, на котором, если отвести в сторону покрывающую его листву волос, человеческое обоняние, возможно, различает запах берлоги, заячьей крови, беличьего живота, молока суки… Человек, остающийся рядом с человеком, имеет основания отпрянуть от существа, выбирающего зверя и улыбающегося от сознания своей страшной невинности. «Твоя чудовищная простота… Твоя полная мрака кротость…» Сколько справедливых слов. С человеческой точки зрения чудовищность начинается как раз со сговора с животным. Разве не называл Марсель Швоб «чудовищами-садистами» старых, иссохших заклинателей с сидящими на них птицами, которых можно было видеть в Тюильри? К тому же если бы был только сговор… А то ведь есть ещё и предпочтение. Об этом я умолчу. Я останавливаюсь также на пороге арен и зверинцев. Дело в том, что коль скоро я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы вкладывать в руки публики в напечатанном виде искажённые куски моей внутренней жизни, то, значит, от меня могут потребовать ещё и того, чтобы я в тот же мешок уложила плотно спрессованными все тайны, касающиеся предпочтения, оказываемого зверям, и – это тоже вопрос особого расположения – ребёнку, которому я дала жизнь. До чего же она очаровательна, когда вот так сосредоточенно и ласково гладит шероховатую голову большущей жабы… Тсс! Однажды я допустила такую оплошность: вывела на первом плане романа героиню в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет… Пусть меня простят: тогда я себе не представляла, что это такое.








