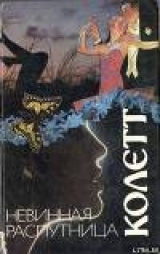
Текст книги "Невинная распутница"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
– Мой бедный ягнёночек, – бормочет он между поцелуями. – Вы ведь не любите меня, правда?
Она отнимает от его плеча всё такое же бледное лицо, глядит на него своими серьёзными глазами:
– Да нет же, люблю… Больше, чем я думала.
– До безумия?
Она лукаво смеётся и, извиваясь подобно ужу, начинает тереться своей нежной кожей о шевиотовой пиджак, о жёсткие металлические пуговицы…
– Никому ещё не удавалось довести меня до безумия.
– Это упрёк?
Он поднимает её, будто куклу, и она чувствует, что её несут в более укромный уголок… Она цепляется за него, неожиданно испугавшись:
– Нет, нет! Прошу вас! Пожалуйста! Только не сейчас!
– Что такое? Бобо? Нездоровится?
Минна, закрыв глаза, шумно дышит, и крохотные груди её подрагивают. Она словно пытается сбросить с себя какую-то тяжесть… Потом она всхлипывает, и в потоке слёз замирает дрожь её тела, которую явственно ощутил Можи. Крупные слёзы повисают светлыми прозрачными каплями на опущенных светлых ресницах, а затем медленно скатываются, не оставляя мокрого следа, по бархатистым щекам…
Впервые в жизни Можи чувствует, что ему не хватает опыта общения с очень молоденькими женщинами…
– Ну, вот это, по крайней мере, оригинально! Деточка моя, не надо! Ах, чёрт возьми! Мне-то что прикажете делать? Знаете, как мы с вами выглядим? Ну будет, будет…
Он несёт её на диван, укладывает, поправляет сорочку, сбившуюся на живот, гладит мягкие спутанные волосы. Его ласковая рука пухленького аббата нежно смахивает слёзы с ресниц, подкладывает подушку под спину этой необыкновенной возлюбленной, завоёванной так легко…
Минна постепенно успокаивается, начинает улыбаться, всё ещё тихонько всхлипывая. Она рассматривает, будто только что пробудилась от сна, залитую солнцем комнату. На фоне зелёных обоев великолепно выглядит мраморный бюст с чувственно напрягшимися мускулами плеч. На спинке стула висит японский халат, превосходя яркой красотой букет цветов…
Глаза Минны переходят от одного необычного предмета на другой, пока не останавливаются на мужчине, сидящем возле неё. Значит, этот толстый Можи с солдафонскими усами годен не только на то, чтобы поглощать, словно губка, виски или же гоняться за юбками? Вот он сидит со сбившимся набок галстуком, донельзя взволнованный! Он некрасив, он немолод, но в этой жизни, лишённой любви, именно благодаря ему Минна впервые испытала счастье – счастье, что тобой дорожат, тебя защищают и утешают..
Она робко, по-дочернему, кладёт свою узенькую ладошку на руку, которая гладила ей волосы, которая поправила её задравшуюся сорочку…
Можи, засопев, произносит громко:
– Ну как, лучше? Мы совсем успокоились?
Она делает знак, что да.
– Немножечко белого портвейна? О, портвейн для младенцев: чистый сахар!
Она неторопливо пьёт маленькими глоточками, тогда как он стоически любуется ею. Прозрачный батист едва прикрывает розовые цветки грудей, а сквозь золотистые оборки можно разглядеть изящный изгиб бедра… Ах, с каким наслаждением он лёг бы рядом, овладел бы этой девочкой с поразительно серьёзными глазами и серебряными волосами! Но он чувствует, какая она хрупкая и уязвимая, как она несчастна и одинока, словно заблудившийся зверёк, как давит на неё мучительная тайна, которую она не хочет открыть.
Она протягивает ему пустой бокал:
– Спасибо. Уже поздно? Вы не сердитесь на меня?
– Нет, дружочек. Я старый господин, лишённый тщеславия и незлопамятный…
– Но… мне хотелось бы вам сказать…
Она рассеянно теребит крючки корсета, начиная застёгивать его:
– Я хотела вам сказать… что… мне было бы так же страшно, возможно даже больше, с любым другим.
– В самом деле? Это правда?
– Ну конечно, правда!
– Вам это тяжело? Что-то не в порядке?
– Нет, но…
– Ну же! Расскажите обо всём старой няньке Можи! Не любите этого, а? Держу пари, что Антуан сплоховал…
– О, это не только из-за Антуана, – уклончиво отвечает Минна.
– Из-за кого-то ещё? Маленький Кудерк?
При этом имени Минна кивает с такой свирепостью, что Можи начинает понимать:
– Он вам противен, этот школяр?
– Это слишком мягко сказано, – холодно говорит она.
Надев подвязки, она решительно встаёт перед своим другом:
– Я с ним спала.
– Вот как! Приятно слышать! – угрюмо произносит Можи.
– Да, я спала с ним. С ним и ещё с тремя, включая Антуана. И ни один из них, ни один, – слышите? – не доставил мне хоть немного того наслаждений, что доводило их самих до изнеможения, до полусмерти; ни один не любил меня настолько, чтобы прочесть разочарование в моих глазах, угадать, как я жажду блаженства, которое они получили от меня!
Она кричит, заламывает руки, бьёт себя в грудь – немного театрально, но трогательно. Можи неотрывно смотрит на неё, слушая с жадностью:
– Значит, никогда… никогда?
– Никогда! – горько повторяет она. – Может быть, я проклята? Или во мне сидит болезнь, которую никто не видит? Или мне попадались только грубые скоты?
Она уже почти одета, только распущенные волосы волнами колышутся по плечам, словно лошадиная грива. Она умоляюще тянет руки к Можи, будто просит подаяние:
– А вы, вы не хотели бы попробовать…
Она не посмела закончить фразу. Её толстый друг вскочил на ноги одним прыжком, как юноша, и схватил её за плечи:
– Сокровище моё! Теперь моя очередь крикнуть вам: «Никогда!» Я стар… Я очень люблю вас, но я стар! Вот он перед вами, толстый Можи с жизнерадостным брюхом, в вечном светлом жилете, Можи при полном параде… Но показать вам скотскую сущность, что таится под светлым жилетом и плиссированным жабо, омрачить ваши воспоминания ещё более горьким разочарованием, ибо то будет похоть без малейшего намёка на изящество или даже молодость, – нет, дорогая, никогда! Особенно теперь, когда я знаю, чего вы жаждете и что оплакиваете! Окажите мне лишь одну милость: верьте, что я не лишён некоторых достоинств… и удирайте! Антуан, наверное, уже волнуется…
Она попыталась улыбнуться с прежним лукавством:
– Волноваться ему вряд ли стоит.
– Это правда, моя Манон; но не все знают, что я стал святым.
– Однако, если бы вы захотели… Сейчас мне уже не страшно…
Можи берёт в горсть все волосы Минны разом; медленно перебирает пряди против света, и ему приятно видеть, как они струятся серебристой волной…
– Я знаю. Но теперь мне было бы трудновато. Она больше не настаивает, проворно закалывает волосы и будто погружается в тёмный омут своих мыслей. Можи поочерёдно протягивает ей маленькие янтарные шпильки, чёрную бархатную ленту, шляпку, перчатки…
И вот она уже такая, какой пришла; вожделение пронзительно кричит в душе толстого мужчины, осыпая его самыми грубыми насмешками… Но Минна, уже готовясь уйти и опираясь одной рукой на зонтик, обращает к нему своё очаровательное и совершенно новое лицо – с глазами, томными от слёз, с ласковым печальным ртом, алеющим от возбуждения. Она обводит прощальным взглядом стены с приглушённой зеленью обоев, окна, за которыми меркнет мандариново-жёлтый свет, японский халат, пламенеющий в сумраке, и говорит:
– Я жалею, что приходится уходить отсюда. Вы не можете знать, как необычно для меня это чувство…
Можи склоняет голову:
– Могу. За всю жизнь я мало чего сделал хорошего и чистого… Оставьте же мне для бутоньерки этот цветок: ваше сожаление.
Взявшись за ручку двери, она еле слышно спрашивает, и в голосе её звучит мольба:
– Что же мне теперь делать?
– Вернуться к Антуану.
– А потом?
– Потом… откуда же мне знать… Ходить пешком, побольше гулять, заниматься спортом и благотворительностью…
– Шить…
– Ну нет! Это вредно для пальцев. Остаются ещё книги…
– И путешествия. Спасибо. Прощайте…
Она подставляет ему щёку, колеблется, чуть приоткрыв губы.
– Что такое, детка?
Она хмурится, ломая благородную чистую линию своих светлых бровей. Ей хочется сказать: «Вы для меня неожиданность – приятная, немного мучительная, чуть смешная и очень печальная неожиданность… Вы не подарили мне сокровище, которое я должна получить и за которым нагнусь даже в грязь; но вы отвлекли мои мысли от него, и я с удивлением узнала, что в тени великой Любви может расцвести совсем не похожая на неё маленькая любовь. Ибо вы меня хотели, но смогли отречься от своего желания. Значит, во мне есть что-то более дорогое для вас, чем даже моя красота?..»
Она устало пожимает плечами в надежде, что Можи поймёт, сколько слабости, неуверенности, но также и признательности таится в пожатии её маленькой руки, обтянутой тонкой перчаткой… Тяжёлые усы вновь касаются горячей щеки… Минна ушла.
Минна почти бежит. Не потому, что уже поздно и Антуан ждёт – подобные соображения недостойны её внимания. Она бежит, ибо в нынешнем состоянии души ей необходимы движение, спешка. Она спускается по проспекту Ваграм, удивляясь, каким синим кажется воздух после жёлтой комнаты. Тротуар усеян раздавленными серёжками японского сумаха, тёплый весенний день переходит в пронзительно-холодный вечер.
Внезапно она ощущает чьё-то присутствие за спиной: кто-то идёт за ней, подходя всё ближе. Она оборачивается и без всякого удивления узнаёт покинутого мальчика, который в Ледовом дворце не посмел…
– А! – только и говорит она.
Интонация более чем понятна Жаку Кудерку, он угадывает смысл этого «А!», которое означает: «Вы? Опять? По какому праву?..» Она стоит перед ним, очень уверенная в себе; волосы её зачёсаны не так гладко, как обычно; одной рукой без перчатки она оправляет складки на своей длинной юбке.
Он уже знает, что надеяться не на что. Ни одно слово жалости не прорвётся сквозь эти плотно сомкнутые губы, а чёрные глаза, в которых пляшут розовые отблески заката, ясно приказывают ему умереть, умереть прямо здесь, немедленно… Он опускает голову, ковыряя асфальт концом своей трости. Он ощущает на себе неумолимый взгляд, безжалостно оценивающий его худобу по тому, как висит на нём пальто, как некрасиво морщат ставшие слишком широкими брюки…
– Минна!
– Что?
– Я шёл за вами.
– Очень хорошо.
– Я знаю, откуда вы идёте.
– И что же?
– Я ужасно страдаю, Минна, и я не могу понять.
– Я не просила вас понимать.
Звук голоса Минны, её холодный тон причиняют Жаку почти физическую боль. Он поднимает голову, и на его лице чахоточного Гавроша появляется умоляющее выражение.
– Минна… Вы не находите, что я изменился?
– Немного!.. Чуточку бледны. Вам нужно вернуться домой: сегодня вечером для вас слишком свежо.
Он с трудом сглатывает слюну, дёрнув кадыком, и кровь внезапно приливает к его щекам, вернув им молодую прозрачность:
– Минна… вы притворяетесь!
– Неужели?
– Вы притворяетесь, что… что так равнодушны ко мне! Я хочу получить объяснение.
– Нет.
– Да! И сейчас же! Вы меня больше не хотите? И не хотите больше быть моей? Вы… вы не любите меня больше?
Оставив в покое юбку, она стоит очень прямо, и руки у неё сжимаются в кулаки. Он вновь видит ужасный взгляд, которым она искушает его и бросает ему вызов.
– Отвечайте же! – шёпотом кричит он.
– Я не люблю вас. Вы мне отвратительны, омерзительно воспоминание о вас, о вашем теле… Вы мне отвратительны!
– Почему?
Она разводит руки в сторону и роняет их жестом недоумённого неведения:
– Не знаю. Уверяю вас, я не знаю почему. В вас есть нечто, что вызывает у меня ярость. Ваше лицо, ваш голос, это как… это хуже, чем оскорбление. Я сама хотела бы знать почему, так как вообще-то это очень странно, если хорошенько подумать…
Она говорит сдержанно, подыскивая слова, чтобы немного смягчить жестокость своего безмерного отвращения, сделать его более понятным, более человечным…
– Вы же спали с этим стариком! – страдальчески восклицает он.
– Каким стариком?
– От которого вы идёте! Вы спали с этим мерзким лысым алкоголиком, этим… этим…
Странная улыбка освещает лицо Минны.
– Не подыскивайте других эпитетов! – прерывает она его. – В этой истории вы также не способны что-либо понять… – Она глубоко вздыхает, отводит взгляд от лица своего врага, и блеск её глаз растворяется в фиолетовом сумраке зимнего вечера… – Мне и самой-то достаточно трудно, – продолжает она, – что-либо здесь понять.
Жак воспринимает её слова совершенно иначе; ему кажется, что это – её признание в позорной страсти, и он стискивает зубы.
– Я убью вас, – тихо говорит он.
Она думает о своём, глядя прямо перед собой.
– Вы слышите меня, Минна?
– Простите… Вы что-то сказали?
Он чувствует, что становится смешон. Дважды такую угрозу не повторяют: её либо исполняют, либо…
– Я убью вас, – произносит он чуть громче. – А потом убью себя.
Лицо Минны вспыхивает свирепой радостью:
– Сейчас же! Немедленно! Убейте себя! На моих глазах! Исчезните из моей жизни, испаритесь, умрите! Как же вы не подумали об этом раньше?
Он смотрит на неё, раскрыв рот. Она толкает его к смерти, как к неизбежной развязке…
– Умереть? Вы в самом деле хотите, чтобы я умер? В самом деле? – спрашивает он с какой-то особенной мягкостью.
– Да! – с полной искренностью кричит Минна. – Вы меня любите, я не люблю вас: разве этим не всё сказано?
Мальчик, которого она обрекает на гибель, похоже, уже почти понял её и пылко восклицает:
– Ах, Минна, это так, это так! После вас все другие женщины…
– Если вы любите меня, для вас не должны существовать другие женщины!..
– Да, Минна, других женщин нет…
– Нельзя изменять любви, правда? Если, конечно, любишь… Живёшь и умираешь одной и той же любовью? Это так? Говорите!
– Да, Минна.
– Подождите, скажите мне ещё вот что: вы полюбили меня внезапно, не зная об этом заранее и не предчувствуя, что это произойдёт? Верно?.. Значит, любовь приходит вот так, крадучись, в назначенный час? Она набрасывается, когда считаешь себя свободным, когда ощущаешь себя ужасно одиноким и свободным?
– О да! – со стоном шепчет он. – Именно так!
– Подождите… Любовь, сказали мне, может прийти в любом возрасте, даже к сухим, холодным старикам, и вдруг озарить пламенем конец жизни, потерявшей уже и желание обрести прежний огонь! Она может прийти – говорите же, раз вы любите! – к существам ущербным и больным, к людям проклятым и отверженным, и… даже ко мне?
Он серьёзно кивает.
– Да услышит вас хоть какой-нибудь бог! – лихорадочно выдыхает она. – А вы, если любите, оставьте меня в покое навсегда!
Она устремляется к улице Вилье, лёгкая и воздушная, словно сбросив тяжесть с плеч. Она машинально совершает привычные движения, пересекая вестибюль, поднимаясь на лифте и звоня в дверь… Прямо перед ней стоит Антуан – он ждал её.
– Откуда ты пришла?
Она щурится на ярком свету и с удивлением разглядывает мужа.
– Я… я прошлась по магазинам.
Она дышит учащённо, обнажённые руки неловко теребят заколку вуали. У неё круги под глазами, взгляд недоумённо и почти боязливо обегает комнату; а из-под снятой шляпки рассыпается в роскошном беспорядке волна волос…
– Минна! – кричит Антуан громовым голосом.
Бледная как мел, она прикрывает лицо поднятыми руками, и благодаря этому жесту открывается неловко повязанная косынка на шее… Безгрешность её предстаёт в облике столь преступного очарования, что Антуан не сомневается более:
– Откуда же ты пришла, Господи!
Какой он высокий, какой чёрный в свете заслонённой им лампы! Тяжёлые плечи горбятся, и Антуан похож сейчас на страшного Лесного человека…
– Ты не желаешь говорить, откуда пришла?
Минна вновь видит себя, обнажённую и безгрешную, на коленях Можи, возвращается памятью к жёлто-зелёной комнате, к сентиментальному жуиру, который не захотел её и услал от себя – печальную, счастливую, умилённую… Рука, не тронувшая ни груди, ни бёдер, вытерла ей слёзы… Нежное и мучительное воспоминание, сродни прохладной горечи морской воды…
– Ты улыбаешься, грязная тварь! Я тебе покажу, как улыбаться!
– Я запрещаю тебе так говорить со мной! Минна, уязвлённая злобными словами, вновь становится собой – холодной, лживой и дерзкой.
– Ты мне запрещаешь? Ты?!
– Вот именно, запрещаю. Я тебе не подгулявшая горничная.
– Ты хуже! С меня довольно этих…
– Если с тебя довольно, то можешь убираться! Минна с распущенными волосами и усталым ртом, чуть расслабленная и согретая теплом камина, выплёскивает во взгляде своих изумительных глаз всю вызывающую ярость непреклонного существа, маленького раздражённого благородного зверька, внешняя хрупкость которого заключает в себе ещё одну ложь… Антуан. сжимая до хруста спинку стула, дышит как лошадь:
– Говори, откуда ты пришла?
– Я ходила по магазинам.
– Ты лжёшь.
Она презрительно пожимает плечами:
– Зачем мне это?
– Откуда ты пришла, в Бога и в мать твою…
– Ты мне надоел. Я иду спать.
– Берегись, Минна!
Вздёрнув подбородок, она роняет насмешливо:
– Беречься? Но я только это и делаю, милый друг. Антуан, набычившись, тычет пальцем в сторону двери:
– Иди в свою комнату! Я знаю, ты не уступишь, и не хочу быть с тобой грубым, пока не узнаю…
Она подчиняется и неторопливо направляется к себе, волоча шлейф длинной юбки. Он напряжённо ждёт, надеясь неизвестно на что, и слышит, как щёлкает, подобно сухому клацанью револьверного затвора, замок в её спальне.
Антуан, отпросившись после полудня у патрона, размашистым шагом поднимается по бульвару Батиньоль. Он ищет улицу Дам… Улица Дам, бюро Камилла. Улица Дам! Случайное совпадение этого названия с горькими мыслями Антуана подстегнуло его воображение. Он представляет себе нечто вроде обширного управления по делам женской измены, нашедшее приют на улице Дам, откуда устремляются на охоту за хитроумными плутовками тысячи и тысячи ищеек…
Улица Дам, дом 117… Довольно жалкое строение. Антуан ощупью пробирается к будке консьержки, угнездившейся на антресолях… Направляет его поиски затхлый запах капусты, которая медленно тушится на огне, благоухая через приоткрытую дверь.
– Бюро Камилла, будьте любезны?
– Четвёртый этаж налево.
В вонючей темноте лестница скрипит всеми своими низенькими ступенями. Антуан спотыкается, но не решается взяться за липкие перила… На четвёртом этаже чуть светлее из-за крохотного окошка, выходящего во двор, и на потускневшей табличке можно прочесть выгравированные золотом слова: «Бюро Камилла, расследования». Звонка нет, но рукописный плакат приглашает посетителей входить без стука.
«Войти или нет? Какое мерзкое заведение! Может быть, вернуться?.. Да, но патрон отпустил меня только на сегодня…»
Решившись, он поворачивает ручку двери и вновь оказывается во мраке. Здесь пахнет луком и табаком из остывшей трубки… Он уже хочет повернуть назад, как вдруг его останавливает грубый голос, донёсшийся откуда-то изнутри:
– Козёл! Придурок! Опять упустил её? Она тебе мастерски натянула нос! На что ты годишься в слежке?
Упустить её в большом магазине! Да ты хоть понимаешь, как это позорно? Я бы умер от стыда, если бы мне пришлось признаться, что клиентка улизнула от меня в большом магазине! Семилетний ребёнок и тот выследит в большом магазине даже крысу!
Пауза… Невнятное бормотанье человека, который пытается оправдаться…
– Да, да, пойди расскажи это рогоносцу! Нет, старина, мне дармоеды не нужны. Пинок под зад – вот всё, чего ты заслуживаешь!
Антуан краснеет, и потеет в темноте, испытывая абсурдное чувство, будто он и есть тот самый рогоносец, о котором говорят за невидимой дверью… Придя в бешенство, он стучит и, не дожидаясь ответа, входит…
Голая комната, сырая и на первый взгляд чистая, хотя на зеркале в золочёной облезлой раме синеют тусклые разводы.
Какой-то человек проворно заталкивает внутрь стола выдвинутый ящик, где мирно лежат рядом продолговатый хлебец, кусок лионской колбасы в серебряной обёртке и американский кастет.
– Что вам угодно, сударь?
Антуан подходит ближе и натыкается на длинные ноги какого-то жалкого существа, сидящего на груде зелёных картонок возле камина, – это высокий костлявый малый с лицом семинариста-расстриги, на котором словно отпечатались заслуженная и не заслуженная им брань…
– Я хочу поговорить с господином Камиллом.
– Это я, сударь.
Господин Камилл кланяется Антуану с властной непринуждённостью, чем ещё более подчёркивается чисто французский шик его одеяния: бархатный жилет сливового цвета с гранёными пуговицами, сюртук с атласным воротником, высокий воротник, фиолетовый пластрон, заколотый булавкой в форме подковки…
– Садитесь, сударь. Чем могу служить?
– Я пришёл вот зачем, сударь. Я хотел бы получить сведения об одной особе… Я ее не подозреваю, но… лишние сведения никогда не повредят, не так ли?
Господин Камилл жестом проповедника поднимает руку, на пальцах которой сверкают два перстня:
– Это долг каждого благоразумного человека!
Он понимающе и снисходительно кивает, пощипывая кавалерийские усики, а его порочные глаза внимательно изучают Антуана, безошибочно угадывая в нём простофилю, самим Богом посланного простофилю…
– Короче говоря, речь идёт о моей жене. Я вынужден на целый день оставлять её одну, она молода, неопытна, подвержена влиянию… Словом, я просил бы вас, сударь, проследить, час за часом, как проводит время, пока я отсутствую, моя жена.
– Нет ничего проще, сударь.
– Для этого нужен очень ловкий человек: она умна, недоверчива…
Господин Камилл улыбается, засунув большие пальцы за края жилета:
– Всё складывается как нельзя лучше, сударь, у меня есть надёжный человек, один из непризнанных и скромных мастеров своего дела…
– Вот как? – с интересом говорит Антуан.
Движением подбородка Камилл указывает на существо, притулившееся у камина и уже съёжившееся в предчувствии неизбежного нагоняя.
– Что? Вот этот…
– Моя лучшая ищейка, сударь. А теперь, если вам угодно, обсудим вопрос оплаты…
Удручённый Антуан не слушает больше: он выложит любую сумму, которую ему назовут… но без всякой надежды.
«Нет мне ни в чём удачи, – сетует он мысленно. – Этому затюканному идиоту никогда не справиться с Минной… Такое невезение! Выбрать именно эту конуру, когда существует, наверное, не меньше трёх сотен отличных розыскных агентств… Всё против меня!
Он вновь спускается по чёрной лестнице, где пахнет капустой и отхожим местом, а в ушах его по-прежнему гремит взбешённый голос…
– Упустить её в большом магазине! Поди расскажи это рогоносцу! Пинок под зад – вот всё, чего ты заслуживаешь!
«Я предпочла бы, – рассуждает сама с собой Минна, – быть несчастной. Люди ещё не вполне поняли, что отсутствие несчастий наводит тоску. Хорошее несчастье, настоящее, мучительное, глубокое, ощутимое каждую секунду, словом, ад! Но только ад разнообразный, переменчивый, оживлённый – вот что придаёт жизни вкус и вливает в неё живую струю!»
Она встряхивает головой, и серебристые волосы струятся по её белому платью. Она повторяет, сама того не подозревая, слова Мелизанды: «Я здесь несчастлива…»
Антуан только что ушёл, не поинтересовавшись, встала ли уже жена, однако велел передать ей, чтобы она обедала без него…
«Вот человек, – говорит она себе, – которого невозможно понять. Пока я обманывала его, он был всем доволен. Затем я посылаю Жака Кудерка ко всем чертям, а Можи обходится со мной как с любимой сестрёнкой – и Антуан не помнит себя от ярости!..»
По правде говоря, Антуан, потрясённый мыслью, что за Минной целый день будет ходить шпик, попросту сбежал. Он ясно видит свою Минну, свою злючку Минну – как поведут её на невидимой цепи, как устремится она с преступной радостью навстречу адюльтеру, как крикнет: «Фиакр!» – звонким нетерпеливым голоском, не зная, что чужие глаза следят за ней, замечая время, место и номер кареты.
Он сбежал, измученный ужасной ночью без сна, когда негодующая любовь его восставала, принимая сторону Минны, и он уже готов был крикнуть жене: «Не ходи туда! За тобой пойдёт дурной человек!» Он сбежал, с трудом сдерживая слёзы, в полной уверенности, что окончательно убивает своё счастье… «Мне отдали её, чтобы сделать счастливой, – заступается он мысленно за Минну, – но она же не давала клятву, что примет счастье только от меня…»
Этой ночью он призывал старость и бессилие – но не смерть. Он предусмотрел сотни возможных развязок – но не разлуку. Он предугадывал ожидающие его унижение и горечь, ибо только величайшая любовь соглашается делиться с другими… И каждый раз, когда он в муках корчился на ненавистной постели, ему приходило в голову, что можно отказаться от всего на свете – но только не от Минны…
В тот самый час, когда Антуан пытается убить время, забившись в угол унылой пивной, Минна выходит из дома – без какой-либо определённой цели, просто чтобы полюбоваться несмелым ещё солнцем и чтобы не сидеть на одном месте…
Белые облака на небе отмывают тусклую лазурь. Минна поднимает навстречу этой синеве лицо, прикрытое тонким тюлем вуали, а затем начинает спускаться к парку.
«А что, если зайти к Можи?» Она на мгновение останавливается, потом снова устремляется вперёд. «Что тут такого? Я пойду к Можи. А если его нет… ну, значит, вернусь назад! Решено, я иду к Можи…»
Она резко поворачивается, чтобы подняться к площади Перер, и зонтик её утыкается в какого-то господина, нет, скорее, просто прохожего, который идёт сзади. Она бормочет «простите» раздражённым тоном, поскольку от этого мужчины пахнет дешёвым табаком и скверным пивом.
Она упрямо повторяет, вздёрнув нос: «Я пойду к Можи!», но не трогается с места…
– Если я приду, Можи подумает, что мне нужно только это…
Она смущена, будто вновь стала девочкой, не понимая, что это запоздало просыпается её душа: внезапная стыдливость означает, возможно, всего лишь неведомое ей прежде чувство сомнения. Она принесла в жертву своё безвинное тело, а потом вернула его себе. Но она никогда не думала, что в таком жертвенном даре есть порча, и нет ничего более девственного, чем горделивое сердце Минны… Она печально качает головой, отвечая своим мыслям и одновременно отвергая фиакр, который медленно ползёт вдоль кромки тротуара, возвращается назад и начинает спускаться к парку Монсо: «Мне ничего не хочется, я не знаю, что делать… В такую погоду приятно было бы поглядеть на какую-нибудь мучительную казнь…»
Она ускоряет шаг, провожает взглядом белый парус облака, плывущего над ней, не замечая, что как нарочно открывает взорам прелестную линию подбородка и влажный испод верхней губы…
Впереди, в нескольких шагах от неё, идёт мужчина, смутно знакомый ей своей понуростью, цветом пальто, длинными волосами, лежащими на сальном воротнике… «Это человек, которого я только что задела зонтиком».
В парке Монсо она позволяет себе сделать передышку, чтобы глаза отдохнули на свежей яркой зелени, а затем вновь пускается в путь, весьма заинтригованная, ибо тот мужчина по-прежнему следует за ней. У него длинный нос, небрежно-криво посаженный на лицо…
«Неужели он решился преследовать меня? Со стороны такого жалкого типа это просто нахальство! Какой-нибудь сатир или же один из тех, кто старается прижаться к любому платью в толпе… Посмотрим!»
Она быстро идёт вперёд: её манит к себе скользящий вниз проспект Мессин, где хочется бежать вприпрыжку, играя в серсо. Минна замедляет шаг, безмерно счастливая от того, что кровь стучит в её розовых ушах…
«Что это за улица? Миромениль? Пусть будет Миромениль. Что с сатиром? Он на посту. Какой странный сатир! Слишком усталый и тусклый! Обычно сатиры бывают с бородой, у них хищное выражение лица и циничный взгляд, а в волосах торчит солома или сухие листья…»
Она останавливается у витрины скобяной лавки, внимательно изучая все ошейники из барсучьей кожи, украшенные бирюзой, ибо таковы требования моды для собачек из хороших домов. Терпеливейший из сатиров замер на почтительном расстоянии и курит уже четвёртую сигарету. Он почти не смотрит на неё, скосив в сторону свои желтоватые глаза. Он даже позволяет себе сплюнуть, предварительно отхаркавшись самым мерзким образом: он сплёвывает на виду у всех, и Минна, ощутившая тошноту, предпочла бы этому смачному плевку любое другое нарушение общественных приличий… Она возмущённо поворачивается к нему спиной и спешит покинуть это место. В предместье Сент-Оноре их отсекает друг от друга вереница фиакров. Она с удовольствием показала бы ему язык с противоположного тротуара, но, возможно, даже этого окажется достаточно, чтобы пробудить эротическую ярость гнусного чудовища?
А он использует паузу для неотложного дела: ставит ногу на кромку тротуара и, изогнув бескостную спину, что-то торопливо записывает в книжечку, посмотрев предварительно на часы. И Минна сразу понимает свою ошибку: её сатир, её земляной червь, её гнусный обожатель – это всего лишь жалкий наймит!
«Как же я могла так обмануться? Антуан решил выследить меня… Бездарный школяр, вечный неудачник! Как он был школяром, так навеки им и останется! А, ты оплачиваешь услуги шпиков, хочешь, чтобы они ходили за мной? Ну так он походит, можешь не сомневаться!»
Она начинает гонку. Она расталкивает прохожих. Она летит, ощущая необыкновенную лёгкость в ногах, как у почтальона…
«К Мадлен?.. Почему бы и нет? А потом по бульварам до Бастилии. Великолепно! Теперь охоту веду я!» Она усмехается, холодно усмехается, увидев где-то далеко, позади затравленную Минну, которая, прихрамывая, волочит за собой красную домашнюю туфлю без каблука…
«Проспект Оперы? Лувр? Нет, там в этот час слишком много народу». Она избирает улицу Четвёртого сентября, чей разор вполне соответствует состоянию её души. Здесь множество ловушек: завалы из досок, зияющие отверстия люков, вздыбленная мостовая… Вдруг возникает траншея, в которой сплелись свинцовые змеи… Нужно постоянно балансировать на мостках, обходить ямы. «"Сатиру" придётся изрядно попотеть», – думает Минна.
По правде говоря, он мог бы даже вызвать жалость, если бы не был так отталкивающе уродлив. Он покраснел, нос у него блестит, и ему, должно быть, невыносимо хочется пить после стольких сигарет…
«Бедняга! – говорит себе Минна. – В конце концов, это не его вина… Вот и Биржа: я хочу показать ему фокус с улицей Фейдо».
«Фокус с улицей Фейдо» – невинная радость первой измены Минны… Чтобы встретиться со своим любовником, практикантом больницы, она проникла, закрыв лицо вуалью, в один из домов на площади Биржи, а вышла на улицу Фейдо, очень довольная, что изведала очарование дома с двойным выходом, и это было большей радостью, чем объятия рослого похотливого малого с козлиной бородкой… очарование дома с двойным выходом. «Как это было давно! – бормочет Минна. – Ах, я старею!»
Классический фокус с улицей Фейдо и на этот раз удаётся великолепно. На площади Биржи Минна быстро входит во двор дома номер 8, а на улице Фейдо само Провидение посылает ей такси.
Убаюканная стрекотанием счётчика, Минна ставит на откидную скамеечку ноги в лакированных ботинках, которым пришлось сегодня так много ходить. Она ощущает высокомерную снисходительность, притупляющую гнев на Антуана. Минна благодушно наслаждается своей победой.
Когда она возвращается на проспект Вилье, часы показывают всего лишь начало шестого. Минна думает, что ей удастся понежиться целых два часа в домашнем халате, засунув босые ноги в уютные замшевые мокасины… Но на скрижалях судьбы записано, что в этот день Минна должна лишиться своей блаженной праздности в лучах солнца, ласкающего розовые занавески: Антуан уже дома!








