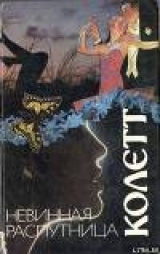
Текст книги "Невинная распутница"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Это вы? Говорите же? Это вы?
Антуан смотрит на неё пристально:
– Это я, Минна. Я только что вернулся. Ты спала… Отчего ты говоришь мне «вы»?
Матово-бледная Минна вспыхивает до корней волос и, задохнувшись, поспешно набирает в грудь побольше воздуха:
– А, это ты! Какой дурной сон!
Антуан садится рядом с ней, всё ещё чувствуя неясную тревогу:
– Так расскажи мне этот дурной сон!
Она улыбается дерзкой улыбкой женщины, сознающей свою власть, и откидывает назад выбившуюся светлую прядь волос:
– Нет уж, спасибо! Я не хочу пугаться ещё раз!
– Я с тобой, моя Минна, бояться нечего, – говорит Антуан, обнимая её и накрывая почти целиком своими большими руками.
Но она, засмеявшись, ускользает от него и начинает танцевать, всё ещё подрагивая, чтобы согреться, чтобы проснуться, чтобы забыть ужасный сон – лежащего на красном ковре мальчика, белокурого, обнажённого и бездыханного…
Сегодня воскресенье – день, нарушающий привычный недельный ритм, не похожий на все прочие дни. По воскресеньям Антуан – полюбивший музыку с тех пор, как занялся реставрацией «барбитос», – водит Минну на концерты.
Минна, по правде говоря, не сумела бы объяснить, отчего она так зябнет по воскресеньям. Она усаживается в зале, стуча зубами от холода, и музыка не согревает её, потому что она слушает слишком напряжённо. Чуть наклонившись вперёд, засунув руки в муфту, она слушает музыку, не сводя глаз с дирижёра, будто по мановению руки Шевийяра или Колона вдруг поднимется занавес и начнётся таинственное действо, которое скрыто в чудесных звуках, но которое никому не дано увидеть… «Увы, – вздыхает Минна, – отчего ни в чём нет совершенства? Это бесконечное ожидание, словно слёзы, подступившие к глазам… но развязки нет!»
В это серое оттепельное воскресенье Минна одевается в серое платье из бархата цвета потускневшего серебра, с пелериной из чернобурки. Из-под шляпки, увенчанной тёмными перьями, сверкают её волосы, укрывая затылок упругим золотым узлом. Стоя в своём будуаре перед зеркалом Бро, отражающим её в разнообразных ракурсах, она с удовлетворением произносит:
«Пожалуй, я близка к идеалу светской женщины».
Затем она отправляется к мужу, ибо не может отказать себе в удовольствии поворчать на него. Сознание собственного совершенства делает её требовательной. Антуан одевается в маленькой комнатке – рядом с кабинетом и курительной, в дальнем крыле дома. Таково было желание Минны, которая не терпит «мужского барахла», равно как и нижнего белья – всё это такое некрасивое и такое шершавое на ощупь. «Если бы можно было, – говорит она, – хотя бы бантиков нашить на кальсоны и фланелевые жилеты, чтобы они выглядели пристойно, сложенные в шкафу!»
Антуан, получивший хорошую закалку в коллеже, одевается быстро и бесшумно.
– Что ты возишься? – ворчит маленькая серебристая фея.
Он обращает к ней бородатое озабоченное лицо, посверкивая белками чёрных глаз доброго авантюриста:
– А, Минна! Застегни мне левую манжету.
– Не могу, я в перчатках.
– Ты могла бы и снять…
Он, впрочем, не настаивает больше, всё такой же насупленный и встревоженный. Минна любуется собой перед старым трюмо, сосланным в эту отдалённую комнату, а потому заманчивым: всегда можно обнаружить что-то новое, вглядываясь в незнакомое зеркало…
Она вдруг начинает петь звонким и чистым голоском маленькой девочки:
Вот фиалка,
Вот малышка.
Это жёлтая мартышка!
Ти-ри-ри! Та-ра-ра-ра!
Порезвимся до утра!
Антуан ошеломленно поворачивается к ней.
– Что это такое?
– Это? Да просто песенка.
– Кто тебя научил?
Она задумывается, приставив палец к виску, и вдруг вспоминает, что эту грубоватую считалку мурлыкал, забавляясь с ней, её первый любовник-практикант. Забавное воспоминание… И она отвечает смеясь:
– Не знаю. Когда я была маленькой… Наверное, Селени напевала это на кухне…
– Удивительно, – говорит Антуан с серьёзностью, которой, конечно, не заслуживает подобный пустяк. – Отчего же я никогда не слыхал этого от Селени, хотя видел её почти так же часто, как ты…
Минна беззаботно машет рукой:
– Что ж тут странного? Послушай, уже почти два часа, а в воскресенье так трудно поймать фиакр…
В карете Антуан сидит молча, и брови его хмурятся в прежней невысказанной тревоге. Минна же ощущает потребность утешать и советовать:
– Мой бедный мальчик, что будет с тобой в жизни, если ты за два дня не можешь переварить глупую шутку об этих твоих… ах да, «барбитос»! Велика важность! Дай Бог, чтобы ты не знал других огорчений…
Она так комично, по-матерински, вздыхает, что мрачность Антуана мгновенно обращается в пылкую нежность, и, поднимаясь по лестнице Шатле, он уже полностью обретает агрессивную гордость мужчины, шествующего рука об руку с прелестным созданием.
– Смотри, Антуан, Ирен Шолье… вон там, в ложе, со своим мужем…
– И с Можи. Неужели он волочится за ней?
– Почему бы и нет? – дерзко произносит Минна. – За мной он тоже волочится.
– Не может быть!
– Ещё как может! В тот вечер у Шолье… Да если бы я только захотела…
– Тише, прошу тебя! Ты же не хочешь, чтобы все это слышали? Значит, Можи осмелился тебе… тебя…
– О, Антуан, давай обойдёмся без семейных сцен… тем более из-за Можи! Право, он того не стоит… И вообще помолчи, Пюньо уже стоит за пюпитром.
Он умолкает. В сущности, ему плевать на Можи. Причина обуревающей его тревоги заключена в Минне – в одной лишь Минне. Конечно, он знает – Господи, да он просто уверен! – что жена не делает глупостей; он боится только, что она вновь начнёт лгать, что опять расцветут те сады порочной фантазии, где блуждало детство этой таинственной девочки…
– Смотри, маленький Кудерк, – говорит он рассеянно.
Лишь зрачки Минны дрогнули:
– Где?
– Только что появился в ложе госпожи Шолье. Как же она трещит! Даже здесь слышно.
Ирен Шолье и в самом деле болтает не закрывая рта, будто в Опере, позируя перед залом на фоне красной драпировки – повернувшись в три четверти. Восточные веки то и дело прикрывают глаза – дабы выразить утомление, желание, сладострастный порыв, не находящий отклика… На плечах у неё шаль из подлинных, но уже потускневших кружев, обвислые концы их свисают с рукавов.
– Увы, это правда, – произносит Минна еле слышно, – она всегда выглядит так, будто одевается у старьёвщиц с улицы Прованс!
Она делает вид, что изучает туалет Ирен, желая получше рассмотреть Жака Кудерка. Как, однако, плохо держится этот мальчик! Лихорадочно крутит шляпу в руках… Минна его презирает:
«Терпеть не могу нервных людей, которые не способны скрыть свои чувства! В тот день у него колено дёргалось в пляске святого Витта; сегодня он не знает, куда деть руки! Право, подобный тик – это признак вырождения!»
Она сводит с ним счёты за то, что у неё самой слегка дрогнула спина… Затем, решительно выставив вперёд подбородок, она, похоже, целиком и полностью отдаёт себя во власть «Шахерезады».
Она чуть покачивается в ритм волнам – этим неистовым тромбонам с заключительным звоном ударных; слабая улыбка чуть кривит ей губы, когда Римский-Корсаков увлекает её с корабля в гарем, от кораблекрушения – к пиршествам Багдада; когда после победоносного грохота боя погружает её с головой в восточную сладкую патоку дуэта принца и юной принцессы – фисташки, лепестки роз, приторная сахарная пудра гарема… Откроется ли Минне в этой бурно-вычурной музыке тайна её собственного существа? Порой слышатся излишняя нежность и распутство в бесстыжих голосах скрипок, неудержимое головокружение нарастает от вихревого танца красавицы, окутанной лёгкой чадрой, и тогда из многих полуоткрытых ртов внезапно вырывается восторженное, слегка смущённое «ах!»…
В ложе Ирен Шолье несчастный мальчик пытается понять, что же с ним произошло. Музыка сотрясает его душу, и ему требуется большое мужество, чтобы не завыть, подобно собаке, на этой варварской оргии, под надрывное пение скрипок… Он ошеломлён присутствием Минны. Она бросила его, голого и слабого, бросила в момент, когда он был опьянён ею, – с такой холодной жестокостью в словах, с такой свирепой решимостью в глазах… Увы! Историю их любви можно уложить в трёх строках: он увидел её… она его соблазнила, потому что ни на кого не похожа… а затем отдалась ему, мгновенно и безмолвно…
– Как жарко в этом зале! – вздыхает Ирен Шолье.
Даже от веера её распространяется тяжёлый липкий запах духов, и Жак Кудерк чувствует подступающую дурноту… Ах, как освежила бы эту пыльную атмосферу всего лишь одна капелька лимонной вербены! Раздавленные лимоны, растёртые листья, отдающие свой зелёный запах, свежесть зарождающегося лета, бледные ещё колоски ржи – это духи Минны, волосы Минны, кожа Минны и её глаза, чёрный колодец, к которому приникают грёзы, любуясь своим изображением! «Неужели всё это у меня было? Чем же я это заслужил? И как сумел потерять?»
– Знаете, мой маленький Жак, вы чертовски скверно выглядите! Брачная ночь и гульба? Преступная связь? Что вы с собой сделали? Я с удовольствием послушаю, хотя, конечно, предпочла бы видеть!
Он улыбается Ирен, ощущая желание убить её, с преувеличенной наглостью, словно близорукий, смотрит прямо в лицо:
– Такая молодая и уже ясновидящая?
Она гордо вздёргивает свой нос еврейского менялы:
– Мальчик мой, вас задавили буржуазные предрассудки, словно вы уже поселились в квартале Маре. А если я просто желаю получить двойное удовольствие, соединив своё собственное с вашим? Как вы все меня смешите дурацкими потугами окружить похоть рамками неких приличий! Слава Богу, моя душа остаётся восточной, так что я способна понять и оценить чувственность людей всех веков…
Она продолжает разглагольствовать посреди возмущённых возгласов «тише!» и не слышит даже, как Можи довольно громко ворчит:
– Со вчерашнего дня эта коза опять чего-то начиталась…
Жак Кудерк бессильно молчит, но тут весьма кстати наступает антракт – можно выйти из зала, слегка взбодрить и размять свою боль… На какое-то мгновение ему приходит в голову мысль дождаться Антуана и поклониться Минне, чтобы напутать её; но в своём душевном оцепенении он даже на это не способен. Все заготовленные и отточенные слова испаряются, и трусливая нерешительность подталкивает его в спину, к парадной лестнице.
Это постыдное бегство приносит Минне в последующие дни сознание своей силы, убеждённость, что на этот раз победа оказалась за ней… Впрочем, наступает рождественская неделя, и суматошная суетливость воцаряется даже на тихой обычно площади Перер. Минна же целиком уходит в заботы, связанные с покупкой конфет, рассылкой поздравительных открыток и вручением подарков. Её своенравный и лукавый, но отнюдь не легковесный ум отринул от себя воспоминания о коротком, досадном любовном приключении… Она трудится не покладая рук, словно продавщица в магазине Буассье, составляя списки тех, кому нужно нанести визит, вкладывая в конверты нарядные картинки с младенцем Христом, – и вновь становится похожей на маленькую девочку, которая играет роль взрослой дамы. Едва на пороге появляется Антуан, как она обрушивает на него поток злорадных, бьющих не в бровь, а в глаз вопросов:
– А как же д'Овили? Ты, конечно, забыл об их сынишке?
– Совершенно вылетело из головы!
– Я так и знала! А эта старая ведьма, мать Пулестена?
– Чёрт возьми! Ещё одна!
Антуан удручённо опускает голову.
– Вот что, друг мой, я ведь не нанялась к тебе, чтобы помнить обо всём и обо всех!
И разве «нанялась» она, скажите на милость, дабы оказывать знаки внимания дяде Полю, этому больному врагу, которого ей придётся завтра поцеловать – да, да, поцеловать! – в самшитово-жёлтый лоб! Какой ужас! Она заранее начинает нервничать и машинально теребит волосы обеими руками:
– Завтра когда, Антуан?
– Когда – что?
– Дядя Поль, разумеется!
– Откуда я знаю. В два часа. Или в три. У нас будет целый день.
– Ты меня поражаешь! Спокойной ночи, я пойду лягу, меня ноги просто уже не держат.
Она потягивается, блаженно зевнув, и внезапно ей становится скучно, весь пыл её куда-то исчезает: она равнодушно подставляет щёку, ухо, золотистый узел волос под поцелуи мужа.
– Уже ложишься, моя куколка? Вот что, я…
– Да?
– Я тоже пойду.
Она искоса смотрит на него… Сомнения нет: Антуан желает последовать за ней в её спальню и в её постель… Она колеблется: «Сослаться на недомогание? Устроить сцену и надуться? Или же притвориться спящей? Но это довольно трудно…»
Действительно, трудно, ибо Антуан ходит вокруг неё кругами, вдыхая с жадностью прозрачный запах духов Минны… Она следит за ним глазами. Он высокий, пожалуй, даже слишком. В одежде выглядит неловким, но нагота возвращает ему непринуждённость, как почти всегда происходит с хорошо сложенными мужчинами. Нос с горбинкой торчит посреди лица, а глаза как у влюблённого угольщика… «Вот это мой муж. Он ничем не хуже других, но… но он мой муж. В сущности, он быстрее оставит меня в покое, если я соглашусь…» Вполне удовлетворившись этим заключением, содержащим в себе истинную философию рабства, она медленно идёт в спальню, вынимая на ходу шпильки из волос.
Дядя Поль ужасен. Внушает страх его лицо будто из засохшего самшита – лицо миссионера, которого немножко оскальпировали, немножко поджарили на костре, немножко поморили голодом в клетке, выставленной на солнце. Съёжившись в кресле, он играет в прятки со смертью посреди выбеленных извёсткой стен своей спальни, под присмотром медсестры-санитарки, похожей на белокурую корову. Детей своих он встречает безмолвно; протягивает иссохшую руку и нарочно привлекает к себе Минну, радуясь, что она напрягается, готовая закричать от отвращения.
Они великолепно понимают друг друга, не посвящая в свои дела Антуана. Минна, пристально глядя на дядю чёрными глазами, желает ему умереть; а он безмолвно проклинает её всеми фибрами души, ибо считает виновницей безвременного ухода Мамы и причиной несчастий своего сына…
Она вкрадчиво осведомляется о его здоровье; он находит в себе силы, чтобы похвалить её серебристо-серое платье. Если бы они жили в одном доме, Бог весть, чем бы это закончилось.
Сегодня дядя Поль находит особое удовольствие в том, чтобы задержать Минну подольше.
– Не каждый день бывает первое января, – говорит он задыхаясь.
Набрав в грудь побольше воздуха, он заходится в кашле, а затем сладострастно отхаркивает мокроту, так что у Минны начинают подрагивать щёки, ставшие белыми, как мел. Отдышавшись, он переходит к подробнейшему описанию своих естественных отправлений, с радостью поймав негодующий взгляд снохи. Затем, немного передохнув и собравшись с силами, заводит неторопливый разговор о последних днях своей сестры…
На сей раз он старается напрасно: Минна, не чувствуя за собой никакой вины, слушает спокойно, слегка оттаивает, с грустной и нежной улыбкой поддакивает, поддерживая беседу… «Ничем её не проймёшь!» – возмущённо говорит себе умирающий старик и, устав от этой борьбы, кладёт визиту конец.
Оказавшись на ледяной тёмной улице, Минна ощущает желание танцевать и петь. Она бросает мелкую монетку нищему, берёт под руку Антуана и, переполненная великодушной радостью удачливой беглянки, восклицает мысленно: «Честное слово, если бы здесь был Жак Кудерк, я бы его расцеловала!»
Весь вечер она находится в беспрерывном движении, болтает, смеётся без всякой причины. Колышутся, посверкивая, чёрные озёра её глаз, в прелестном оживлении розовеет бледное лицо. Антуан смотрит на неё внимательно и печально. На какое-то мгновение смех вдруг сменяется улыбкой, и лицо её изменяется. О, эта улыбка Минны, восхитительная задорная улыбка, которая чуть приподнимает ей скулы, преображает рисунок губ, слегка растягивает края век! Во второй раз Антуан пытается высмотреть и разгадать чужое лицо, чьё существование выдаёт улыбка… Он ощущает лёгкую дурноту и ёканье в сердце, как в тот день, когда застал Минну спящей на канапе… В этом предательском сне, равно как и в этой улыбке, полной таинственного сладострастия, перед ним возникала другая женщина, и Минна словно бы ускользает от него… Правда, сейчас это промелькнуло мгновенно, будто молния, ибо Минна, зевнув по-кошачьи и оцарапав коготками пустоту, объявляет, что идёт спать.
Лечь сразу Минна не может. Запахнувшись в белый монашеский халат, она открывает окно, чтобы «посмотреть на холод».
Она поднимает голову, и её удивляет прерывистое дыхание звёзд. Как же они дрожат! Вон та огромная, прямо над домом, конечно, скоро погаснет: похоже, её прицепили к ветру…
Выказав достаточное внимание холоду, Минна закрывает окно и прижимается лбом к стеклу, ощущая такую лёгкость и такое приятное возбуждение, что ей совсем не хочется ложиться, ибо в душе её вновь возникает пылкая и абсурдная убеждённость, что счастье может ещё ворваться в её жизнь подобно благодетельной буре, подобно нежданной удаче, которую она заслужила, которой её должны одарить. Мужчина, что сделает из неё женщину, разумеется, не отмечен какими-то роковыми знаками, и если она его встретит, то это произойдёт случайно… Случайность в былые времена называлась чудом… Взмахом своей кирки каменотёс в очередной раз освободит из темницы источник, сокрытый в глухой скале…
Ирен Шолье назначила свидание Минне в Ледовом дворце около пяти часов.
Для маленькой неугомонной еврейки, которая считает праздность и уединение болезнями, совершенно недостаточно иметь свой «день». Она постоянно собирает на чаепития друзей, врагов, бывших любовников, сохранивших покорность… В длинной галерее Фрица много раз видели её кружевные шлейфы с опушкой из соболиного меха и грязи… В «Ампире-Палас» и в «Астурии» много раз слышали её пронзительный голос, который становится визгливым, когда она думает. Что переходит на шёпот. Все самые уютные и мирные уголки Парижа теряют свой покой в дни, когда там устраивает своё застолье Ирен Шолье. Сегодня это – Ледяной дворец. Минна, пришедшая сюда впервые, облачилась в тёмное платье честной женщины на первом свидании, и сложный сетчатый узор вуали наложил белую татуировку на её невидимое лицо: лишь два бездонных отверстия и тёмно-розовый цветок выдают присутствие рта и глаз.
– Ах, вот и святая Минна! Откуда вы в таком наморднике? Можи, уступите девочке место. Антуан здоров? Выпейте горячего грогу: здесь дышишь смертью. Кроме того, нужно не выпадать из ансамбля, как любили говаривать в покойном «Ревю Элиотроп». Вот я, например, в Англии пью чай, в Испании – шоколад, а в Мюнхене – пиво…
– Я не знал, что вы так много путешествовали! – вкрадчиво произносит Можи.
– Умная женщина всегда много путешествует, слышите, старый алкоголик?
Можи в светлом жилете, выпятив грудь, как жирная курица, хорохорится, стараясь произвести впечатление на Минну, которая делает вид, что ничего не замечает. Она разочарованно оглядывается, мысленно взвесив все «тени» сегодняшнего файф-о-клока. Не блестяще, совсем не блестяще! Ирен привела свою сестру, земноводное чудовище без ног – она кормит, терроризирует и принуждает к безмолвному пособничеству эту горбунью, которую невозможно выдать замуж. Завсегдатаи салона Шолье окрестили тератологическую[4]4
Тератология – раздел медицины, изучающий аномалии и уродства.
[Закрыть] дуэнью красноречивым прозвищем «сестрица Алиби».
Возле Можи потягивает маленькими глоточками очень тёмный чай какая-то старая дева, типичнейший синий чулок. Американка, «прекрасная Сьюзи», целиком поглощена разговором, исполняя шёпотом страстный дуэт со своим соседом, андалузским скульптором с бородой как у Христа. Виден только её короткий крепкий затылок, квадратные плечи, вздёрнутый шершавый нос чувственного животного… Наконец, сама Ирен, неряшливо одетая и в дурном настроении. Минна с безмятежным удовольствием отмечает грубый макияж на щеках и губах, излишнее нагромождение украшений на шее и обнажённых руках…
Минна ждёт, когда Можи, стоящий за ней, возобновит их флирт. Он не сводит с неё глаз, чья наивная голубизна потускнела под влиянием алкоголя, и не произносит ни слова, стараясь угадать под строгим платьем скользящую вниз линию плеч, бледные руки с голубыми прожилками, два маленьких трогательных выступа… Терпеливая Минна наблюдает за кружением конькобежцев. Это, по крайней мере, что-то новое, даже необыкновенное и, можно сказать, захватывающее – с каждой минутой зрелище становится всё более пленительным, и она с удивлением замечает, что клонится вперёд, словно бы подражая катающимся, которые гнутся в едином порыве, будто колоски, примятые ветром… Свет, падающий сверху, скрывает лица в тени шляп, снежными бликами отсвечивает иссечённая коньками дорожка, присыпанная ледяной пудрой. Коньки с глухим мурлыканьем скользят по льду, который скрипит, словно стекло под ножом.
Пахнет подвалом, алкоголем, сигарами… Весь каток движется в мягком ритме вальса.
Локоть Минны задевают, проходя, очень нарядные женщины: вот кого она хотела бы увидеть в кружении, чтобы развевались их перья и надувались пышные юбки… Но именно эти дамы никогда не появляются на дорожке…
– Минна, вы видели Полэр?
– Нет. Которая из них?
– На это способны только вы! Вы навсегда останетесь в моей памяти как женщина, которая не знает Полэр! Вот она, смотрите!
Два вальсирующих силуэта: один из них, меньших размеров, туго стянутый в талии, по контрасту с широкой пышной юбкой, кажется не столько женщиной, сколько вазой, внезапно возникающей благодаря вращению едва заметной латунной нити… Минна не разглядела лица актрисы – белое пятно, запрокинутое в чёрные волны волос, ни ног её – стальная молния, взмах рыбьего хвоста на солнце… но она зачарованно смотрит, пока не исчезает за другими фигурами обнявшаяся пара… На этот раз она почувствовала дуновение от взметнувшихся юбок, угадала восторг бледного запрокинутого лица…
«Значит, одного только пьянящего кружения, скорости окрылённых ног достаточно, чтобы появилось это выражение блаженства и наслаждения? Я бы тоже хотела… Если бы мне удалось научиться! Кружиться, кружиться до смерти, запрокинув лицо и закрыв глаза…»
Её пробуждает собственное имя, произнесённое вполголоса…
– Госпожа Минна, кажется, ничего вокруг не замечает, – звучит реплика Можи.
– Она думает о своём флирте, – отвечает Ирен Шолье.
– Каком флирте? – невольно спрашивает Минна. – Кого вы имеете в виду?
Ирен Шолье наклоняется через стол, обмакнув в чашки соболиные рукава; ярко накрашенные губы уже вытягиваются в неудержимом стремлении говорить, лгать, клеветать, выпытывать чужие тайны…
– Да об этом несчастнейшем мальчике, о маленьком Кудерке! Все только об этом и толкуют, моя дорогая, все знают, как вы его приняли!
Глаза Минны смеются за кружевной вуалью: «Пока что именно он принимал меня!..»
– …у него такая унылая мордашка с того дня, как вы его послали… любить кого-нибудь другого, он бродит по игорным домам и спускает своё состояние! Да что там! О вас говорили бы гораздо меньше, если бы вы просто спали друг с другом!
– Это совет? – вопрошает нежный тоненький голосок Минны.
– Совет, от меня? О, моя дорогая, не потому, что здесь находится Можи, но скажу вам откровенно – я не стала бы советовать своим подругам тратить силы на двадцатитрёхлетних жиголо! На что они пригодны? Либо задирают нос, либо клянчат деньги, либо теряют голову и угрожают самоубийствами, револьверами и прочими скандальными штучками!
Минна хмурит брови… Когда же она видела на красном ковре изящное и бездыханное тело обнажённого юноши, лежащего… Ах да! В том кошмарном сне! Она вздрагивает под своей накидкой из чернобурки, и Можи, который пожирает её глазами с благоговейной алчностью, провожает взглядом знобкое передёргивание от затылка до поясницы…
– Ну-ну, Можи, не перевозбуждайтесь! – вкрадчиво говорит Ирен. – Сегодня лёд действует на вас весьма странным образом!
– Это мой час, – шутливо парирует журналист. – Вы и представить себе не можете, на что я способен между пятью и семью!
Хохот Ирен заглушает мурлыканье коньков, прерывает экстатический дуэт прекрасной Сьюзи и андалузского скульптора – они озираются с ошеломлённым видом любовников, которых грубо разбудили. Только на лице земноводного чудовища, неподвижного, как индуистский истукан, не появилось даже и тени улыбки.
– Что до меня, – смело провозглашает Ирен, – то я скорее утренняя пташка. Тем не менее после полудня… или же вечером, очень поздно…
Можи с восхищением складывает руки:
– О, природная одарённость! Не правда ли, изобилию присуща щедрость?
Она останавливает его движением пальцев сомнительной чистоты, с лакированными ногтями:
– Подождите! Минна ничего не сказала… Минна, теперь ваша очередь. Я жду альковных признаний. Как меня раздражает, что вы сидите здесь, засунув руки в муфту!
Минна колеблется, выдвигает вперёд тонкий подбородок, стараясь придать себе детски-наивный вид:
– Я ничего об этом не знаю: я ещё слишком маленькая! Я буду говорить после всех остальных!
Она кивает в сторону испано-американской пары. Американка, прижимаясь коленом к скульптору, заявляет, не заставляя себя упрашивать:
– Для меня всё зависит от партнёра. А впрочем, любое время годится.
– Браво! – кричит Ирен. – По крайней мере вы умеете встречать лицом к лицу «сладкую смерть»!
Прекрасная Сьюзи заливается смехом, от которого морщится её свежая хищная мордочка:
– Сладкая смерть? Вовсе нет… Это скорее похоже на качели, когда взлетаешь слишком высоко, вы понимаете? И вдруг падаешь вниз с криком: «Ах!»
– Или: «Мама!»
– Молчите, господин Можи! И всё начинается снова.
– Вот как? Всё начинается снова? Приношу свои поздравления господину, который… раскачивается с вами на качелях!
Ирен Шолье размышляет, покусывая розу и глядя прямо перед собой… На её прекрасном лице Саломеи отражаются всплески каких-то обрывистых эмоций…
– А я, – произносит она, – нахожу вас всех крайне эгоистичными. Вы говорите только о собственном удовольствии, о собственных ощущениях, как если бы чувства… партнёра не имели никакого значения. Удовольствие, которое я приношу, часто превосходит моё собственное…
– Главное – это суметь его дать, – прерывает монолог Можи.
– Уймитесь, несносный! А потом, качели… нет, это совсем не то. Для меня это внезапно рассыпающийся потолок, удар гонга, рвущий уши, нечто вроде… апофеоза, которым увенчивается моя власть над миром… а потом, чёрт бы вас всех побрал! Это слишком быстро заканчивается!
Разгорячённая Ирен Шолье умолкает, и душу её переполняет, похоже, вполне искренняя печаль…
Почти опустевшая, изрезанная коньками, потерявшая блеск ледяная площадка отбрасывает на лица мертвенно-бледный свет. Длинный парень в зелёном облегающем костюме и в спортивной шапочке, натянутой на уши, режет лёд в косой посадке, словно пловец перед прыжком…
– Вот этот совсем не плох… – бормочет Ирен. – Ну, Минна, я жду ваше заключительное слово.
– Да-да, – подхватывает Можи, – вы обещали, и ваше мнение станет, если можно так выразиться, апофеозом нашего незабываемого референдума!
Минна встаёт, опустив вуаль на подбородок и чуть вытянув вперёд маленькие губки:
– О! Да ведь я ничего об этом не знаю… Вы же понимаете, у меня это было только с Антуаном.
Она сама не ожидала, что слова её вызовут такой смех, и несколько смущена… На пустом катке хохот звучит необыкновенно громко: оставшиеся ещё зрительницы поворачиваются к компании Ирен Шолье. Мужчина в облегающем костюме скользит по дорожке, подобно танцовщице, на одной ноге… В сопровождении горбатого чудовища Ирен семенит к выходу, искоса поглядывая на зелёного конькобежца:
– Положительно, этот молодец совсем не плох; что скажешь, Минна?
– Пожалуй…
– В нём есть что-то от Бони де Кастеллана… только этот будет покрепче. Ах, если бы не нужно было постоянно держать себя в руках! Но мы ведь держим себя в руках!
– Разумеется, – кивает благоразумная Минна. – Да и потом, эти люди не более чем прислуга?
– Вовсе нет! Но ведь их развратили доступные потаскушки, и если здесь проявишь слабость, завтра же об этом узнает весь Париж!
Она встряхивает, поведя плечами, все свои соболиные меха и отпускает наконец несчастную старую деву. Можи не слишком торопится, и в еврейском голосе появляются скрипучие нотки:
– Ну же, толстяк! Ах, старый алкоголик, долго ты будешь лизать Минне перчатки?
Американка и андалузский скульптор исчезли – никто не знает, когда и каким образом. Всё более свирепеющая Ирен брюзгливо заявляет, пока кто-то из добровольцев ищет для неё фиакр, что «прекрасная Сьюзи подцепила себе очередного» и что «скоро ни одна честная женщина не сможет показаться в её обществе!»
Минна чувствует, что у неё вырастают крылья.
Вот уже неделю она в короткой спортивной юбочке ездит на метро к двум часам в Ледовый дворец. Первые занятия оказались тяжким испытанием: Минна, полная ужаса перед убегающим из-под ног намыленным льдом, пронзительно вскрикивала голоском попавшей в когти мышки или же, безмолвно вытаращив глаза, цеплялась за локоть своего учителя руками утопленницы. Ломота в теле также была невыносимой, и Минна, просыпаясь, горько жаловалась, что вместо прежних берцовых ей «подсунули новые, отвратительные кости».
Но теперь у неё растут крылья… Плавно покачиваясь, Минна плывёт по льду – быстрее, ещё быстрее, а затем пируэт и остановка. Минна отпускает локоть мужчины в зелёном облегающем костюме, скрещивает руки в муфте и устремляется вперёд одна… Она скользит, держась очень прямо на почти не согнутых ногах…
Однако ей хотелось бы вальсировать подобно Полэр, забыв обо всём, что существует, чтобы истаять в воздухе и умереть, превратившись в клочок бумажки, трепещущий над раскалённой лампой, или в струйку дыма, что обвивает запястье погружённого в свои думы курильщика…
Она пытается вальсировать, доверившись рукам высокого молодца в спортивной шапочке, но волшебное очарование не приходит: от мужчины пахнет сервелатом и виски… Минна с отвращением бросает его и начинает скользить одна, делая плавные, хотя ещё боязливые жесты яванской танцовщицы…
Она трудится каждый день с бессмысленным упорством муравья, собирающего свои драгоценные соломинки. Её праздная меланхолия исчезает, а к бледным щекам приливает кровь. Антуан доволен.
Сегодня Минна ощущает в себе удвоенный пыл. Она почти не обратила внимания, что под мартовским солнцем набрякли почки и окрасилось ультрамарином небо, что на ветру ещё слабенькой весны воздух пропитался запахами двухгрошовых букетиков – из поникшей резеды, усталых фиалок, провансальских нарциссов, источающих аромат грибов и флёрдоранжа…
Минна скользит по почти пустой дорожке, режет лёд, будто проводит алмазом по стеклу, резко поворачивает, наклонившись, как ласточка… ещё один шаг, и конёк её врезался бы в ограждение! Она задела, не увидев, чей-то локоть, а потому оборачивается и тихо говорит:
– Простите!
У ограждения стоит, опершись локтем, Жак Кудерк. Беспричинный гнев вдруг хмелем ударяет ей в голову при виде этого жалкого, смертельно-бледного лица, этих тусклых глаз, провожающих каждое её движение…








