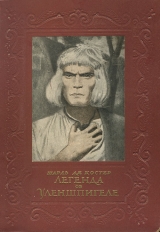
Текст книги "Легенда об Уленшпигеле (илл. Е. Кибрика)"
Автор книги: Шарль Теодор Анри Де Костер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XXXIX
Уленшпигель дошел уже до Герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь.
– Странствующему богомольцу, – сказал он, – не подобает быть шутом оседлым, он шутит только в корчмах и по дорогам.
В это время Филипп, бывший также королем Англии, прибыл обозревать свое будущее наследие – Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шел двадцать девятый год; в его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобное лицемерие и жестокая непреклонность. У него было застывшее лицо, и яйцевидная голова, покрытая рыжеватыми волосами, его худощавое тело и тонкие ноги как бы одеревянели. Речь была медлительна и невнятна, точно рот был набит шерстью.
Между турнирами, играми и празднествами он осматривал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу соблюдать права и вольности стран. Когда в Брюсселе он клялся на евангелии не нарушать Золотой буллы Брабанта[26]26
Конституционная грамота, обеспечивавшая Брабанту особые права и вольности.
[Закрыть], его рука так сжалась от судороги, что он должен был снять ее со священной книги.
Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено двадцать три триумфальных арки. Город издержал двести восемьдесят флоринов на эти арки и на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которые были одеты в пурпурный бархат, а также на богатую одежду для четырехсот шестнадцати лакеев и блестящее шелковое одеяние четырех тысяч одинаково одетых граждан. Многочисленные празднества были даны риторами почти всех нидерландских городов.
Среди шутов и шутих здесь можно было видеть «Принца любви» из Турне верхом на свинье по имени Астарта; «Короля дураков» из Лилля, который вел лошадь за хвост, идя вслед за нею; «Принца развлечений» из Валансьена, который развлекался тем, что считал ветры своего осла; «Аббата наслаждений» из Арраса, который тянул брюссельское вино из бутылки, имевшей вид молитвенника, и сладостны были ему эти молитвы; «Аббата предусмотрительности» из Ата, одетого лишь в дырявую простыню и разные сапоги; зато у него была колбаса, обеспечивающая его брюхо; затем «Главаря бесшабашных» – молодого парня, который трясся верхом на пугливой козе среди толпы; подскакивал от толчков и прыжков; «Аббата серебряного блюда» из Кенуа, который все старался усесться на блюде, стоявшем на спине лошади, приговаривая, что «нет такой большой скотины, чтобы она не изжарилась на огне».
Вся эта компания забавляла людей всякой невинной бессмыслицей, но король сидел мрачный и унылый.
В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такую игру, которая рассмешила бы короля Филиппа.
– Слышали ли вы, – сказал маркграф, – о Пьеркине Якобсене, шуте города Герцогенбуша, который так прославился своими шутками?
– Да, – отвечали они.
– Пошлем за ним – пусть покажет, что умеет. У нашего шута точно свинцовые ноги.
– Что ж, пошлем за ним, – решили все.
Когда гонец антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Уленшпигель. Его нашел гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек, украшая выеденными раковинками грудь сидевшей подле него девушки.
Уленшпигель был очень польщен тем, что посланный антверпенской общины явился за ним, и не только сам прискакал на прекрасном амбахтском коне, но держал другого такого же коня на поводу.
Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа.
– У меня их целые залежи под волосами, – отвечал Уленшпигель.
И они поскакали. Кони летели, закусив удила и неся на себе гонца и Уленшпигеля в Антверпен.
Уленшпигель явился пред маркграфом, обоими бургомистрами я общинными старшинами.
– Что ты собираешься делать? – спросил маркграф.
– Полететь вверх.
– Как же ты это сделаешь?
– А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь?
– Нет, не знаю, – сказал маркграф.
– Разоблаченная тайна, – ответил Уленшпигель.
Праздничные герольды уже красовались на своих великолепных конях в красной бархатной упряжи и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекресткам города. Трубя в трубы и барабаня в литавры, они объявляли всем signorkes и signorkinnes[27]27
Signorkes и signorkinnes – господа и госпожи, испанское название с фламандским уменьшительным суффиксом.
[Закрыть], что Уленшпигель, шут из Дамме во Фландрии, будет на набережной летать по воздуху и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своею высокородной, знатной и достославной свитой.
Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу; вдоль крыши его тянулся жолоб. На жолоб выходило окошко из чердака.
В день представления Уленшпигель проехал на осле по городу; скороход бежал рядом с ним. Уленшпигель был в красном шелковом платье, данном ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончиках которых болтались бубенчики. На шее была цепь из медных блях, на которых выдавлен был герб города Антверпена. На рукавах его полукафтанья у локтей висели бубенчики. Носки его вызолоченных башмаков тоже кончались бубенчиками.
Его осел был в красной шелковой попоне, и на каждом бедре осла красовался вышитый золотом герб города Антверпена.
Слуга в одной руке вертел ослиную голову, в другой – прут, на конце которого мотался коровий колокольчик.
Уленшпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на дождевой жолоб.
Здесь он загремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь, потом наклонился к королю Филиппу и сказал:
– Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, – и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?
Одни смеялись, другие бранились, но все говорили:
– Как никак, а дурак сказал правду.
Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя.
Общинные власти говорили между собой:
– Поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой образины.
И они уплатили Уленшпигелю три флорина, с которыми он и отправился в путь после тщетной попытки оставить у себя свое красное шелковое платье.
– Что такое три флорина в кармане молодого человека? Снежинка в пламени, полная бутылка перед глоткой пьяницы. Три флорина! Листья падают с деревьев и вновь вырастают, флорины же, выскользнув из кармана, уже не возвращаются обратно; бабочки пропадают вместе с летом, а флорины исчезают быстрее, хотя в них два эстерлина и девять асов веса.
Так бормотал Уленшпигель, внимательно рассматривая свои три флорина.
– Какой гордый здесь вид у императора Карла в его панцыре и шлеме, в одной руке меч, в другой держава – изображение нашей бедной земли. Божией милостью он – император римский, король испанский и прочия, и прочия, и, право, он чрезвычайно милостив к нашей земле, этот броненосный император. А на обороте – герб с обозначением всяких его званий и владений, графских, княжеских и других, и с прекрасным девизом: «Da mihi virtutem contra hostes tuos» – «Дай мне силу против твоих врагов». Поистине он был достаточно силен против реформатов, у которых конфисковал их имущество и получил его в наследство. Ах, если бы я был императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, все были бы богаты, и никто бы не работал.
Но сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек.
XL
Когда Уленшпигель в своем красном шелковом костюме показался на дождевом жолобе, он не видел Неле, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и сказала себе: «Если какой-то шут собирается лететь пред королем Филиппом, то это может быть только Уленшпигель».
Задумчиво шел Уленшпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал две руки, легшие на его глаза. Он узнал эти руки и спросил:
– Это ты?
– Да, – отвечала она, – бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдем со мной.
– Где же Катлина?
– О, ты не знаешь, что ее пытали как ведьму и затем на три года изгнали из Дамме, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее: она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает: «Гансик, мой нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные мои ноги – точно две раны». И заливается слезами, говоря: «У других женщин есть муж или любовник, а я живу на этом свете как вдова». Тогда я начинаю уверять ее, что ее Гансик возненавидит ее, если она кому-нибудь скажет о нем, кроме меня. И она слушается меня, как дитя малое; только как увидит вола или корову, бросается бежать от них изо всех сил: все пытку вспоминает. И тогда не удержит ее ничто – ни забор, ни речка, ни канава, – бежит, пока не упадет от усталости где-нибудь на перекрестке или у стены дома. Там я поднимаю ее и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на ее голове, ей и мозги сожгли.
Удрученные мыслями о Катлине, они дошли до дома и увидели ее на освещенной солнышком скамейке у стены.
– Узнаешь ты меня? – спросил Уленшпигель.
– Четырежды три – святое число, – ответила она, – но тринадцать – это чортова дюжина. Кто ты, дитя этой юдоли страданий?
– Я Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин.
Она подняла голову и узнала его; поманив его пальцем, она наклонилась к уху:
– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Уленшпигель, пусть придет ко мне.
Потом, показав на свою сожженную голову, она сказала:
– Больно мне. Они забрали мой разум, но когда Гансик вернется, он наполнит мою голову; она теперь совсем пустая. Слышишь – она звенит, как колокол, – это моя душа стучит в дверь, рвется наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придет и не наполнит мне голову, я скажу ему – пусть дыру проделает ножом. Стучит моя душа, рвется на свободу. Больно, больно мне. Я, верно, умру скоро. Я больше не сплю, – все жду его. Пусть он наполнит мою голову. Да…
И она забылась и застонала.
И крестьяне, возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо Катлины, говорили:
– Вон дурочка.
И крестились.
И Неле и Уленшпигель плакали, и Уленшпигель должен был итти дальше в путь.
XLI
Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Иост, по прозванью Квабаккер, то-есть сердитый булочник – такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Уленшпигель получал от хозяйки три черствых хлеба, а жилищем ему служил чердак под крышей, где здорово сквозило и лило.
В отместку за столь дурное обращение Уленшпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Уленшпигель попросил свечу, чтоб было видно, как сеять. Хозяин и говорит:
– Сей муку на лунном свету.
Уленшпигель исполнил приказание: стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом.
Утром пришел хозяин посмотреть работу Уленшпигеля и видит, что тот все еще сеет.
– Что такое! – закричал он. – Или мука ничего не стоит, что ты ее на землю сыплешь?
– Я сеял на лунном свету, как вы приказали, – ответил Уленшпигель.
– Осел ты безмозглый, где же твое сито?
– Я думал, что у вас луна – новоизобретенное сито. Но беда невелика – я соберу муку.
– Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.
– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – у соседа на мельнице готовое тесто: сбегаю и принесу.
– Убирайся на виселицу, оттуда принесешь что-нибудь!
– Иду, – сказал Уленшпигель.
Он побежал к месту казней, нашел там высохшую руку казненного и принес хозяину со словами:
– Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.
– Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.
Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришел в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:
– Да чего тебе надо?
– Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.
– Долой с моих глаз! – закричал булочник.
– Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.
Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.
Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал:
– Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку: оставь себе отруби – это твоя злость; я возьму себе муку – это мое веселье.
Потом он повернулся к нему задом и прибавил:
– А вот тебе и печка, пеки что угодно.

XLII
Все идя вперед, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжел: не украдешь.
Он направился наудачу в Ауденаарде, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.
Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.
Все шло на пользу рейтарам – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушеное мясо.
– Ты чем промышляешь? – спросил капитан.
– Умираю с голоду, – ответил Уленшпигель.
– Но твое занятие?
– Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на rommel-pot и трубач.
Трубачом назвал себя так смело Уленшпигель потому, что за смертью последнего стражника, состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде была свободна.
– Будешь городским трубачом, – сказал капитан.
Уленшпигель отправился с ним и был водворен на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырех сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.
Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.
Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счет округи. Здесь убили и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлебкой, и запах яств, подымавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Капитан поднялся к нему наверх.
– Почему ты не трубил? – спросил он.
– Нечем было отблагодарить вас за вашу кормежку, – отвечал Уленшпигель.
На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.
Убежденные, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лежа на солнце, и забрали его.
А Уленшпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой; он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.
– Это предательство – трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он пред тобой! – закричал капитан.
– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – в башне так дует, что ветер унес бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите – повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.
Капитан вышел, не сказав ни слова.
Между тем пришло известие, что высокомилостивый император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, находящийся в четверти мили от ворот – Боргпоорта, он трижды протрубит в свой рог.
Это давало обывателям возможность во-время зазвонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.
Однажды около полудня – ветер задул с Брабанта, небо было ясно – Уленшпигель увидел на луппегемской дороге толпу всадников на играющих конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамена. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчевая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьем.
Уленшпигель надел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво разрешал обывателям Ауденаарде попотчевать его отборнейшими винами и изысканнейшими яствами, какие только у них были.
Всадники медленно подвигались вперед, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в человеке аппетит. Но Уленшпигель сказал себе, что они и так жрут обильно и не умрут, если попостятся один раз. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил.
Они гарцовали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с заботой, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии.
Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтобы все сожрать и разграбить.
Немедленно сторож запер ворота и послал общинного служку сказать, чтобы заперли все прочие ворота. Рейтары кутили, ничего не подозревая.
Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не палят, аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Так подъехал он к воротам, нашел их запертыми и постучал кулаком, чтобы ему открыли.
Свитские кавалеры, недовольные, как и его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпенье картечью.
Разъяренный император закричал:
– Слепая свинья, ты не узнаешь своего императора?
Дозорный ответил:
– Золоченая свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что господа французы большие шутники: все знают, что император Карл ведет войну в Италии и потому не может стоять у ворот Ауденаарде.
На это Карл и его свита закричали еще громче:
– Если ты не откроешь, ты будешь изжарен на копье, как на вертеле. А перед этим проглотишь свои ключи.
На шум прибежал из арсенала старый солдат, высунул нос из-за стены и заорал:
– Дозорный, ты ошибся! Это наш император, я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увез отсюда Марию ван дер Гейнст в замок Лален!
От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи и побежал отворять ворота.
Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корнюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами.
Вскоре поднялся колокольный трезвон.
И его величество с царственным грохотом прибыл на Большой рынок. В зале заседаний собрались бургомистры и старшины; старшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал с криком:
– Keyser Karel is alhier! – то-есть: император Карл здесь!
Испуганные этой вестью, бургомистры, советники и старшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, палить из мортир, жарить птицу, открывать бочки.
Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками:
– Keyser Karel is op’t Groot markt! – то-есть: император Карл на Большом рынке!
На рынке собралась огромная толпа.
Пришедший в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, не достойны ли они виселицы за такое невнимание к своему повелителю.
Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уленшпигель заслужил ее еще более, ибо, вслед за слухом о прибытии его величества, Уленшпигеля, снабженного очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привести Уленшпигеля.
– Почему, – спросил он, – ты, несмотря на очки, не трубил при моем приближении?
Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.
Уленшпигель тоже прикрыл глаза рукою и ответил, что с тех пор, как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками.
На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бургомистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против.
Явились палачи и помощники с лестницей и новой веревкой, взяли Уленшпигеля за шиворот, и так шел он мимо сотни рейтаров Корнюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. А они зло издевались над ним.
Сбежавшийся народ говорил:
– Какая жестокость, за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу!
Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали:
– Не позволим повесить Уленшпигеля: это против законов Ауденаарде!
Так дошли они до Поля виселиц. Уленшпигеля взвели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы. Верхом на коне высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был, по приказанию императора, подать знак к исполнению казни.
Народ кричал:
– Милосердие! Помилуйте Уленшпигеля!
Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:
– Помилуйте, ваше величество!
Император поднял руку и сказал:
– Если этот негодяй попросит меня о чем-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет помилован.
– Говори, Уленшпигель! – закричал народ.
Женщины плакали и говорили:
– Ну что он, бедняга, может попросить? Ведь император всемогущ.
Все кричали:
– Говори, Уленшпигель!
– Ваше величество, – сказал он, – я не прошу ни денег, ни поместий, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я ее назову, обещайте не колесовать и не бичевать меня, пока я сам не отойду к вечному блаженству.
– Обещаю, – сказал император.
– Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.
Император и весь народ расхохотались.
– Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Уленшпигель.
Но бургомистра и старшин он присудил в течение шести месяцев носить на затылке очки. «Ибо, – сказал он, – если ауденаардцы не умеют смотреть передом, то пусть они смотрят задом».
И по указу императорскому до сих пор эти очки красуются в гербе города.
А Уленшпигель потихоньку убрался с мешочком серебра, собранного для него среди женщин.
XLIII
В Льеже, на рыбном рынке, Уленшпигель увидел толстого юношу, который в каждой руке держал по кошелке; правая была полна всякой птицы, левую он наполнял форелями, угрями, щуками, камбалами.
Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.
– Что ты здесь делаешь, Ламме? – спросил он.
– Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев. Следую за моей любовью. А ты?

– Ищу хозяина, который дал бы мне хлеба за службу.
– Это сухая еда, – ответил Ламме, – лучше бы ты опустил в свою глотку четки из жаворонков с дроздом в виде Credo.
– Ты богат? – спросил его Уленшпигель.
– Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня била, – отвечал Ламме. – Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства.
– Давай я понесу твою рыбу и птицу.
– Неси.
И они пошли по рынку.
– А ведь ты дурак, – вдруг сказал Ламме. – И знаешь, почему?
– Почему?
– Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.
– Это верно, Ламме. Но с тех пор, как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.
– Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.
По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шелковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на нее Уленшпигелю.
Вслед за девушкой шел старик, ее отец, и нес две корзины – одну с дичью, другую с рыбой.
– Вот кого я выбрал себе в жены, – сказал Ламме.
– Да, ответил Уленшпигель, – я знаю ее: она фламандка из Цоттегема, живет в улице Винав д’Иль; соседи говорят, что мать вместо нее подметает улицу перед домом, а отец гладит ее рубашки.
– Она взглянула на меня, – радостно сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.
Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.
– Ла-Санжин, – обратился к ней Ламме, – возьмешь этого парня в помощники?
– Возьму на пробу.
– Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.
Ла-Санжин подала на стол три черные колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.
Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.
– Знаешь, – сказал он, – где обитает наша душа?
– Нет, Ламме.
– В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.
– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаса – приятное общество для одинокой души.
– Он хочет еще, – сказал Ламме, – дай ему еще чего-нибудь, Ла-Санжин.
Она подала теперь белую колбасу.
Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:
– Когда я умру, мой желудок умрет вместе со мной, а там, в чистилище, придется поститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо.
– Черная была вкуснее, – заметил Уленшпигель.
– Шесть штук съел, довольно с тебя, – заявила Ла-Санжин.
– Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, – сказал Ламме, – есть ты будешь то же, что и я.
– Буду иметь в виду, – сказал Уленшпигель.
Все это привело его в хорошее настроение. Поглощенные колбасы вдохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.
Жил он в этом доме привольно, часто наведывался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак. Однажды Ла-Санжин, жаря двух цыплят, приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.
Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.
Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:
– Здесь было два цыпленка, где другой?
– Посмотри своим другим глазом, – ответил Уленшпигель, – увидишь обоих.
В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошел в кухню и обратился к Уленшпигелю:
– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.
– Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят – одного съел я, другого съешь ты. Мое удовольствие уже прошло, твое еще предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне?
– Да, – ответил Ламме, смеясь, – делай только все так, как Ла-Санжин прикажет: тогда придется тебе делать только половину работы.
– Постараюсь, Ламме, – ответил Уленшпигель.
И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды – он приносил одно. Шел ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива – он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.
Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас же бросает службу.
Ламме спустился к Уленшпигелю.
– Придется тебе уйти, сын мой, – сказал он, – хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа дня – значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин – страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Ради создателя, сын мой, уходи; возьми эти три флорина и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь.
И Уленшпигель пошел удрученный и с раскаянием думал о Ламме и его кухне.
XLIV
Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.
Ничем не омраченное солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, еще покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, все не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвертый раз на них появились почки; ночи были теплые, и соловьи заливались безустали.
Жители Дамме говорили:
– Зима умерла, сожжем зиму.
И соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его.
Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь – разве только для кухни, для которой были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.
Так стоял он у своего порога, и когда свежий ветерок холодил кончик его носа, угольщик говорил:
– Ну, вот пришел мой заработок.
Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбников. И вскоре в его доме стало нехватать хлеба.
XLV
А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливой из королевского дома Тюдоров. Он не любил ее, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.
Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головней. В одном лишь они всегда были согласны – в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.
Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов.
Королева Мария в ночной рубахе из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.
Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слезы, крики, мольбы – все пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил ее.
Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слезы не могли смягчить твердыню этого каменного сердца.








