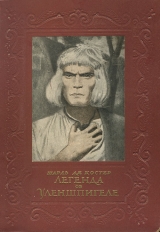
Текст книги "Легенда об Уленшпигеле (илл. Е. Кибрика)"
Автор книги: Шарль Теодор Анри Де Костер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
С пением совершали они свой путь, сидя в открытой телеге, которую здоровенный амбахтский конь шутя тащил по проселкам и болотам герцогства Люнебургского. Некоторые из них играли на скрипках, дудках, лютнях, волынках, производя страшный шум. Рядом с телегой иногда шел пешком толстяк, игравший на rommel-pot, – видно, в надежде сбавить немного жиру.
У них уж приходил к концу последний флорин, когда они увидели Уленшпигеля со звонкой монетой в кармане. Затащив его в корчму, они угостили его там, чему Уленшпигель не противился. Но когда он заметил, что эти ребята перемигиваются и посмеиваются, подливая в его кружку, он догадался, что они замышляют что-то против него, вышел за дверь и стал подслушивать, что они там говорят. И вот он слышит:
– Это живописец ландграфа, – говорил толстяк, – он получил там больше тысячи флоринов за картину. Угостим его хорошенько: получим вдвойне.
– Аминь, – ответили прочие.
Уленшпигель отвел своего оседланного осла в ближайший дом – шагов за тысячу; дал там девушке два патара, чтобы она за ним присмотрела, вернулся в трактир к своей компании и молча сел за стол. Они всё подливали и платили за него. Уленшпигель, позванивая графскими золотыми в кармане, сказал, что только что продал мужику своего осла за семнадцать серебряных талеров.
Так они двигались дальше под звуки дудок, волынок, rommel-pot, обильно угощаясь и забирая по дороге всех женщин, которые казались им подходящими. Они народили таким образом немало детей; случайная подруга Уленшпигеля впоследствии тоже родила сына, которого назвала «Эйленшпигельчик», что по-немецки значит зеркало и сова, ибо, как немка, она не понимала прозвища своего случайного сожителя, а может быть, мальчик назван был в память часа, когда был сотворен. Он и есть тот Эйленшпигель, о котором ложно утверждают, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.
Здоровенный конь мчал их телегу по дороге, навстречу деревням и трактирам. У одного из них с вывеской «In den Ketele» – «В котле» – они остановились: уж очень вкусно пахло оттуда.
Приблизившись к хозяину и показывая ему пальцем на Уленшпигеля, толстяк сказал:
– Это графский живописец: он платит за все.
Трактирщик посмотрел на Уленшпигеля и был удовлетворен этим осмотром. Услышав звяканье флоринов и талеров, он уставил стол яствами и питиями. Уленшпигель ничего не пропустил. И всё звенели в его кармане монетки. Кроме того, он похлопывал себя по шапке, приговаривая, что там хранится самое большое сокровище. Так длилось пиршество два дня и ночь, пока, наконец, компания не обратилась к Уленшпигелю:
– Пора расплатиться и ехать дальше.
– Разве крыса, сидя в сыре, думает уйти? – ответил Уленшпигель.
– Нет.
– А когда человек отлично ест и пьет, тянет его к уличной пыли и к воде из лужи, полной пиявок?
– Нет.
– Ну и будем здесь сидеть, пока мои флорины и талеры служат воронкой, через которую льется в наши глотки душу веселящий напиток.
И он приказал трактирщику подать еще вина и колбасы.
– Я плачу, ибо теперь я ландграф, – сказал Уленшпигель за едой. – Но когда мои карманы опустеют, что вы будете делать, друзья? Приметесь за мою шапку, в которой везде, и в тулье и в полях, зашиты червонцы.
– Дай пощупать! – закричали они.
И, захлебываясь от удовольствия, они нащупывали пальцами монеты величиной с червонец. Но один щупал так настойчиво, что Уленшпигель отобрал у него шапку со словами:
– Погоди, пламенный доильщик, еще не настала пора для доения.
– Дай мне половину твоей шапки, – попросил тот.
– Нет, а то у тебя будет дурацкая голова: в одной половине свет, в другой потемки.
И, передав трактирщику шапку, он сказал:
– Побереги ее у себя, пока жарко. Я выйду на двор.
Трактирщик взял шапку, а Уленшпигель, очутившись на улице, перебежал туда, где был осел, вскочил на него и доброй рысью помчался в Эмден.
Увидев, что он не возвращается, его собутыльники подняли крик:
– Он удрал! Кто будет платить?
Трактирщик испугался и разрезал ножом оставленную ему шапку. Но между войлоком и подкладкой вместо червонцев оказались жалкие медяки.
Тогда вся ярость его обратилась на товарищей Уленшпигеля, и он закричал им:
– Мошенники, проходимцы, скидайте с себя платье, иначе не выпущу, – всё, кроме рубахи!
Вот они и расплатились своей одеждой и ехали в одних рубахах по горам и долинам: с конем и телегой они все-таки не захотели расставаться.
И путники, встречая их в столь жалком виде, подавали им хлеб, пиво, иногда и мясо, ибо они говорили, что обобрали их грабители.
На всю компанию осталась у них одна пара штанов.
Так они и вернулись в Слейс в одних рубахах, но, несмотря на это, они плясали в своей телеге и играли на rommel-pot.
LX
A Уленшпигель в это время мотался на спине Иефа по низинам и болотам герцога Люнебургского. Фламандцы называют этого герцога Water-Signorke (Водяной барин) – очень уж сыро в его стране.
Иеф слушался Уленшпигеля, как собака. Он пил пиво, танцевал под музыку лучше венгерского скомороха, прикидывался мертвым и вытягивался на спине по малейшему знаку хозяина. Уленшпигель знал, что герцог Люнебургский разгневан и взбешен против него за то, что в Дармштадте он так жестоко посмеялся над ним в присутствии ландграфа Гессенского; виселица грозила Уленшпигелю за пребывание в его владениях.
И вдруг он видит, что герцог собственной особой приближается к нему. Он знал, что герцог – жестокий насильник, и струхнул порядочно.
В страхе заговорил он с ослом:
– Видишь, Иеф, там приближается благородный герцог Люнебургский. Я чувствую, как сильно трет мою шею веревка. Надеюсь, не палач почешет мне шею: почесать – это одно, а повесить – это другое. Подумай, Иеф, мы с тобой точно братья: оба терпим голод и носим длинные уши. Подумай, какого доброго друга ты лишился бы, потеряв меня.
И Уленшпигель вытер глаза, а Иеф заревел.
– Живем мы вместе, деля дружно горе и радость, как придется, – помни, Иеф, – продолжал Уленшпигель. Осел продолжал реветь, так как был голоден. – И ты никогда не забудешь своего хозяина, не правда ли, ибо ничто так не скрепляет дружбу, как общие печали и общие радости. Иеф, ложись на спину.
Послушный осел повиновался, и герцог увидел торчащие вверх четыре ослиных копыта. Уленшпигель сидел уже на его животе.
– Что ты здесь делаешь? – закричал герцог, приблизившись. – Разве ты не знаешь, что в своем последнем приказе я под страхом виселицы запретил ступать на мою землю твоим грязным ногам?
– Помилуйте, господин, – отвечал Уленшпигель, – сжальтесь надо мной!
И, указав на осла, он сказал:
– Вы ведь знаете, что, по праву и закону, кто живет между своих четырех столбов, тот свободен.
– Убирайся из моих владений, – ответил герцог, – не то будешь повешен.
– О благородный повелитель, как стремительно вылетел бы я из этой земли, будь я окрылен одним-двумя золотыми.
– Негодяй, – ответил герцог, – мало того, что ты ослушался меня: ты осмеливаешься еще и денег у меня просить?
– Что делать, ваша милость, – раз я не могу отнять, приходится просить.
Герцог бросил ему флорин, и Уленшпигель обратился к ослу:
– Встань, Иеф, и приветствуй господина герцога.
Осел вскочил и заревел. Затем оба скрылись.
LXI
Сооткин и Неле сидели у окна хижины и смотрели на улицу.
– Что, милая, – опросила Сооткин, – не идет ли мой сын Уленшпигель?
– Нет, – ответила Неле, – мы уже больше не увидим этого дрянного бродягу.
– Не сердись на него, Неле, – сказала Сооткин, – а пожалей его: он ведь скитается где-то без приюта, бедный мальчик.
– Наверное, приютился где-нибудь в доме побогаче родного, у какой-нибудь пригожей барыньки.
– Я порадовалась бы за него, – сказала Сооткин, – может быть, сидит и ест жареных дроздов.
– Камнями накормить бы его, обжору, тогда бы вернулся домой! – закричала Неле.
Сооткин расхохоталась.
– Откуда такая ярость, дитя мое?
Клаас, в раздумье связывавший хворост, отозвался из угла:
– Не видишь, что ли, что она по уши влюблена в него?
– Ах, скверная, хитрая девчонка! – закричала Сооткин. – Ни звуком не выдала! Скажи, девочка, это правда, что он тебе по душе?
– Пустяки, – ответила Неле.
– Хорошего мужа получишь ты, – заметил Клаас, – с широкой пастью, пустым брюхом и длинным языком; мастер из флорина делать гроши; в жизни копейки не заработал честным трудом. Вечно шатается по дорогам, точно бродяга.
Но Неле вдруг раскраснелась и сердито возразила:
– А почему вы ничего лучшего из него не сделали?
– Видишь, до слез довел девочку, – сказала Сооткин, – молчи уж, муженек.
LXII
Добравшись до Нюрнберга, Уленшпигель выдал себя здесь за великого врача, исцелителя всех немощей, достославного очистителя желудка, знаменитого укротителя лихорадки, всем известного освободителя от чумы и непревзойденного победителя чесотки.
В больнице лежало столько больных, что уж не знали, куда их девать. Услышав о прибытии Уленшпигеля, к нему прибежал смотритель больницы узнать, правду ли говорят о нем, что он излечивает от всех болезней.
– Всех, кроме самой последней, – ответил Уленшпигель. – Но обещайте мне двести флоринов за излечение всех прочих болезней – и я не возьму с вас ни гроша, пока все ваши больные не заявят, что они совершенно здоровы и уходят из больницы.
На следующий день с важным, ученым видом и уверенным взглядом он явился в больницу. Войдя в палаты и обходя больных, он наклонялся к каждому и говорил ему на ухо:
– Поклянись, что не расскажешь никому, что услышишь от меня. Чем ты болен?
Больной отвечал ему и клялся не выдавать.
– Дело вот в чем, – говорил Уленшпигель: – я должен одного из вас сжечь, из пепла его сделать чудодейственное лекарство и дать всем остальным. Сожжен будет тот, кто не может выйти сам из больницы. Завтра я приеду со смотрителем, стану на улице перед больницей и закричу всем вам: «Кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу!»
На другое утро Уленшпигель так и сделал.
Все больные – хромые, ревматики, чахоточные, горячечные – разом ринулись на улицу, даже те, которые уже десять лет не покидали постели.
Смотритель спросил их, верно ли, что они здоровы и могут бегать.
– Да, да! – кричали они, в уверенности, что кто-нибудь остался и что его уже жгут на дворе.
– Плати, – сказал Уленшпигель, – вот они все на улице и объявляют себя здоровыми.
И, получив двести флоринов, он поспешил убраться.
Но на другой день больные, еще в худшем состоянии, стали возвращаться в больницу, – кроме одного, который от чистого воздуха выздоровел. Этот напился и бегал пьяный по улицам с криком: «Да здравствует великий доктор Уленшпигель!»
LXIII
К тому времени, как и эти двести флоринов разбежались в разные стороны, Уленшпигель добрался до Вены, где поступил к каретнику, который очень сурово обращался с рабочими, так как они плохо управлялись с кузнечным мехом.
– Поспевай, поспевай! – кричал он то и дело. – Догоняй с мехами! Догоняй, догоняй!
Однажды, когда хозяин был в саду, Уленшпигель снял один мех, взвалил его на плечи и стал носить вслед за хозяином. Тот удивился, увидав его с этой необычайной ношей, но Уленшпигель объяснил ему:
– Вы же мне приказали, хозяин, догонять вас с мехом. Прикажете положить этот и пойти за другим?
– Нет, любезный, не так я тебе сказал; пойди и поставь мех на место.
Чтобы отомстить за эту насмешку, хозяин стал подыматься в полночь и будить подмастерьев на работу.
– Чего ты нас будишь среди ночи, хозяин? – спрашивали подмастерья.
– Такая уж у меня привычка: первую неделю мои рабочие должны проводить в постели лишь половину ночи.
Уленшпигель спал на полатях. Когда хозяин явился будить его, он взвалил себе тюфяк на плечи и явился в кузницу.
– Ты с ума сошел! – закричал хозяин. – Зачем ты тащишь постель с собой?
– Такая уж у меня привычка, – отвечал Уленшпигель, – первую неделю я сплю на постели, вторую – под постелью.
– Хорошо, – сказал хозяин, – только у меня есть еще одна привычка: наглых работников я выбрасываю за дверь, разрешая первую неделю спать на земле, а вторую – под землей.
– Чудесно, хозяин, – сказал Уленшпигель, – значит, в твоем погребе, подле пивных бочек?
LXIV
Покинув каретника и возвращаясь во Фландрию, он поступил в учение к сапожнику, который охотнее торчал на улице, чем орудовал шилом в своей мастерской. Видя, как он уже в который раз собирается из дому, Уленшпигель спросил его, как кроить башмачные передки.
– Кроить для больших и малых ног, – ответил хозяин, – чтобы обувь годилась на всякого, за кем идет крупный и мелкий скот.
– Хорошо, хозяин, – сказал Уленшпигель.
Когда сапожник вышел, Уленшпигель выкроил обувь, пригодную разве для кобыл, ослиц, телок, свиней и овец.
Возвратившись в мастерскую, хозяин увидел кожу, изрезанную на мелкие куски.
– Что ты наделал, пачкун негодный? – закричал он.
– То, что вы приказали, – ответил Уленшпигель.
– Я приказал тебе выкроить башмаки, которые были бы пригодны для всех, за кем ходит скот – быки, свиньи, бараны, а ты сделал обувь по ногам скота.
– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – за кем же ходит боров, как не за свиньей, в то время года, когда вся скотина влюблена: осел – за ослицей, бык – за телкой, баран – за овцой. Разве не так?
И он ушел и остался без приюта.
LXV
Пришел апрель. Вначале стояла мягкая погода, потом ударил мороз, и небо было пасмурно, как поминальный день. Давно уже кончился третий год изгнания Уленшпигеля, и Неле со дня на день ждала своего друга.
– Ах, – говорила она, – погубят заморозки и цветущую грушу, и жасмин, и все бедные растения, которые, доверившись теплу преждевременной весны, распустили свои цветочки. Уж падают снежинки на дорогу; снегом засыпано и мое сердце. Где ясные лучи светлого солнышка, озарявшие веселые лица, делавшие красные крыши еще краснее, а оконные стекла еще ослепительнее? Где они, согревавшие небо и землю, птичек и жучков? Ах, знобит меня днем и ночью от тоски и ожидания. Где ты, друг мой Уленшпигель?

LXVI
А Уленшпигель, голодный и холодный, добрался уже до Ренэ во Фландрии, но он не унывал, а старался шутками и прибаутками раздобыть себе пропитание. Но это плохо удавалось ему, и люди шли мимо и не давали ему ничего.
Было холодно; то снег, то дождь, то град падали на спину путника. Шел он по деревне – слюнки текли у него изо рта, когда он видел где-нибудь в углу собаку, грызущую кость. Он охотно заработал бы флорин, но не знал, как устроить, чтобы флорины попадали в его кошелек.
Он искал наверху; там голуби, сидя на крыше голубятни, роняли вниз белые кружочки, но это были не флорины. Он искал на улице, но флорины не растут на мостовой.
Поискав направо, он увидел преподлую тучу, которая неслась по небу, точно громадная лейка, но он знал, что если что и польется из этой тучи, то это никак не будет дождь флоринов. Поискав налево, он увидел здоровенный и никому не нужный дикий каштан, стоявший без дела.
– Эх, – сказал он, – почему это есть каштановые деревья и нет флориновых? Приятные были бы деревца!..
Вдруг разверзлась громадная туча, и из нее посыпался на спину Уленшпигеля град, твердый, как камень.
– Увы, – сказал он, – знаю, что камнями швыряют только в бездомных собак. – И, бросившись бежать, он говорил с собою на бегу: – Не моя вина, что у меня нет ни дворца, ни даже шалаша, чтобы приютить мое тощее тело. О злые градины – они тверды, как ядра. Не моя вина, что я влачу по миру мое рубище. Зачем я не император! Эти градины врываются в мои уши, точно злые слова! – И он бежал дальше. – Несчастный мой нос, – приговаривал он, – вот сейчас ты станешь, как решето, и сможешь служить перечницей на пиршествах сильных мира сего, где не бьет град. – И, потрогав свои щеки, он говорил: – Они пригодились бы в качестве шумовок поварам, которым жарко подле их очагов. О далекие воспоминания о былых соусах! Я голоден. Не жалуйся, пустое брюхо; не урчите, тоскующие кишки. Где ты скрылась, добрая судьба? Веди меня к своему пастбищу.
Понемногу во время этих разглагольствований небо прояснилось, солнце засверкало, град прекратился, и Уленшпигель сказал:
– Здравствуй, солнце, мой единственный друг. Пришло меня высушить?
Но холод гнал его, и он стремительно бежал вперед. Вдруг он увидел, что по дороге громадными прыжками мчится прямо на него белая в подпалинах собака; язык ее торчал из пасти, и глаза были выпучены.
«Наверное, бешеная», – подумал Уленшпигель, схватил с дороги здоровенный камень и полез на дерево; едва он добрался до первой ветки, как собака была уже внизу. Он швырнул камень и раскроил ей череп. Она остановилась, тоскливо и судорожно попыталась прыгнуть на дерево и укусить Уленшпигеля, но не смогла, упала и издохла.
Это не обрадовало Уленшпигеля, тем более, что, спустившись с дерева, он увидел, что у собаки морда совсем не сухая, как всегда бывает у бешеных собак.
Ее шкурка понравилась ему, и он решил, что ее можно продать. Ободрав собаку, он вымыл шкуру, высушил на солнце, повесив на верхний конец своего посоха, потом уложил ее в свой мешок.
Голод и жажда все мучили его. Он проходил мимо крестьянских дворов, но боялся предложить там купить шкуру: собака могла ведь быть собственностью этого самого крестьянина. Он просил хлеба, но безуспешно. Настала ночь. Он валился с ног и зашел в маленькую корчму: старуха хозяйка сидела, поглаживая старую собаку, непрестанно кашлявшую и очень похожую на убитую Уленшпигелем.
– Откуда идешь, путник? – спросила старуха.
– Из Рима, – ответил Уленшпигель, – я вылечил там папскую собаку от простуды, которая ее очень тяготила.
– Ты, значит, видел святого отца? – спросила она и налила ему кружку пива.
– О, – ответил Уленшпигель, выпивая, – он позволил мне только приложиться к его благословенной ноге и священной туфле.
Между тем старая собака все кашляла, но не харкала.
– Когда это было? – спросила старуха.
– В прошлом месяце. Меня ждали; я подошел к двери и постучался «Кто там?» – спросил архикардинал, чрезвычайно тайный и таинственный камергер его святейшего святейшества. «Это я, ваше высокопреосвященство, – ответил я, – я спешно прибыл из Фландрии, чтобы приложиться к папской ноге и вылечить папскую собачку от простуды». – «А, это ты, Уленшпигель! – закричал папа из-за маленькой боковой двери. – Я был бы очень рад повидать тебя, но никак невозможно. Мне, видишь ли, воспрещено священными декреталиями показывать посторонним мое лицо, когда по нему ходит священная бритва». – «О, какое несчастье! – ответил я. – Я ведь прибыл из такой дали, чтобы приложиться к ноге вашего святейшества и вылечить вашу собачку. Неужто мне так и возвращаться, ничего не свершив?» – «Нет», – ответил святой отец. И я услышал его зов: «Эй, архикамергер, придвинь мое кресло и открой внизу дверцу». Дверца распахнулась, и я увидел в отверстии ногу в золотой туфле и услышал голос, подобный грохоту грома: «Вот всемогущая нога царя царей, короля королей, императора императоров. Целуй ее, христианин, целуй священную туфлю!» И я приложился к священной туфле, и мой нос был пронизан небесным благоуханием, струившимся от этой ноги. Затем дверца захлопнулась, и тот же громовой голос приказал мне ждать. Снова распахнулась дверца, и оттуда вылезла, с позволения сказать, скотина: паршивый, раздутый, как бурдюк, хрипящий косоглазый пес; распухшее брюхо позволяло ему тащиться, только широко расставив кривые ноги. Тогда вновь изволил заговорить со мной святой отец. «Уленшпигель, – сказал он, – вот моя собачка. Она страдает кашлем и иными хворостями оттого, что грызла перебитые кости еретиков. Излечи ее, сын мой, ты не пожалеешь об этом».
– Пей же, – прервала его старуха.
– Налей, – ответил Уленшпигель и продолжал рассказ. – Я дал собачке чудодейственное слабительное моего приготовления. Три дня и три ночи ее несло без остановки, и она выздоровела.
– Иисус и Мария! – воскликнула старуха. – Дай я поцелую тебя, доблестный богомолец, лицезревший святого отца. И мою собаку ты тоже можешь вылечить?
Но поцелуи старухи мало соблазняли Уленшпигеля.
– Кто коснулся устами святой туфли, два года не смеет дотрагиваться ими до женщин. Дай мне несколько добрых кусков жареного мяса, пару колбас и пива – и голос твоей собаки очистится так, что она будет петь мажорную «Богородицу» в соборном хоре.
– О, если бы ты сдержал обещание, – ныла старуха, – ты получил бы от меня флорин.
– Конечно, сдержу, только после ужина.
Она подала все, что он потребовал. Он наелся и напился вдосталь, исполнившись при этом такой благодарности, что даже поцеловал бы старуху, если бы не наплел ей раньше о папском запрещении.
Во время еды к нему подошла старухина собака и положила ему лапы на колени, прося косточку. Он дал ей несколько костей и спросил хозяйку:
– Если бы кто у тебя наелся и не заплатил, что бы ты с ним сделала?
– Отобрала бы у такого прохвоста его лучшее платье.
– Хорошо, – ответил Уленшпигель и, взяв собаку подмышку, вышел с ней в сарай. Здесь он запер ее, дал ей косточку и, вынув из своего мешка шкуру убитой собаки, вернулся к старухе.
– Значит, кто не заплатит, с того лучшее платье долой? – спросил он.
– Разумеется.
– Отлично. Твоя собака ела у меня и не заплатила. Вот я по-твоему и сделал – содрал с нее ее лучшее и единственное платье.
И он показал ей шкурку.
– Ой, – завыла старуха, – какой ты жестокий, господин доктор! Бедная собачка! Для меня, старой вдовы, это не собачка была, а дитя родное! Зачем лишил ты меня моего единственного на свете друга? Теперь мне один путь – в могилу!..
– Я воскрешу ее, – ответил Уленшпигель.
– Воскресишь? И она будет опять ласкаться ко мне, и смотреть, и бегать, и вертеться, вот как вертится теперь ее мертвый хвостик? Спасите ее, господин доктор, и сколько бы вы ни наели, все будет бесплатно, да еще уплачу вам флорин.
– Я воскрешу ее. Но мне нужна горячая вода, патока, чтобы замазать швы, иголка, нитки и подлива от жаркого. И я должен остаться один.
Старуха подала все, что он потребовал. Он взял шкуру и вышел в сарай.
Здесь он помазал морду запертой собаке мясной подливой, что та приняла с большим удовольствием, потом провел по ее брюху полосу патокой, лапы тоже смазал патокой, а хвост подливой.
Затем он трижды издал крик и возгласил:
– Staet op staet op! ik’t bevel, vuilen hond![32]32
– Встань, встань! Слушай приказ, собака, оживи!
[Закрыть]
Быстро спрятав шкуру убитой собаки в мешок, он ударом ноги вышвырнул живую из сарая прямо в корчму.
Собака виляла хвостом и вертелась вокруг старухи, которая, увидев ее живой, бросилась было ее целовать, но Уленшпигель не позволил.
– Не ласкай свою собачку, прежде чем она слижет языком всю патоку, которою обмазана; тогда швы на коже заживут, так что не будут заметны. А теперь плати десять флоринов.
– Речь была об одном, – возразила старуха.
– Флорин за операцию и девять за воскрешение, – сказал Уленшпигель.
И, получив плату, он удалился, бросив на прощанье среди корчмы собачью шкуру, со словами:
– Вот тебе ее старая шкурка: можешь ею заплатать новую, если прорвется.
LXVII
В это воскресенье в Брюгге был крестный ход в честь праздника крови господней. Клаас предложил жене и Неле пойти посмотреть: может быть, встретят Уленшпигеля. Сам он останется стеречь дом и будет ждать, не вернется ли их богомолец.
Женщины ушли. Клаас, оставшись один в Дамме, уселся на пороге. Городок точно вымер. Не слышно было ничего, кроме звонких ударов деревенского колокола, да из Брюгге временами доносились отрывочные звуки соборного перезвона, громовых залпов из фальконетов, шипения потешных огней.
В раздумье Клаас искал глазами сына, но перед ним не было ничего, кроме синего безоблачного небосклона, нескольких собак, лежащих с высунутым языком на припеке, воробьев, с чириканьем купающихся в песке, подкрадывающегося к ним кота и лучей солнца, ласково заглядывающих в окна домов и сверкающих на медных кастрюлях и оловянных кружках.
Но среди всего этого ликования Клаас оставался печален и, ожидая сына, все старался разглядеть его в сизой дымке лугового тумана или услышать его голос в веселом шелесте листьев и радостном пении птиц. Вдруг на дороге из Мальдегема выросла высокая фигура человека; но это, очевидно, был не Уленшпигель. Человек шел по опушке поля и, выдергивая морковь, жадно ел ее.
«Здорово проголодался», – подумал Клаас.
На мгновение он потерял его из виду. Потом он снова увидел его на углу Цаплиной улицы – и тогда узнал того посланца его брата Иоста, который привез ему семьсот червонцев. Бросившись к нему навстречу, он встретил его словами:
– Добро пожаловать!
– Благословенны приемлющие бесприютных путников, – ответил тот.
Снаружи на подоконнике рассыпаны были крошки хлеба, которые Сооткин бросала птицам. Зимой они прилетали сюда в поисках корма. Человек подобрал несколько крошек и жадно жевал их.
– Ты голоден? – спросил Клаас.
– Неделю тому назад меня обобрали грабители, – ответил тот, – с тех пор я питаюсь морковью с полей да корешками в лесу.
– Самое время, стало быть, подкрепиться. Вот, – Клаас открыл шкаф, – вот миска гороха, яйца, колбаса, ветчина, гентские сосиски, холодная рыба. В погребе внизу дремлет лувенское вино, красное и светлое – вроде бургонского, – ждет только, чтоб стаканы наполнились. И потом, – он подбросил полено в печь, – слышишь, как шипят колбасы на сковородке? Это песнь доброй закуски!
Клаас хлопотал, переворачивая колбасу и расспрашивая:
– А сына моего Уленшпигеля ты нигде не встречал?
– Нет, – отвечал тот.
– А что ты знаешь о брате моем Иосте?
И Клаас поставил на стол яичницу с жирной ветчиной, жареную колбасу, сыр, большие рюмки и красное лувенское вино, сверкавшее в бутылке.
И он услышал в ответ:
– Твоего брата четвертовали в Зиппенакене под Аахеном за то, что он, как еретик, воевал с императором.
Клаас почти потерял сознание. Дрожа всем телом от гнева, он повторял только:
– О, проклятые палачи! Ах, Иост, бедный мой брат!
Но тот сурово заявил:
– Наши радости и горести не от мира сего, – и принялся за еду.
Затем он продолжал:
– Я был у твоего брата в темнице, куда пробрался, выдав себя за мужика из Нисвейлера, его родича. Я пришел сюда потому, что он повелел мне: «Если ты не умрешь, подобно мне, за правую веру, пойди к брату моему Клаасу; прикажи ему жить в мире господнем, отдаться делам благотворения, втайне учить сына вере христовой. Деньги, полученные им от меня, отобраны у бедного невежественного народа; пусть употребит их на то, чтобы взрастить Тиля в познании господа и слова его».
При этих словах посланец облобызал Клааса. А Клаас со стоном повторял:
– Умер на колесе! Бедный мой брат!
И он не мог прийти в себя от душевной боли. Однако видя, что гость хочет пить, он налил ему вина. Но сам он ел и пил без удовольствия.
Сооткин и Неле пробыли в Брюгге целую неделю. Все это время посланный Иоста прожил у Клааса.
По ночам раздавались по всему дому вопли Катлины:
– Огонь, огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!
И Клаас шел к ней, успокаивал ее ласковыми словами и возвращался в свой домик.
К вечеру седьмого дня гость ушел и не хотел взять от Клааса больше двух червонцев на еду и приют в дороге.
LXVIII
Неле и Сооткин возвратились из Брюгге. Как-то утром Клаас, усевшись в кухне на полу, как сидят портные, пришивал пуговицы к старым штанам. Подле него Неле науськивала Титуса на аиста. Титус Бибулус Шнуффиус бешено лаял, прыгал к птице и отскакивал обратно. Аист, стоя на одной ноге, сосредоточенно и важно смотрел на собаку и, изогнув длинную шею, чистил клювом перышки на животе. В ответ на это миролюбие Титус Бибулус лаял еще бешенее. Но вдруг эта музыка, как видно, надоела птице, и она, точно стрела, впилась клювом в спину собаки, которая обратилась с визгом «спасите!» в бегство.
Клаас хохотал, Неле за ним, только Сооткин не отрывала глаз от улицы, – не покажется ли где Уленшпигель.
Вдруг она сказала:
– Идет профос с четырьмя стражниками. Не к нам, конечно… Двое стали у нашего дома.
Клаас поднял голову.
– А двое обходят.
Клаас встал.
– Кого это они могут подстерегать на нашей улице?.. Господи Иисусе! Клаас, они идут к нам!
Клаас выскочил из кухни в сад, Неле за ним. Он успел шепнуть ей:
– Спрячь червонцы, они за печной вьюшкой.
Неле поняла. Но, увидев, как он прыгнул через забор, и как стражники схватили его за шиворот, и как он отбивался, она закричала:
– Он не виновен, он не виновен! Не обижайте моего отца, не бейте Клааса. Уленшпигель, где ты? Ты бы убил их!
И она бросилась на одного из стражников и вцепилась ему ногтями в лицо. Затем с криком: «Они убьют его!» – она бросилась на траву и стала кататься по ней, точно безумная.
На шум прибежала Катлина; выпрямившись, точно окаменелая, она смотрела на то, что делалось перед ней, потом затрясла головой, твердя:
– Огонь, огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!
Сооткин смотрела в другую сторону и, ничего этого не видя, обратилась к двум другим стражникам, вошедшим в дом:
– Что вы, господа, ищете в нашей бедной избенке? Моего сына? Он далеко! Не угонитесь, ноги у вас коротки.
И она была довольна, что так отделала их.
В это мгновение донесся до нее крик Неле. Бросившись в сад, Сооткин увидела, как муж ее, схваченный стражниками, отбивался от них у забора.
– Бей их! – кричала она. – Бей! Уленшпигель, где ты?
И она рванулась мужу на помощь. Но один из стражников, схватив ее, держал крепко, не без опасности для себя.
Клаас дрался и отбивался так успешно, что вырвался бы из их рук, если бы на помощь к ним не прибежали те стражники, которые возились с Сооткин.
Со связанными руками привели они его в кухню, где заливались слезами Сооткин и Неле.
– Господин профос, – говорила Сооткин, – что же сделал мой бедный муж, что вы его так вяжете веревками?
– Он еретик, – отвечал один из стражников.
– Еретик! – вскричала Сооткин. – Ты еретик? Врет этот дьявол.
– Милость господня да будет со мной, – отвечал Клаас.
Они вышли. Неле и Сооткин с плачем шли следом, думая, что их поведут к судье. Собрались соседи и друзья. Узнав, что Клааса ведут связанным потому, что он заподозрен в ереси, они все страшно перепугались и, разбежавшись по домам, крепко заперли за собой все двери. Лишь несколько девочек набрались храбрости, чтобы приблизиться к Клаасу и спросить его:
– Угольщик, куда ты идешь связанный?
– Милости господней предаю себя, детки, – отвечал Клаас.
Его отвели в общинную тюрьму. Сооткин и Неле сели на ее пороге. Но к вечеру Сооткин попросила Неле пойти и посмотреть дома, не вернулся ли Уленшпигель.
LXIX
И вскоре по всем окрестным деревням разнеслась весть, что в Дамме бросили в тюрьму человека за ересь и что следствие ведет инквизитор Тительман, каноник города Ренэ, прозванный «неумолимым». В это время Уленшпигель проживал в Коолькерке у одной пригожей фермерши, вдовы, которая не отказывала ему ни в чем из того, что могла назвать своим достоянием. В ласке, довольстве и баловстве жил он так, пока гнусный соперник, общинный старшина, выследив его как-то утром, когда он возвращался из трактира, не набросился на него с дубиной. Чтобы охладить его ярость, Уленшпигель бросил его в лужу, откуда старшина выбрался с большим трудом, зеленый, как жаба, и мокрый, как губка.








