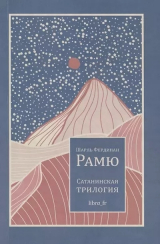
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Это она! – Они вставали на нее посмотреть.
Они поднялись на нее посмотреть, поднялись из мертвых, шли по всем улицам.
Некоторые не могли идти, их несли. Кто-то сделал костыли из обломков досок, другие ползли на коленях. Не важно, как. Они шли. И обрушившиеся на них болезни начали постепенно отступать. Равно как и дома, тела обновлялись. Те, что окривели, согнулись в дугу, – выпрямились. Отметины на телах – лишаи, черные язвы, раны – стирались. Они вышли на белый свет, и лица их были чисты. Свет этот вбирали они глазами омытыми.
И все же они удивились, не найдя никого на площади (не найдя даже тел тех, кого они ожидали увидеть): совершенно пустая площадь, абсолютно чистая и убранная. Вероятно, земля, разверзшись, все поглотила. Удивление, что площадь пуста, было велико, но еще большим удивлением было, когда они поняли, что той, которую разыскивают, тоже нет.
Ибо все они устремились к ней. Но напрасно они искали, напрасно спрашивали друг друга: «Где же она?» Никто не видел Мари. Их охватило великое беспокойство, как если б снова остались они без защиты, без покровительства.
К счастью, кто-то воскликнул: «Вот она!», и сразу все было забыто. Все поспешили в ту сторону, где она показалась в глубине маленькой улочки, что вела к ее дому.
Она шла по улице, они расталкивали друг друга, окружали ее, они хотели заговорить с ней, они не могли. Ну хотя бы постоять рядом? Хотя бы видеть ее, дотронуться.
Но что было во всем этом нового? Казалось, беспокойство охватило ее. Она отстраняла их от себя, говоря: «Дайте же мне пройти! Дайте пройти!..»
Она продолжала путь, отстраняя их. Потом решила попытать последнее, что оставалось, не очень-то в это веря: «А вы? Вы не видели моего отца? Вы его не встречали? Я искала его дома… – Она остановилась. – Его там не было».
Они попадали на колени, женщины целовали подол ее юбки.
Увы! Он по-прежнему не осмеливался, он продолжал прятаться. Даже теперь, когда все оживало, все были прощены и прощение носилось в воздухе, он все еще не осмеливался, думая: «Даже если все это заслужили, я этого не заслуживаю».
Надо было дождаться, пока его разыщут и приведут.
Он упал, простершись, лицом к земле.
И Мари:
– Это ты? Отец, отец! Это ведь ты?..
Он не отвечал, было слышно, как он причитает, он прятал лицо в руках. Она обняла его.
С колокольни, на которую никто не поднимался, раздались удары большой Марии Магдалины, она зазвонила сама, а за ней зазвонили и колокола поменьше.
Уже столько времени не было звона, теперь же колокола зазвонили сами, прежде всех самый большой, затем остальные поменьше, и звон их устремлялся ввысь.
Она помогла ему подняться и сказала:
– Пойдем, отец, она уже заждалась.
Он согласился, осмелился. Вовсю звонили колокола, будто показывая им дорогу.
Сначала шел колокольный звон, за ним следовали Мари с отцом, затем вся деревня.
Вся деревня шла, составив процессию, но не такую, как прежде, все были спокойны и радостны, несмотря на беды и горести. Их было не так уж много, гораздо меньше, чем в прошлый раз, но страдания их были позабыты. Словно они и правда были мертвы, а теперь воскресли. Во главе был председатель, затем Комюнье, старый Жан-Пьер со своими молитвами. Они видели, как вновь зацветают луга, утесы сверкают, будто хоругви. Некоторые вытягивали руки, складывая их крестом. Все шли утешившись, вплоть до Жозефа Амфиона, когда он поднял взгляд, ему показалось, он различает на небесах ту, что утратил.
Это случилось, когда они подошли к лесу. Лес поднимался перед ними, раскрыв выкрашенные светлыми оттенками сени. Тогда он, подняв взор, увидел ее. Она была вверху, за деревьями. В вышней синеве, словно ее часть.
*
Ни на что больше не обращая внимания, они были настолько поглощены радостью, что, проходя мимо церкви, даже не заметили бедного Лота, – единственного, кто уцелел, ибо у него не было ни единого злого умысла, – он сидел, забившись в угол, обхватив руками голову.
И только когда наступила осень и Бонвен однажды отправился на охоту, он отыскал в глубине лощины кюре. Тот повесился на ветке лиственницы. У него не было ни глаз, ни носа, ни рта – никаких привычных человеческих очертаний, – к нему слетались во́роны, а они свое дело знают.
Смерть повсюду
1
Тогда прозвучали слова небывалые. С материка на другой поверх океана было отправлено важнейшее сообщение.
Вопросы и ответы о невероятном известии летали над водами ночь напролет.
Тем не менее никто ничего не услышал.
Громкие слова прошли незамеченными, ничего не встревожив в пространстве над гружеными торговыми кораблями и белыми трансатлантическими лайнерами, в небесах, на которые если кто и смотрел, то лишь потому, что звезды блестели ярче обычного. И прошли они над волнующимися просторами в тишайшей тиши.
Однажды ночью раздались эти слова, за ними последовали вопросы, на вопросы был получен ответ. Все настолько изменится, что люди сами себя не узнают. Но пока все по-прежнему. Все остается спокойным, невероятно спокойным на водах с поднимающейся зарей, на белом прекрасном фоне которой из трубы невидимого взорам корабля вьется дым.
Из-за неведомых изменений гравитационного поля Земля на всей скорости устремилась к Солнцу и вскоре расплавится. Вот что гласило известие.
Всякая жизнь прекратится. Жар будет расти. Вытерпеть его не сможет ничто живое. Жар будет расти, и все живое умрет. И тем не менее пока ничего не видно.
Пока ничего не слышно. Сообщение более не звучит. То, что должно было быть сказано, сказано. Тишина.
Настало утро на море, где корабль, стремясь к горизонту, идет через бесконечные покрытые зыбью холмы, которые преодолевает один за другим, словно муравей борозды.
2
До сего дня кроме невероятной засухи знаков не было. Близился конец июля, сушь стояла три месяца. В июне прошло несколько ливней с грозой, в этом месяце по вечерам иногда еще капало ни с того, ни с сего на мостовую, но и только. Сена собрали много, жатва была обильной. Только потом земля принялась трескаться, а трава желтеть и редеть.
Люди все подмечали, но до конца июля других знаков не было. Только невероятная жара и сушь, термометр показывал 30°, потом 32°, 34°. Люди, конечно, страдали, но было терпимо, небо над нами простиралось неописуемое, к тому же живем мы на берегу озера. Отсюда все видно, вернее сказать, не видно ничего, один лишь бездонный свод, который никогда еще не был столь богато расписан, будто явились художники и дважды, а то и трижды прошлись по нему кистью, но ведь хороший маляр никогда не доволен, всякий раз повторяя: «Нужно еще!»
Мы жили, глядя на невероятную красоту неба. Засохли большие мальвы, высившиеся над пожелтевшей петрушкой и китайской гвоздикой, которая не смогла даже раскрыться: все заполняло небо. Люди говорили: «Да, жарко, зато как красиво!» Еще говорили: «Но ведь и сена много, да и зерно уродилось!» Говорили: «Овощей мало, но и без них обойдемся… Зато вино будет хорошим!» Если пойдет так, как они твердят, виноградари из Лаво[7]7
Лаво – славящийся виноградниками живописный регион в кантоне Во на берегу Женевского озера. Одно из любимых мест Ш. Ф. Рамю, тут – в местечке Кюлли – родилась мать писателя.
[Закрыть] будут нынешним урожаем довольны, хотя они там наверху и мерзли, судя по слухам. Если пойдет так дальше и то, что уцелело, вызреет, вино получится высшего сорта, как они обещают, прося лишь о нескольких ливнях в конце августа, дабы ягоды налились. И, цокая языком, добавляют: «Вина будет мало, зато высшего сорта!.. Только бы удержать цены…» И снова все смотрели на небо.
Оно ведь такое ясное, сияющее, ровное, гладкое. Видите? Видите, какой глубокий цвет? Над красной крышей сарая и раскидистой бузиной, над остролистом, над спускающимся к озеру склоном, – повсюду над горами и над водой. Надо мной и над вами. Над всеми нами. И будет таким еще долго. О, еще так долго! Все думали: «Это никогда не кончится!..» Нужно набраться терпения и радоваться. Усталость пройдет. Мы ведь не голодаем, немного похудели, то правда, но осенью наберем вес.
Все хорошо. Даже садовник заявляет: «Все хорошо». Гинье – садовник – соглашается с остальными, невзирая на постоянную досаду из-за поливов: еще утром он поставил разбрызгиватель среди грядок с латуком, но земля, высохшая в глубину на полметра, такая жаркая, что вся вода испаряется. Так он и говорит, сдвигая камышовую шляпу, сплевывая и доставая из кармана глиняную трубку, набивая ее и оглядывая огород.
В землю врыты цветочные горшки – ловушки для медведок.
Неподалеку западня для воробьев, Гинье кладет их в карман для кошки.
Мы побеседовали утром: никаких знаков, все так красиво!
Только вот засуха все сильнее. Гинье отвернул кран с водою из Бре[8]8
Водохранилище над виноградниками. Питьевая вода Бре поступает также в Лозанну
[Закрыть]: давление в трубах почти исчезло. Вместо брызжущей во все стороны напористой струи – лишь немного белесой пыли.
Каждый день напор становился слабее, теперь вовсе исчез.
– Что ж… – Сказал Гинье, раскурив трубку, которую перед этим продул, она скверно тянула. – Что ж, если и поливать нельзя!..
Я вновь смотрю на прекрасное небо, на свернувшиеся листья сирени на его фоне.
Наша нежная, ласковая Савойя вышла на первый план, уже много недель она так отчетливо различима, словно скоро наступит ненастье. Но ведь ненастья просто не может быть.
В одну из последних ночей, ближе к двум часам, застучали ставни, захлопали окна, распахнулись двери, полетела с крыш черепица. В раскрытые окна ворвался могучий, горячий ветер. Ветер с Юга обрушился с высоких гор со всей силой. Я вышел посмотреть. Не было ни облачка. Лишь сияли огромные звезды, такие белые, что небо казалось еще чернее. Похожие на бумажные фонарики. От ветра, хотя он и летел столь стремительно, что почти сбивал с ног, стало еще жарче. Все испугались, правда, прочувствовать страх не успели, сразу все и умолкло. Внезапно наступила такая тишь, что стало различимо тиканье часов на ночном столике.
Мы ходим купаться на озеро. На большой пляж, который, сколько хватает глаз, усеян коричневыми от загара людьми.
Женщина в киоске продает сладкие пирожки. Из льда в деревянном ведре высовываются бутылки с пивом. Пришли даже те, что не купались ни разу в жизни. На киле старого корабля, положив накидку на колени, сидит, читая книгу, старик. Кожа у него белая, словно мукой обсыпали. Возле него у огромного лодочника тело цвета пережженного кирпича, будто смешали коричневый, красный и черный. Маленькие девочки, водя хоровод, играют в «каравай», женщины все в купальниках. Песок струится меж пальцев ног, будто вода, повсюду черепки разных оттенков; красивые, круглые и плоские или напоминающие куриные яйца камушки. Каждый день ближе к вечеру город пустеет, люди любыми средствами – пешком, на трамваях, фуникулерах, велосипедах – спускаются на свежий воздух, туда, где немного получше – как и сегодня, к примеру, две толстые шлюхи, благоразумно сидящие по самую шею в воде, с украшенными цветочками шляпами на головах.
Дети подплывают к пароходам, пробираются поближе к рулю.
Пароходы всегда одни и те же, они перевозят толпы людей, которым нравится под тиковым навесом плыть против ветра.
Огромные белые машины с крутящимся колесом и трубой, из которой дым валит, словно матрасник раскручивает длинные пряди конского волоса.
3
Тогда-то и появились новости, которые вначале были приняты в редакциях с недоверием, а затем оказались в передовицах, словно черно-белые траурные стяги.
В первые дни это не вызвало у нас почти никакого отклика. Воображение у нас не особенно развито.
Город стоит на трех холмах в вышине. С разной частотой и разными интервалами из него доносится, спускаясь все ниже, бой часов.
Пригород, где я нахожусь, неподалеку от озера, похож скорее на деревню, несмотря на большое количество новых построек. Вечерняя газета приходит не раньше шести, и читают ее вначале женщины, мужчины еще не вернулись с работы. Этим вечером в тени 36° и ничто не предвещает грозы: ни единого, ровного или кудрявого, белого облака, ни единой аспидно-черной тучи; в воздухе нет и намека на дождь. Лучи поверх доносящихся из низин голосов не бледнеют, все золотятся. Голубое небо, если такое возможно, стало еще голубее. Все идет своим чередом. В кафе пьют, в бакалее взвешивают сахар, в булочной продают хлеб, все как всегда. Возможно, по остальному миру уже и идет громогласная молва, а здесь важно лишь, что едет трамвай, останавливается возле кафе. Пассажиров нет, вагоновожатый и кондуктор отправляются пропустить по стаканчику.
Из окна высовывается женщина:
– Читали?
Голос женщины этажом ниже:
– Нет.
У женщины, выглянувшей из окна четвертого этажа, расстегнут лиф, в руках газета. Она громко зачитывает новость. Женщина снизу, запрокидывая голову, притягивает к себе маленькую девочку, которой расчесывала на ночь волосы, продолжая быстро перебирать длинные светлые пряди.
Закончив читать, женщина сверху показывает место на странице, где это напечатано. Вторая спрашивает:
– И что вы хотите, чтобы я на это сказала?
Тот, в чьей голове зародилась идея, поначалу одинок. К только что прозвучавшей новости относятся с невниманием или с улыбкой. На крыши, одни из которых лепятся ближе к соседним, а те вон, наоборот, чуть в стороне, спускается вечер, схожий с другими. Наступает час, когда возвращаются купальщики, засунув под полосатые костюмы кусок марсельского мыла. Плечи под рубашкой горят. Алеют женские затылки с подобранными волосами, загорелые руки едва прикрывает муслин. Матери, запаздывая, толкают перед собой колясочку, в которой лежит самый маленький, остальные дети как могут поспевают вослед. Скоро вернется муж, может, уже вернулся. Быстрее, быстрее! Оранжевое солнце становится красным, кроваво-красным, затем цвет темнеет, густеет.
Надо пройти мимо фермы. На дворе идет та же работа, что и в любой другой день. Двое или трое мужчин, включая хозяина, ходят из стороны в сторону. Они не думают ни о чем, что не составляет их мира. Они полагают, что все неизменно и неизменным пребудет.
Колесо тачки крутится так же, как и вчера, так же, как будет крутиться завтра. Колесо скрипит. Тачка стоит возле дверей хлева, ее видно с дороги. Ставни красного цвета. Дверь риги красного цвета. На углу возле сарая склонившаяся старая ель.
Но газета появилась и здесь. Вся перекошенная, низкая и худая женщина, разносчица газет, держит в руках ивовую корзину, не зная, что в этой корзине. Она несет сложенную вчетверо новость, рядом с которой такая же, сложенная вчетверо, новость. Ходит она от двери к двери. Хозяин, закончив работу, садится на старую зеленую скамейку у стены риги и начинает читать: он ничего не разобрал, уже слишком поздно. Это не для нас, тут что-то слишком большое. Наш-то мир, он ведь маленький. Наш мир простирается, сколько хватает нам глаз. Хозяин, прочитав, сначала озирается с опаской, затем тревога проходит.
Нужно ведь вообразить небо, светила, материки, океаны, полюса, экватор. На деле же не можешь представить ничего другого, кроме себя самого и того, что вокруг. Вот я вытягиваю руку, до чего-то дотрагиваюсь. Хозяин кладет газету на скамейку, достает часы, смотрит, который час. Чувствует лишь, что проголодался.
4
Опять бакалейная лавка. Семь часов. Полвосьмого.
– Ах, Господи, Господи, Господи!
Женщина, зайдя, только это и повторяет, два раза, три раза, четыре раза, пять раз, ничего другого она не в силах вымолвить. Бакалейщик:
– Что такое, мадам Кортези?!
Дети вокруг босые, на мальчиках только штанишки, они все удивлены, смотрят, держа в руках по монетке, возле натертых медных весов, поблескивающих в надвигающейся тени.
Дородная бойкая бакалейщица с большим животом и букетиками красных вен на щеках:
– Что такое, мадам Кортези?!
Но женщина лишь качает головой, всплескивает руками:
– Что если все это правда?!..
– Глупости! – Вступает в разговор плотник. – Новость пришла из Америки, вам ведь известно, что это значит. Народ перестал покупать газеты. Чего ж вы хотите?..
Местный плотник – высокий худой человек лукавого вида, стоя перед квадратной картонкой, к которой пришиты пуговицы для накладных воротничков, продолжал объяснять:
– Ложь их не смущает…
Он был так спокоен, руки в карманах зеленой саржевой блузы.
– Чего тебе, Анри?.. Жорж?.. Килограмм соли? У тебя есть сумка? Беги быстренько попроси у мамы.
Лавочка, телефонный звонок, витрины, банки, мухи.
Зашла еще одна женщина, потом мужчина, двое, трое детей, все хорошо. Торговка, возвращая сдачу монеткой в два франка, стучит пальцем по лбу, первая женщина – мадам Кортези – только что вышла.
Сумасшедшая, ненормальная. Торговка не решается сказать громко, что думает, вокруг народ, но плотник все понял. Торговка и плотник переглядываются.
Босые дети идут по полу или тротуару бесшумно.
Маленькие, круглые, недавно остриженные головы.
Дети прижимаются головами друг к другу.
Протягивают су, берут свертки или хлеб, или сахар в коробочке, или сок на пять сантимов. Взрослые рядом, доставая платок, по несколько раз вытирают лоб, бесполезно ждать, что посвежеет.
И снова голос:
– Ну, и что вы думаете?
Плотник:
– Ничего.
Он смеется. Опять смеется, а тот:
– Что ж, кто знает.
И тот, другой – человек маленького роста, пузатый, пришедший купить пачку табака, – наполовину серьезен, и плотник опять:
– Вранье! Одни небылицы!..
Тот, держа в левой руке желтую пачку с зеленой полоской, не раскрывая, вероятно, пытается представить, как все могло бы происходить, зажав в углу рта пустую трубку и не думая ее набивать.
Он пытается представить, это сложно. Он перестает думать об этом.
Он срывает полоску с пачки табака, опускает в нее два толстых пальца.
Затем пожимает плечами:
– Мне пора. Всего хорошего.
Стук весов.
Зажегся электрический свет: засветилась высоко над дорогой луна. Время от времени с помощью специального рычага ее опускают, чтобы почистить или починить. Вверху от нее исходит сначала легкое потрескивание, будто внутрь шара попал мотылек, затем сыпется вниз мельчайшая фиолетовая пыль. Когда погода портится, она похожа на подлинную луну. Ищешь глазами ту, что в небе, и через какое-то время отыскиваешь ее взглядом в стороне за крышами, за каштанами, совсем низко, но она не меньше первой, правда, бледная, такая бледная, недвижимая, словно нарисована в небе кисточкой, для красоты.
Зажигаются лампы и в домах. Невысоко над землей в фасадах появляются белые и желтые прямоугольники. Самих домов уже не видать. Лишь знаки, что там кто-то есть, указания на чье-то присутствие, находящие друг на друга, возвышающиеся друг над другом, и видно, что люди живут кто повыше, кто пониже, что они вьют гнезда, как птицы. Среди шума возникает пауза, люди укладывают детей, ужинают. О чем они думают? Настает час, когда вновь можно собраться с мыслями.
Но то, о чем они думают (если думают), увидеть, распознать невозможно. В ночи вдалеке едут трамваи. Зайдя в порт, прогудел последний корабль.
Озеро спокойно, уже давно ничего не слышно, хотя прежде волны доходили до вас, словно длинные фразы, произнесенные глухим голосом, быстро. Каждые два-три дня дул неистовый ветер с Юга и слышался этот голос.
Теперь будто и нет никакого озера, давно уже нет. Может быть, именно это пугает. Именно это начало вызывать страх, пробоина в пространстве. Те, кто идут по дороге, немного обеспокоены. Но вот и кафе. Когда бакалейная лавка напротив закрылась, тут стало многолюднее, в дверях кретоновый занавес с цветами, зеленая решетчатая беседка, увитая глициниями. Девять часов. Все забито. Кто-то ударил кулаком по столу. Не в центре зала, где большой стол, а за каким-то из двух маленьких столов, что стоят по бокам.
Давно сидевший там мужчина показывает приятелям газету, водит пальцем по заголовку, говорит одному:
– Видишь?
Другому:
– Видишь?
Поднимает руку:
– Это что, розыгрыш? Мы привыкли помирать каждый в свой час…
Он говорит все громче и громче:
– Каждый по отдельности, каждый в своей кровати… Похоже, теперь все изменится… Помрем все вместе!.. Ты… Ты… Я… И они все…
Он показывает на людей в зале.
– Пора мне набраться смелости да пригласить этих месье…
Он смеется.
– Каждый ухватит другого за шею, вот хоровод-то получится!..
– Замолчите!
Это был один из сидевших за большим столом в центре, вдруг все стихло:
– Замолчите, вам говорят!
Голос был рассерженным, будто этот человек испугался.
5
Скорее, еще раз взглянуть на бесконечные воды которые, когда идешь вдоль берега, кажется, не имеют пределов. Еще раз, пока возможно, пройти по принадлежащей лишь мне гладкой поверхности. Испытывая великую жажду, еще раз, о прекрасные воды, поплыть, чувствуя, как вы стремитесь навстречу и убегаете, пройти вас вдоль, поперек. Полюбить еще сильнее то, что, быть может, придется оставить. Познать, наконец, пространство, щедрое и разнообразное, удлиняющееся и ширящееся, изобилующее, невероятное в своем одиночестве и наготе. Не иметь никаких ориентиров. Только взгляд указывает, что двигаешься вперед, покоряя пространство. И принадлежащая мне вода, вначале на нее просто глянуть, затем окинуть взором пейзаж целиком, всматриваясь, пока не ударишься о камни другого берега, толкнув истертые веревками колья у дебаркадера, взойти на настил, различив маленькие квадратные домики с черепичными крышами без водостоков, фундамент которых переходит в их продолжение, в их перевернутое отражение.
Посреди стороны нашей – зеркало озера, в глубине которого – видишь – творится то, что должно. Вот его противоположный край. Вот другой берег. Холмы. Взгляд, нежась, идет снизу вверх. Скользит по лугам, разбитым на квадраты, огороженные воткнутыми в землю сухими палками, похожими на полированные кости, увитые виноградом; по пшенице, домам, развалинам по краям дорог на первом ярусе, на втором, переходит на маленькую часовню Пресвятой Девы за изгородью, гранитный крест.
Еще раз к вам обратиться, назвать вас, перечислить, сосчитать все это, все эти вещи, дорогие сердцу, что стоят перед взором, направиться к вам всеми мыслями, будто на лодке, приветствуя вас издали, а потом никакой дали нет больше, разделявшее нас расстояние исчезает, мы вместе, до всего можно дотронуться, и еще выше, чем дотягивается рука, начинают прозрачно светиться грозди.
Может, время собирать виноград и не настанет…
Савояр уже пообедал.
Все утро он таскал навоз в корзине, идя по ровной тропинке, которую порой пересекает ручей, почти пересохший. По улице ходила из стороны в сторону сумасшедшая. Савояр таскал в корзине навоз, идя небольшими шагами, он набил трубку контрабандным табаком, это черный табак крупной резки, который тоже пересек озеро, но тайно, Савояр пускал дымок средь ветвей каштана. Вернулся домой. Пообедал. Еще раз услышал, как церковный колокол пробил полдень, а, когда дует ветер с Севера, можно услышать, как бьют полдень звонницы на том берегу. Тех колоколов сегодня не было слышно, их уже очень давно не слышно, северный ветер не дует уже много недель кряду, и никакого другого ветра тоже нет. Что же такое? Савояр не спрашивает себя об этом. Перетаскав навоз, савояр отправился обедать, он ест на кухне, дверь так и осталась открытой. Он сидит перед большой глубокой тарелкой желтого цвета, из которой хлебает жестяной ложкой, лишь слегка подымая ее, нагибаясь к ней сам. Он хорошо расположился, ему удобно, он чувствует себя основательно за прочным столом. Все так, как если б могло продолжаться всегда, все эти вещи его не занимают, это вещи привычные, всегда одни и те же, и он их не видит, он на них никогда и не смотрел; в дверном проеме – двойная голубизна, раньше меж двумя оттенками была разница, теперь ее нет. Мерцанием и неподвижностью воды стали походить на небо, не видно никакой разницы. Савояр об этом не думает, видит лишь, что оно тут и всегда было тут. Он нагибается к тарелке, поднимает ложку, он широко расставил локти, у него квадратные плечи, на голове шляпа; маленький пес, привязанный во дворе к большой цепи, принялся лаять – кто-то прошел мимо, он же пойдет немного посидит на улице, прислонившись к стенке; хрюкают свиньи, пора их кормить. Он снова набил трубку. Можно заметить, что лодка, которая виделась в дверном проеме в самом низу, слегка сместилась, нет никакого ветра, но на глубине есть течение.
Те, что в лодке, поев, растягиваются на палубе, тоже укрывшись от солнца, в тени парусов, тени обманчивой, тени ускользающей, тени неверной, тени ненастоящей, тени, что смеется над вами и лжет…
О, Савойя! Еще раз, скорее пройти по тебе, прийти к тем, что там, и к тем, что выше, и к тем, что на берегу слева, где причал, а за его стеной виднеются мачты, словно небольшой лес, что высох, растерял все листья и ветви и кажет теперь всевозможные цвета, стволы выкрашены, и вот белый, зеленый, красный, и, лишь пройдя повыше, можно обнаружить суда, стоящие столь тесно друг к другу, что палубы будто образуют одну, помост, на котором можно танцевать.
Дойти и туда, где взрывают высокие скалы, каждый день продвигаясь все глубже, закладывая в дыры шеддит, крепя фитили и прячась в укрытие; на дорогах стоят постовые, преграждающие путь машинам, говорящие путникам: «Остановитесь!», издалека подавая знаки, мешая булочнику на велосипеде.
Взрыв, глыбы устремляются вниз, словно стадо овец.
Шум медленно доходил и до нас, на другом берегу, замирая над озером, порой забывая двинуться дальше, останавливаясь на пути, отказываясь звучать, в другие же разы, когда он достигал до нас, это происходило много позже, и он вяло истаивал в воздухе, будто лопался большой пузырь, поднявшийся из глубин на поверхность пруда…








