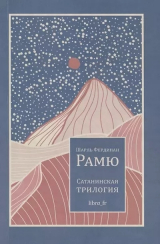
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
19
Я приветствую вас! Приветствую, прибрежные края Роны – мои края – пусть вы лишь полотно, расписанное перед приходом небытия, словно занавес в театре, где играют, а потом сворачивают его как свиток.
Вы были неправдой, видением – так тем более вы – мои! И – пока вы здесь!
Вы начинаете уже клониться, вы начинаете опадать, словно паруса, когда нет ветра. Что ж, я еще раз взгляну, полюбуюсь вами, – смотря пристальнее, рассматривая, любуясь все больше, – зная, что больше вас не увижу, не смогу вас любить и дальше.
Ведь вы еще здесь, ведь вас скоро не будет… О, живописные виды, пейзажи, цветные пространства, простертые перед нами, и вот эта краска трескается…
Краска зеленая, голубая, белая, серая. Роспись из трав, вод, скал. О, долина! О, берега, вы то шире, то у́же! Каменистые берега и воды меж ними, я последую вдоль них в мыслях, я продолжу их мысленно, еще раз нарисую в уме.
Приветствую! Вновь приветствую вас, прежде всего – реальные, существующие! И приветствую те, что все еще представляю, словно гончар, лепящий вазу, который вначале придумал ее и только потом принялся воплощать замысел из глины, выпуская его изнутри, ведя его по рукам к пальцам.
Вы еще здесь, вы – мои, я держу вас перед собой в этом течении – останавливаю вас, удерживаю.
О, вы, нарисованные края! Скоро вы будете стерты, и я поспешно пытаюсь изобразить вас снова.
По воде плыл корабль, он перестанет плыть, – нет, – он поплывет опять, я заставлю его плыть. Другим движением заставлю качаться ветвь фиги. Я владычествую над звуком, над словом, над цветом. Над линиями, над плоскостями. Я расставляю по местам, повелеваю подняться, держаться прямо, действовать, прекратить действовать, согласно моим желаниям.
Вещи, предметы, прочь, я достаточно на вас глядел, теперь не я заключен в вас, но вы заключены во мне, настала моя очередь.
Вначале вы учили меня, теперь я учу вас.
Озеро Роны, ты учило меня, и сколь долго, я знаю! Еще в ту пору, когда я был маленьким, ты учило меня, ты приходило ко мне тогда, когда я еще не умел слышать, я видел тебя, еще не умея видеть, озеро Роны, ты приходило, днем и ночью отмеряя такты, являя мне интонации, звучания, повторы, возвращения, длинноты, протяженности, отмеривая такты волнами: три и три, снова три и еще три, всего двенадцать, а потом тишина, а потом все снова.
Ты учило меня повторению ритма, теперь я сам могу учить этому.
Приветствую же тебя! Спеша, поскольку ты уходишь, уходит все, ничто не может и не должно длиться вечно, приветствую в последний раз!
Огненные клинки, дождевые капли, кипящее масло, сковорода!
Зеркало, схожее с тем, что стоит в спальне у юной девы, в тот день, когда у нее на душе так светло…
20
Получилось так, что на него с самого начала не обратили внимания. Заметили лишь его заплечную корзину и то, что он в ней нес. Никто не понял, что это. Долгое время виднелась лишь передвигающаяся, скользящая над изгородями белая колонна, но вот показался и человек.
Он остановился, впереди простерся окрестный вид, и принялся оглядываться по сторонам, так и не сняв корзины, оставив ее за спиной, она была легкой.
Это был старый корзинщик с плетенками.
Конструкция из плетеных прутьев напоминала легкий дымок, курящийся над полями, когда припекает, ниже виднелась синяя рубаха, серые штаны, очертания старика.
Он скрестил руки, потом поднял правую и, сняв шляпу, уперся рукою в бок. Поднял левую, взялся за бороду. В глазах появилась улыбка.
Говорят, мужчинам это не очень идет, стало быть, не очень идет и мне, ну так и что с того?!
Левой рукой он обхватил бороду, в правой держал шляпу. Стоял, не двигаясь. Вновь оглядел дома, настил для танцев, большие ореховые деревья.
Еще там были вишни и сливы, под платанами стояли столы, выкрашенные в зеленый. Было много плодородной и немного бесплодной почвы. Еще дальше стоял дубовый лес, а еще дальше простиралось небо, В небе обозначилось какое-то движение, словно белый потолок стал еще белее, пока старик одной рукой держал шляпу, а другой сжимал бороду.
По-прежнему – ничего иного. Лишь скользит взгляд поверх бороды. Затем вновь белая колонна зашевелилась.
Неизвестно, что это было такое. Белое, оно блестело и проглядывало насквозь. Внизу все было черным, а вверху словно поднимался пар. Это было что-то очень большое, прозрачное. Неизвестно, что это было такое, оно могло бы вызвать удивление, но разве кто-то еще мог удивляться?
Кажется, нет. Старик с корзиной шел дальше, никто им не занимался. Он был возле харчевни с амбаром, конюшнями, ригами, настилом для танцев, зелеными столами, однако никого нигде не было, ни в окнах, ни под деревьями, нигде вблизи этих четырех или пяти криво стоящих зданий с подлатанными крышами, с выложенными черепицей буквами, рисунками, лилией – только стены, только крыши.
Слышишь, как кудахчут куры, как хрюкают свиньи?
Слышишь, как молотят в риге, как точат косы? А он подходит все ближе, все приближается, идет мимо кустов, подходит к столу, ставит на стол корзину, расправляет плечи…
И снова смотрит. Он поворачивается к северу, где возвышается обсаженная виноградом гора. Поворачивается к востоку, где растут леса. Вот повернулся к югу, где в овраге течет Большая вода. Повернулся к западу откуда пришел. Никого на дороге, в овраге, на лугах, в стороне, где растут виноградники.
Он по-прежнему один. Один был в начале, один в конце. Он перешел реку, пошел по дороге, километровые столбы прилежно отмеряли расстояние, вокруг была красная саранча, что взлетая становится синей, он сошел с дороги и направился по тропинке, пошел за изгородями, неся на плечах корзину, и казалось, что это останки, выбеленные солнцем козлиные остовы. Остановился. Вокруг – ничего, никого.
Вот он сел в большой круглой тени, испещренной просветами, словно губка. Ветвистый платан, словно снявшая платье дама: отчего-то немного стыдно. Старик трясет спутанной бородой, скрывающей почти все лицо, видны только глаза.
Что бы ни приключилось, пойду до конца.
Он позвал, просто, чтобы посмотреть, что будет. Зная, что никто не придет, застучал по столу. Так стучат, когда собираются выпить стаканчик, и подходит официантка. В доме и вокруг дома все оставалось недвижно. Лишь срываются с ветвей стайки воробьев, ищущих под столом крошки, но крошек нет. Он идет взглянуть в окна кухни, кухня заброшена. Никто даже не убрал посуду; кастрюли, тарелки, чугунки повсюду, вплоть до подоконника. Вот так. И никого. И он догадывается почему.
– Ну, что ж! Все равно, пойдем до конца!
Так он себе говорит.
– Все хорошо. Хоть все и плохо. Красиво или уродливо – неважно… Это все без разницы.
Надо идти до последней минуты, до самого конца, насколько хватит сил, пока остается в груди хоть глоток воздуха, хоть один вздох, ведь не так много сил требуется (может, поэтому их и не много).
Так он говорит себе, хотя никто его и не слышит. К тому же, огромная борода скрывает всякое движение губ…
21
Подняв кнут, человек закричал, животные уже очень устали. Его крик и щелчок кнута разнеслись по дубовому лесу. Нужно идти к воде, к озеру, нужно загнать туда скот.
Крик, звук кнута, надо заставить животных спуститься по склону узкой тропинкой, затем по ней же подняться.
По обжигающему песку и галечнику, средь зарослей донника и обозленных мух, меж корней, выступающих наружу из трещин в земле и висящих, как бороды, с постоянной угрозой, что земля обвалится, – человек с восемью животными – в колодцах воды нет, в фонтане нет, в ручье нет.
– Пошла! Пошла!..
Большая бурая отказывается идти. Белая постоянно тянет розовую морду то вверх, то вниз. Ноги, похожие на плохо вбитые колья, дрожат. Поверхность воды гладкая, крути расходятся лишь от опущенных вниз морд, все шире и шире. И вот одна тянет воду, будто веревку, она пьет, пьет, видно, как вода льется по горлу.
Испарения поднимаются такие густые, словно в прачечной, когда женщины кипятят белье; и человек, в конце концов, тоже заходит в воду, засучив штаны, Буренка отказывалась двигаться с места.
Все это на песчаном берегу у подножья большой скалы, где растут красные сосны, будто наполовину стертые на фоне неба.
И надо было со скалы спуститься, затем подняться, пройти по лесу, там за дубами послышались крики и звуки кнута, вновь пустившийся в путь старик с корзиной огляделся по сторонам.
Он ничего не увидел, ничего невозможно было увидеть, вокруг были одни деревья.
Вокруг было одно страдание, но кто страдает – не видно, белая колонна над ним продвигалась вперед.
Страдание было в кронах, страдание было в лужах. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал – одно страдание. От ручья почти ничего не осталось, все родники высохли. Повсюду страдают, умирают, никто ничего не слышит. Маленькие, крошечные жизни. Старик по-прежнему идет под белой колонной, вокруг все гибнет, но глазами не разглядеть. Он по-прежнему один, ничего не слышно. Жизни заканчиваются, никак не сообщаясь, не возвещая о своей кончине. Ах, как это важно, умереть в одиночестве! Как мы одиноки, когда умираем! Каждая вещь, каждое существо один на один с ничем. Склоняется ветка, склоняются остальные. Листья поменяли окраску. Перевернувшись, они показывают бледную изнанку. Зяблик сегодня утром полетел так далеко, сколько хватило сил, он вернулся, так и не найдя насекомых. Страдают все и везде: те, что не разговаривают, и то, что молчит. Комочек розовой плоти в гнезде, еще не покрытый перьями, с маленькими круглыми глазками с пленками и большим еще не затвердевшим клювом, который все открывается, открывается. Совсем крошечное и очень большое. И сама земля что-то вымолвила и застонала, переворачиваясь, словно больной в кровати. Многого не слышно, но есть кое-что, что слух улавливает. Слышно, что трещит под ногами, оно движется, здесь и под горой, дальше, где виноградники. Старик идет с плетенками, под белой прозрачной колонной. Весь тростник повалился набок. Все уступает, все исчезает. Он продолжает путь в одиночестве, с каждым новым открытием опуская голову, вытягивая ее вперед, чуть дальше от ивовой колонны. Он все время был один и продолжал идти. И вот перед ним открылась первая глубокая расщелина поперек дороги. И вот еще одна. Весь склон заходил ходуном. Склон трещал, раскалывался. Слишком много пространства, в котором слишком мало материи. Оно движется, будто чешуйчатая ящерица, а старик словно у нее на спине, он идет по ее спине, по самому гребню. Вот показалась деревня. Сразу за холмом, стоило только добраться до вершины и начать спускаться, – там, внизу, на краю озера, возле залива, – деревушка с церковью, старой башней и плоскими крышами, крытыми желтой черепицей…
– Стой!
Он был вынужден остановиться.
Из-за стены показались двое или трое мужчин. Они преградили дорогу.
– Ни с места!
Закукарекал петух, закудахтала несушка. Церковные часы с синим циферблатом отмеряли время.
– Куда направляешься?
– Не знаю.
– Тогда поворачивай обратно!
Они машут руками, опять за свое:
– Тебе ясно?
Он какое-то мгновение еще стоит со своим грузом, видит, что не может войти, видит, что здесь он не нужен.
Ничего страшного!
Он повернулся с корзинками и плетенками, вновь поднялся по дороге, вот уже и ног не видно.
Виднеется лишь верх его белой колонны.
А теперь и колонны не видно.
22
Вот как теперь обстоят дела, они организовывают своего рода республики: каждая деревня – республика. Каждая деревня – как в старые времена, когда вокруг возводили стены и рыли рвы. На дорогах вооруженные посты. Они укрылись за стенами, под навесами, за большими грушевыми стволами. Всех, кто появится – в автомобилях, на велосипедах, на повозках, на лошадях, прохожих – всех останавливают.
Двумя-тремя днями ранее крестьяне из окрестных мест еще приходили, приводя скот, привозя утварь и запасы съестного, которые могли уместить на довозках и на телегах, люди находили, где всех разместить. Теперь они организовались. Теперь это республика. Здесь все свои. Все защищаются. Они оставили всякую работу в полях и на виноградниках, у них больше времени, чем обычно. Они поочередно стояли на часах или устраивали собрания и выступали с речами в здании школы. Сегодня утром выступал Эдуар Паншо – и он тоже – перед тем, как отправиться с братом ловить рыбу, но другие остались.
– Так нужно, раз уж вы свалились нам на голову и нам надо вас как-то кормить!..
Говорил Паншо. Слышны были выстрелы.
Звонил школьный колокол, объявлявший об очередном собрании; они проводились три раза в день.
Дети с интересом смотрели. Женщинам тоже было забавно, они тоже смотрели.
Идут мужчины, набросившие поверх рубашек солдатские патронташи; на них большие камышовые шляпы с красными ленточками.
Трое здесь, трое-четверо – там. Серые рубашки, полотняные штаны, красные ленточки на камышовых шляпах, идут мужчины.
Вот эти трое назначены стоять на посту напротив железнодорожных путей и большой розовой фермы, которую все зовут Шапотан, – это Луи Бюше, Кортези, Делесер. Пониже, на большой дороге, еще пост.
– Вот так, так! – сказал Кортези.
Вытянув руку, он на что-то показывает, словно что-то поднял с земли и держит.
Это автомобиль, его только что задержали. Сидевшие в нем люди выходят, все укутанные, в пыльниках, платках, очках.
И Кортези:
– Дороги нет!
Протянутой рукой он словно приподымает дорогу и все, что на ней; всех, кто уже закончил свой путь.
Средь серого, под нависающим бурым – белизна, белесая дорога; рядом – луга, воздушные массы; позади – озеро:
– Все, конец!
Поскольку все договорились, что это конец.
Кортези смеется, и остальные двое, глянув, тоже. Затем они берутся за ремни ружей, встают поперек дороги.
В трехстах или четырехстах метрах перед ними – ферма Шапотан, из-за пыли ее плохо видно, хотя у нее и розовые стены. Однако у них хорошее зрение. Они сразу же заметили, что туда забралась целая ватага. Теперь так по всей деревне: шайки бродяг на ночь или две устраиваются в домах, которые обитатели вынуждены были оставить. Так, понемногу, оно побеждает, война выигрывает. И разруха также, они разрушают все, поджигая жилища, обдирая плоды с деревьев, a потом набрасываясь и на сами деревья. Эта шайка вышла из леса, они пробрались на ферму.
– Давай, Луи!
Кортези и Делесер кричат Луи Бюше, он лучший стрелок из троих. Бюше взял ружье.
Он опустил правое колено на землю, оперся ружьем о низкую стену, за которой укрылся, стал ждать.
Долго ждать не пришлось. Проникшие в дом пять или шесть человек уже выходят.
– Стреляй!
Шесть патронов в магазине, седьмой в патроннике, нужно лишь чуть откинуться…
– Браво, Луи! В самую точку! Ну, теперь, толстяк!.. Браво, Луи!.. Они не понимают, что произошло, вот смеху-то! Осторожно, Луи, тот, что на боку… Браво!
И снова:
– Браво!
В то время как недалеко отсюда, на дороге, люди, сложив руки, умоляют:
– Пожалуйста!
– Нет! Вам сказали!
– О, пожалуйста! Пожалуйста!
Но на посту ничего не желают слушать.
Автомобиль, который заставили развернуть, страшно трясется по крутой поперечной дороге. Остановился еще один, люди ждут, чего они ждут?
Мы тут у себя дома, вы не проедете!
Нечто вроде республики. Они сказали себе: «Останутся только свои!»
Деревни будто острова. Да немного неба над ними, они хотят, чтобы это было их небо.
Они сказали себе: «Что б ни случилось, будь как будет! Нужно попробовать выжить!» Мы упрямые, нас просто так не возьмешь. Нельзя работать в поле – что ж, найдем занятие дома. Работы мало не бывает. Они играют музыку молотками, молятся у наковален, извлекают ноты, шлепая по гвоздям, ровняют слова, колотушкой вбивая колья, выстраивают целые предложения, гоняя рубанок.
– Знаете что, я… – проговорил старший из двух Паншо, – я думаю, что… Все равно вы все сдохнете!..
Этим вечером, вновь отталкиваясь от берега:
– Да и сам я сдохну…
Может, он несколько перебрал. Он свесился всем телом через борт – в белом купальном костюме, с голой шеей, голыми руками, босой; широкоплечий, с длинными ногами, узкий в талии, – свесился всем телом через борт над озером, словно известковая стена под веткой платана, такой длинной, что, казалось, она висит в воздухе сама по себе; затем, подняв руку, брату:
– Что, идем?.. Привезем им поесть…
Раз уж все так складывается, не надо забывать о воде, о ее полях и пашнях, коли другие для нас закрыты…
По земле они продолжали ходить, неизвестно, к чему стремясь, но вместе, главное – вместе. Женщины навещали друг друга, мужчины помогали друг другу. Надо стоять на постах. К несчастью, много больных, но за ними ухаживают. Много умерших. Бог мой, слишком много умерших! Но их все еще хоронят. Мы делаем все, что возможно, пытаемся защитить себя, даже если и не нужно. Выстрел. Кто-то моет окна на кухне. Открывают все двери, все окна.
Выстрел. Еще один. Скоро настанет ночь. Надо удвоить посты. На востоке, если присмотритесь, над озером, под горным гребнем, которого уже не видно… этот туман, так странно.
Или это дым? Ох, видите?
Выстрелы. Конец сну. Надо идти, пока есть силы.
У них еще есть немного неба, но скоро его не будет, ни у кого не будет, куда ни взглянешь, небо от нас отделяется, исчезает, вскоре мы не сможем узнать, что происходит. Сегодня вечером солнце было таким большим, совсем не похожим на солнце.
Оно было, словно луна, только в три или четыре раза больше. Как металлический круг, на котором у нас пекут пироги.
Гигантское солнце темно-красного цвета. На него даже можно было глядеть.
Глазам от него уже не больно. Оно будто уже не излучало света, был только жар.
Выстрелы.
23
Смерть повсюду. На центральных площадях, вдали от города. Там, где полно народа, там, где никого нет. Здесь.
На наших полях, в нашей милой и славной, такой маленькой стороне, где в это не верилось, где невозможно было в это поверить, настолько все было спокойно. Так нет же!
Здесь, как и везде, – повсюду смерть, – приближается, поспешая или же медля, как то разумеет она, не мы.
Ее спросили: «Кто ты?» Спрашивают вновь: «Кто ты?»
Но времени на расспросы достаточно, его даже слишком много. Времени, чтобы задать ей этот вопрос, задать его снова, и еще раз – нет ответа.
И часто звучит он, при любом случае, почти все время, а времени у нас много, его более чем достаточно. Наедине с нею: она и вы. В великой тиши – никого – лишь она. Ответа нет, лишь растущая тишина.
Под этим небом, в четырех стенах. В четырех стенах в маленькой спальне не происходит ничего, лишь это: она идет. Но то, как она приближается, видит только она сама.
Вот Гавийе. Гавийе слушает, – он слышит только себя. То, на что он смотрит, – это сам Гавийе, который перестанет им быть. Гавийе смотрит в зеркало. Когда он туда смотрит, ему, кроме себя, ничего и не увидеть. Нет больше ни времени, ни пространства. Ничего, кроме малюсенькой спальни и еще меньшего в ней человека. Все оскудело, съежилось до ничтожных размеров: приблизительно метр шестьдесят пять на шестьдесят. И никаких свидетелей. Он – тут, и он – в зеркале. Он прислушивается к себе, смотрит на себя. И она – она здесь, но ее не видно. Приближается ли он к отражению, отступает ли подальше – ничего нового, только он. Глядя на себя, он растрогался. Отражение то влечет, то отталкивает. То он себя ненавидит, то себе нравится. Он обвиняет себя, жалеет, сетует. Бежит от себя прочь, вновь пытается себя отыскать. Маленький мальчик, каким он был прежде: он пытается разжечь огонь, но огонь гаснет; он печет картошку в золе, получается вкусно, но картошка быстро заканчивается; вот он ее и доел. Куда бы он ни пошел, все заканчивается. Нигде нет пристанища, все смещается, движется. Мы возводили лишь временное, время рушится, и вместе с ним рушится все остальное. Под платанами кто-то сидит с бутылкой лимонада, – это женщина, она смеется, – у нее черные глаза и волосы, кожа загорелая, голая шея, она одета в белое муслиновое платье с красным шелковым поясом, – она смеется из-за всего, над всем, что ей говорят; говорят ей что-нибудь или молчат – смеется; там было пятеро музыкантов на украшенном еловыми ветками, гербами и бумажными розами деревянном помосте, вновь зазвучала музыка, он сказал: «Пойдем?..» – она засмеялась; он подал ей руку, они поднялись на площадку; Играли на тромбоне, корнете, рожках, кларнете; внезапно он обнял ее, она смеялась, он прижимал ее к себе; вот он захотел сжать ее еще сильнее – руки его пусты.
Он вернулся, но куда? В ничто, к самому себе. Он передергивает плечами, видит отстающие от стены серые обои с синими букетиками, на мгновение это его успокаивает. Он пытается себя урезонить: «Это всего лишь игра воображения, это из-за жары, должно быть, у меня жар, я болен!..» Он распахнул дверь, позвал. «Мне всего лишь тридцать два, что ж теперь?..» Он идет из комнаты в комнату: они пусты. Возвращается: «Мы же не сделали ничего дурного! Я никому не причинил зла, никому никогда не вредил, никого не обворовал, я всегда был честен!..» Обеими руками он хватает кувшин, пьет воду. «Никому зла не делал, никому, так что же теперь? Ведь нет, никогда! Уверяю вас! Клянусь!..» Никто его не слушает, никто не слышит. И снова на стене перед ним появляется приговор; он отворачивается, – приговор появляется на стене напротив. Он закрывает глаза: это внутри него. Закрывает глаза, открывает. Глаза открыты, глаза закрыты. Все время одно и то же. И он это видит. Гавийе смотрит на Гавийе, а потом никакого Гавийе не будет. Лоб, глаза, нос, а потом – ни лба, ни носа, ни глаз; что-то еще думает, чувствует за этим лбом, а потом – ничего. Люди устремляются к смерти из страха перед ней.
Это так непонятно! Вот как устроен человек – ничто, слывущее всем; а потом – ничто совсем. Гавийе понимает, что будет ничем. И ему так страшно, что его не будет, и он решает: «Скорее перестать быть чем-то!» Вот как устроены люди. Они устремляются к смерти из страха перед ней. Думая, что удаляются от нее, идут ей навстречу. Пустота их влечет, как в горах перед бездной: делаешь шаг, чтоб не упасть, и падаешь; опасаешься, что упадешь, и падаешь из-за опасений.
Гавийе открывает ящик комода, берет револьвер.








