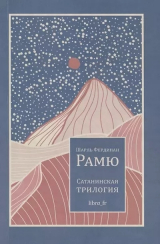
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
XV
И вот настало утро…
Питом по-прежнему дистиллировал. Толстушка Мари пошла наполнить ведро у фонтана. Печальная Люси (которая уже не могла больше печалиться) шила возле окна.
Какой-то мужчина доставал из кармана трубку, набивал ее, чиркал спичкой о штаны, ждал, пока сера перестанет полыхать, и подносил к трубке с приподнятой крышкой дрожащий огонек.
Влюбленные, как всегда, отправились на прогулку. Адель вновь уложила ребенка.
Она запела песенку, чтобы тот уснул, но теперь она никогда не успевала допеть, настолько быстро малыш засыпал.
Малыш спал. Влюбленные вернулись с прогулки. Мужчина выкурил трубку.
Он совал трубку в карман. Тут-то и появился Бонвен, с раннего утра отправившийся в путь. Люди видели, как он взбирается по склону по направлению к Анпрейз. Он никому ничего не сказал, еще в прошлой жизни привыкнув обходиться без компании и жить вдалеке от остальных, на чистом воздухе, на воздухе, которым никто не дышал, где нет ни домов, ни даже тропинок. Он цеплял к шляпе горный цветок, совал под ленточку перо сойки, и шел большими шагами, глядя вперед, так ему нравилось.
Терез, как всегда, была наверху с козами. Он позаботился о том, чтобы она его не заметила.
Бонвен направился по узким коридорам, где уже ходила Феми, там Терез не могла его видеть. Время от времени выходя на оголенное пространство, он смотрел в сторону Терез, но она по-прежнему вязала чулок, даже не поднимая головы, он перебегал к следующему проходу меж скалистыми глыбами.
Он сказал себе: «Надо пойти взглянуть, женщины вечно выдумывают. Они приукрашивают, фантазируют. Может, все, что они понарассказывали, – чистая выдумка. Но хотя бы узнаю, откуда ветер дует…»
Он добрался до входа в ущелье, где пробежала коза, где прошла Терез и, в конце концов, Феми. В отличие от них, он рассчитывал не бросать все на полпути, говоря себе: «Надо только рассуждать здраво. И, если потребуется, пойду до конца…»
XVI
Шемен по-прежнему работал над картиной. Вдруг он отвлекся и глянул в сторону, и вот видно уже, как он бежит к двери.
Из застекленной двери вид открывался на север, то есть на горы. Над ними – над той их частью, что представала взору, то есть над самыми вершинами, – поднимался столб дыма.
Дыма было столько, словно горели осенью груды валежника, словно жгли на краю полей сорняки (но сорняков больше нет, и осени нет, а дымная туча все росла и росла).
Шемен спросил себя: «Да что ж это такое?» Он стоял и смотрел. Но вот послышался топот, кто-то бежал мимо дома; он различил, что его зовут: «Шемен!» Увидел, что это несется Феми; она-то должна была знать, в чем дело, ведь она же его звала; и вот он распахнул дверь, но Феми была уже далеко, продолжая нестись вперед.
Было слышно только, что она все время кого-то зовет, это была Адель; она кричала возле дома Адели. Чуть поодаль стоял дом Августена, Феми принялась звать Августена…
Из дистиллятора в доме Питома время от времени падали капли; Питом удивился, что их мерный звук стал вдруг неразличим.
Он сидел на табуретке возле куба и еще ничего не видел; он понял, что творится что-то не то, по звукам; вернее, по их отсутствию: настала тишина, словно остановились часы.
Капли по-прежнему падали; и Питом понял, что тишина происходила от шума, царившего снаружи, глухого и непрекращающегося; от гула, различить который можно было не сразу, только вот он скрадывал другие, менее значительные звуки.
Питом вытер руки о зеленый саржевый фартук, спрашивая себя: «Что же там происходит?» Он подошел к двери, раскрыл ее в то же время, что и Шемен – свою.
Он сразу увидел, что солнечный свет померк, и хотел уже было пойти на улицу, но нельзя вот так вот бросать дистиллятор, если хочешь хорошо сделать дело; и он вернулся и сел на табуретку у куба.
В это время Шемен шел уже в сторону площади. Той, что перед церковью. На площади росла липа, возле нее стояла старая гранитная скамья, огибавшая огромный ствол, похожий на башню. Многие направлялись туда же, куда и Шемен; они добрались до площади, увидели, что липа по-прежнему на месте, как и рыжий мул, привязанный к дереву; пытаясь сбежать, он вытягивал шею. Липа стояла на месте, но тени под ней не было, вся земля теперь была одного цвета, она вся почернела, словно только что прошел дождь; мул дергался и бил землю копытами.
Никто еще не знал, что творится; все были обеспокоены, пока еще только обеспокоены; часы пробили (хотя теперь они звонили только для красоты, но люди начали считать удары); все это происходило среди по-прежнему слышавшегося великого шума, и нельзя было распознать, откуда он исходил: несся он над часами или под ними, или из-под земли, – не был ли он в нас самих, не мы ли сами его придумали? – такое ведь тоже могло случиться; и все переглядывались.
Все переглядывались, а потом повернулись к горам; увидели, что дыма в вышине стало еще больше, он заслонял почти половину неба, заменив его, нависая над нами.
На севере над стеной гор вставала стена из дыма. Все, что было серым, стало бурым, желтое – рыжим, зеленое – черным. Это было в стороне Анпрейз и там, где Прапио. И вот уже нет ни Анпрейз, ни Прапио. Волнение нарастало. И уже давно, не правда ли? Сколько они себя помнили, никогда больше не было ни единого облачка: теперь все время небо окрашивалось ровной синевой, словно только что покрашенная стена, и тени верно лежали возле стволов, как стрелки на циферблате, и, когда я вытягивал руку, сбоку от меня появлялась ее тень, будто вырастала еще рука… Сейчас теней не было, все превратилось в сплошную тень. Воздух стал таким, каким был на земле прежде. Перед ними не осталось ничего, кроме бурой толщи, словно поднялся туман. Но вот в одном месте она разошлась, послышался шум, будто началась гроза, – это было в стороне, где дорога уходила вниз, ее словно бы затопило, как если б и в самом деле начался проливной дождь, – то мчались козы, стадо спускалось в жутком переполохе, потом позади появилась Терез, она махала палкой и орала, как дикая:
– Хо! Хо!
Они попытались ее позвать:
– Терез!
Ведь она спускалась сверху и, может быть, знала, в чем дело; но она, ничего не слыша, принялась вопить еще громче:
– Хо! Хо!.. Хо! Хо!
Она уже исчезла, и снова не было ничего, лишь приближались клубы дыма, заполонившие пространство перед горами, так что оставались различимы лишь ближние травяные склоны, от контраста ставшие будто еще зеленее.
Они по-прежнему глядели туда и, чем дольше, тем меньше видели. На них опускалось нечто наподобие занавеса; и он вначале был за этим занавесом, он появился откуда-то с обратной стороны, вначале он был едва различим, махал руками, оглядывался, продолжая бежать, оглядывался снова; и вот он уже совсем близко, на той части склона, что еще видна взорам, в начале луга. Это был Бонвен! Охотник Бонвен!
– Бонвен!
Люди кричали:
– Бонвен! Бонвен!
Он остановился.
Но только потому, что ему надо было перевести дух. Руки болтаются вдоль тела, голова чуть откинута назад; развернувшись, он поднял руку, словно пытаясь уберечь лицо от удара, сзади него послышался звучный хохот.
– Бонвен! Бонвен!
Они уже не понимали, что делают и что говорят. Не знали, что делать и что говорить. Внезапно свет померк, настала темень. И всех их стало не видно.
Ночь опустилась раньше положенного срока; ночь без звезд, какой прежде никто и не ведал.
Они пытались в домах зажечь керосиновые лампы и, когда подносили к фитилю спичку, руки дрожали, кусочки горящей серы отскакивали на штаны. Они старались сесть за стол, но не могли, как не могли стоять. Они больше не знали страха, но он возвращался, так получается? Может быть, еще не совсем, но почти. И что ж за странная вещь! Это происходило у Питома в доме (у него собралось много народа): он протягивал всем по тяжелому стеклянному стакану, до половины заполненному жидкостью, похожей на воду, но это была лишь видимость, – многие отказывались, многие качали головой, – но те, что соглашались, вдруг испытывали прежние ощущения, те самые, что были в прошлой жизни; жидкость действовала, внутри все обжигало, жар спускался к желудку, разрастался, заполнял все тело, ударяя в голову.
Они говорили все вместе, потом внезапно смолкали, словно кто-то поднимал руку, требуя тишины. Но никто не поднимал руки. Снова принимались говорить, снова смолкали, глядели друг на друга, опускали глаза. А из куба уже несколько часов капало гораздо меньше, капли были уже не такие большие и падали реже, и ликера получалось гораздо меньше.
В чанах, где мокли корни, вновь появилась пена; вновь началось брожение. И Питом, качая головой, показывал пальцем:
– Странно, все опять стало грязным!
И дальше:
– Кажется, мы возвращаемся к прежнему.
Послышался будто громкий вздох, и что-то скользнуло из-под двери.
Ветер? Нет, не ветер.
И снова из-под двери пошел гул, что-то скользнуло по стенам, прошлось по крыше. Потом послышалось, словно кто-то бежит, подбегает к дому.
– Ты хорошо все запер? – спросили Питома.
Но кто-то бегал у дома. Застучал в дверь. И Питом:
– Кто там?
Он пошел было отворить дверь, но она сама распахнулась, и вот входит в дом человек, его будто втолкнули снаружи, вот он делает шаг, еще шаг, останавливается, челюсть у него отвисает, он медленно обводит все взором, не понимая, где находится.
Надо было им самим с ним заговорить, подойти к нему и хорошенько встряхнуть:
– Бовен! Эй, Бонвен!
Тогда он:
– Берегитесь!.. Берегитесь все!
– Да о чем ты?
– Они… Они приближаются.
– Кто?
– Я был там… Я дошел до самого низа… Я их растревожил…
– Да о ком ты?
Но он опять повернулся к окну, рот опять раскрылся, и разговор снова прервался, все повернулись в ту же сторону и увидели, что наверху появилось алое свечение, оно будто было разбито на маленькие квадраты.
Отступая назад, он снова показал рукой в ту сторону; это светились окна домов; в них отражался алый свет, он осветил их всех, разгораясь в небе, словно извергался огонь из вулкана.
Дом задрожал, стены шатались, двери трещали, все устремились наружу, испугавшись пока лишь того, что обрушится крыша.
Так было и у Питома, и у его соседей, и во всех соседних домах. Из всех домов люди устремились наружу, а затем по улочкам к одному и тому же месту на открытом воздухе. Ступеньки лестниц, по которым они сбегали, направляясь все к одной цели, были окрашены черным и алым.
Это место было на входе в деревню, откуда можно осмотреть все окрестности.
И все, кто туда шел, были окрашены черным и алым. Идя друг возле друга, все были окрашены в черный и алый, и фасады домов по дороге на одной стороне были алыми, а на другой черными. И у людей с одной стороны щеки были алыми, а с другой черными. У всех, кто шел здесь, кто вместе с остальными поднимался наверх. Были тут Бе, Продюи, Сарман, Делакюизин, Бессон. Они увидели, что Феми побежала за Катрин (они обе должны были обо всем знать) и шла, поддерживая ее, а Катрин вела за руку малышку Жанн. Они шли друг возле друга и друг за другом тесной толпой, было лишь одно место, где они могли надеяться на безопасность. И все, в конце концов, туда добрались. И все перед ними заполыхало.
Земля вновь содрогнулась, и снова раздался гул, похожий на гул ветра.
Единственное безопасное место было и лучшим для обозрения. И они были вынуждены смотреть, вынуждены стоять напротив творившегося, вынуждены при том присутствовать. И вначале они увидели, что горы раскалились добела и стали прозрачными, как стекла в печи; затем поднялись последние столбы дыма. И тогда они глядели, как глядят через лупу, поместив увеличительное стекло меж глазами и книгой, буквы увеличиваются, приближаются, превращаясь в слова, во фразы, приобретая смысл.
Оно выходило наружу из всех ям, из всех расщелин, из всех трещин. Как бывает, когда лопается труба водопровода, вырывается из рук поливальный шланг, бьет зашкаливающий напор. И снова послышался голос, голос Бонвена: «Это я виноват!» Все время он будет вторить: «Это я виноват!» Вот опять: «Это я! Все я!» Но оно и без слов было понятно. Это были те, что с исподу! Те, что внизу! Те, что под нами, получившие взыскание! Те, о которых больше не думали! Те, кто пребывает в вечных мучениях, но они шли, поднимались сюда. Они кучами вываливались наружу, таща друг друга, падали по двое, по трое; по двое, по трое катились по склону. Их освещало пекло, они были совсем рядом, так близко, как никогда в реальности, и можно было рассмотреть их до мелочей. Как на картинах в прежние времена, как на церковных росписях. У кого-то не было рук, у кого-то – лица, или же это была всего лишь рука, или безногое тело. Без кожи, с оголенной плотью, или же, наоборот, не было плоти, и кожа присохла к костям. Они катились по склону, а потом, остановившись, двумя руками отбрасывали назад волосы, потому что те, падая на лоб, свисали до самой груди; откидывая волосы за одно плечо, за другое, они смотрели. Они ухмылялись, они приближались. – И с другой стороны были эти, все они тоже смотрели, были вынуждены смотреть. – А те внезапно их различали и еще больше хотели приблизиться. Они насмехались, грозили. Один из голосов зазвучал громче других: «Эй!» И затем: «Мы идем!» И все бессчетное число их захохотало. Все смешалось, страсти роились в беспорядке, как и тела. Одна из тех увидала Адель, тогда можно было различить и ту, с другой стороны, и та качала перед собой пустоту; та была красива, ее груди выпростались наружу. Та прижимала к ним нечто – ничто – дитя, которого у нее больше нет, дитя, о котором та думала, что оно по-прежнему принадлежит ей; и вот она вопит Адели: «А! У тебя ребеночек! Подожди немного! Сейчас я до тебя доберусь!..» Те, кто страдал в душе, перемешались с теми, кто страдал во плоти. Вот одна из тех, она все ищет, ищет, ищет, а что она ищет? Она никогда не найдет, но все время будет искать. А вон другая, без Августена, сестра Августин; заприметив Августин, она бросилась вперед, упала, поднялась, снова упала; и тогда покатились на нее еще трое или четверо.
И эти, все время стоявшие на возвышении, – Катрин прижала малышку Жанн лицом к фартуку; Питом, как всегда, сжал в кулаке бороду; Бе говорил: «Почему я не слеп, как прежде?!» – все они были здесь, все они должны были это видеть. Они пытались двинуться с места, убежать, старались оторвать от земли ноги, кренились в сторону, словно стебли, которые хотели бы выдрать с корнем, – все было напрасно.
А наверху все по-прежнему роилось, кишело, число тех было безгранично, они поднимались, словно волны, наваливающиеся друг на друга, за одной шла другая, а потом снова; те поднимались, заслоняли друг друга, без остановки; и стоявшие здесь, думая, что с ними было, кем они были, восклицали: «Довольно!..»
Но все это просто так не могло закончиться, есть порядок. Те наверху были наказаны, поэтому они были бессильны. В какой-то момент они отпрянули, увлекаемые друг другом и своими страстями. Они друг другу мешали. Они оттаскивали друг друга назад. Не в силах стать первыми, они предпочли не быть вовсе. И так же, как появились, исчезли.
Было явлено то, что нам могло бы грозить, дабы мы лучше себя познали. Затем великое ущелье раскрылось, словно глотка, и всех поглотило.
Снова повсюду нависла тень. Снова повалил дым, как было в начале. Горы постепенно потухли, словно кто-то унёс зажженную лампу в дом.
XVII
Наконец вновь простерлась для них земля, а над нею небо; настала радость, какая бывает, когда с ней соседствует горе.
Шемен понял, почему не получалась его картина, и уже на следующий день принялся ее переделывать; теперь картина была поделена на две части: верхнюю и нижнюю.
Люди заходили к нему, чтобы взглянуть, «как продвигается дело».
Они заходили, приветствовали его, садились у верстака; смотрели, как Шемен берет со стекла краски, и теперь среди красок была и черная.
В верхней части была дивная лазурь, розовые, белые, нежно-зеленые краски; в нижней – красные, черные.
Слышался рожок Терез. Она проходила со стадом у дверей мастерской. Когда она подносила рожок к губам, он сиял бликами. Время от времени какая-нибудь из коз мешкала у обочины, чтобы пощипать траву. Но Терез поднимала палку и:
– Тэ! Тэ!
А потом дудела в рожок…
В этой стороне, наверху, живем мы, и мы счастливы; в этом краю люди счастливы, они знают, в чем заключается счастье; у здешних людей радостные лица, а вокруг царит мир под серыми скалами, под белыми или розовыми снегами; мы – счастливые люди, живущие в верхней стороне, но…
Есть ведь и другая сторона. И собравшиеся в мастерской Шемена говорили ему:
– Как странно, мы не понимали, что нам нужно. Не знали, чего нам недостает.
Они говорили Шемену:
– И ты тоже не знал…
Шемен кивал.
– Но теперь мы все знаем.
Шемен качал головой.
От переводчика
Роман Царствование злого духа (Le Regne de I’esprit malin) открывает большой цикл «мистических» произведений Шарля Фердинана Рамю, основанных на библейских сюжетах, народных сказках, легендах и мифах швейцарских деревень и высокогорных селений. До выхода этой книги Рамю традиционно воспринимали как реалиста. Правда, возникали разночтения: о каком именно реализме идет речь? Конечно, не о социальном: писатель был далек от психологического анализа, свойственного французским романам конца XIX – начала XX в. Чаще всего речь шла о «лирическом» или «поэтическом», а позже – о «субъективном» реализме. Отображаемую автором действительность критики характеризуют как частную и самобытную, а некоторые тексты называют «поэмами в прозе».
Отходя от «натуралистических» мотивов, Рамю пытался пересмотреть свой литературный стиль, изменить композицию произведения, писать иначе. Из его текстов постепенно уходят главные герои, имена которых прежде выносились в названия книг, повествование становится полифоничным: речь идет о группе людей и целых деревнях, о множестве лиц, у каждого из которых своя история. Рассказчик может быть свидетелем событий или передавать воспоминания других людей, постепенно становясь всезнающим и почти незримым.
Замысел «Царствования злого духа» возник в 1907 г., когда был составлен предварительный план текста и появились первые названия: Дух зла в деревне (L’Esprit du mal dans le village) и Злой дух (L'Esprit malin). Но, как и многие другие начинания, роман был заброшен. Рамю вернулся к нему лишь в 1913 г. Основная идея произведения сохранялась на протяжении всего времени работы, но менялись стиль и детали. К примеру, в первых вариантах текста башмачник плохо говорит на языке деревенских жителей, из-за чего его считают немцем или итальянцем, а вместо пророчествующего Люка против него выступает сумасшедшая Фимонетт.
Первая версия романа создавалась с октября по декабрь 1913 г. в Лозанне, в начале следующего года она была отправлена в знаменитый журнал Mercure de France и вышла в свет по частям в июне и июле 1914 г. В журнальной версии деревню спасает появление маленькой девочки Мари Люд, которая спускается с горного склона за снадобьем для заболевшей матери. Деревенские жители отговаривают ее идти дальше, грозя тем, что встреча с башмачником ее погубит, но Мари непреклонна. Когда она встречается лицом к лицу со злым духом, с него спадает одежда и кожа. Черное существо с хвостом и рогами, взвыв, начинает вертеться на месте и устремляется прочь. Вослед несутся его приспешники. Слышится орган, небо расступается, появляется божественная лестница, и на землю нисходят поющие ангелы, возвещающие об искуплении. Мари по-прежнему спешит к матери, народ с хвалебным пением понемногу расходится, ангелы поднимаются ввысь, и деревня обретает новую жизнь.
В книжном варианте роман выходит в 1917 г. в Лозанне, претерпев большие изменения. Серьезно переработана последняя глава, которую Рамю переписывал семь раз. В итоге меняется причина появления Мари: она слышит в сердце призыв отца, которого находит после встречи с Браншю. Когда девочка оказывается перед башмачником, жители деревни в страхе разбегаются по домам и читатель не знает, как исчезает злой дух. После землетрясения разрушенные дома поднимаются вновь, люди излечиваются от болезней и, выйдя на улицу, ищут Мари. Девочка тем временем встречается с отцом, под звон колоколов они отправляются к матери.
Затем роман был издан в 1922 г. в Женеве и в 1937 г. в Париже. Рамю снова вносил изменения, сокращая описания деревни и сельской жизни, вычеркивая целые абзацы, где присутствие автора было слишком явным, нивелируя описание чудес, имеющих отношение к христианству, и делая акцент на необъяснимых и фантастических деталях. В финале Мари в реальности слышит слова отца, который постоянно кружит возле шале, где девочка живет с матерью. Издание 1937 г. пользовалось большой популярностью, а Рамю – писателя, скорее, провинциального – причислили к ряду великих франкоязычных авторов.
С 1940 по 1941 гг. в Лозанне выходило полное собрание сочинений писателя. Царствование злого духа вошло в 8-ой том, в текст были внесены лишь незначительные изменения. Казалось бы, наконец-то роман обрел итоговую форму. Но в 1946 г. он вновь печатается отдельно, и в этом издании Рамю опять изменил 7-ую главу, вернувшись к варианту 1917 г. и поместив события в далекое прошлое, о котором рассказывают старики.
Вероятно, принять какую-либо из версий за окончательную для Рамю было почти невозможным, как и в случае с другими произведениями. Он постоянно стремится соотнести текст со своими последними литературными воззрениями, облечь давнишний замысел в новую форму. Его писательские труды практически бесконечны, а проекты, от которых он не отказывается, становятся порой все насыщеннее и проще. В итоге сюжетные границы целого ряда романов словно размыты, персонажи кочуют из текста в текст, сюжетные линии не прерываются с концом книги, находя продолжение в следующей, события, их вариации множатся, складываясь в огромную Книгу странного, мистического бытования полузабытых швейцарских селений: Рамю создает подлинный эпос.
*
Готовя в 1922 г. первое издание романа Смерть повсюду (Presence de la mort), Рамю добавляет в начале машинописного текста: «В память о лете, когда мы могли подумать, что такое реально». Лето 1921 г. на берегу Женевского озера выдалось действительно жарким – рекордные 38° в тени. В мистическую, полную тайн и легенд, а порой и откровенно религиозную ткань последних романов вмешивается реальность, правда, она сразу же переосмысляется: оказывается, необычная жара вызвана тем, что Земля соскочила с орбиты и несется к Солнцу, скоро все на ней высохнет, сгорит и погибнет. Но интрига, заявленная в начале романа, постепенно отходит на второй план, уступая место отдельным, порой разрозненным картинам, повествование становится рваным. Рамю добивался такого эффекта сознательно. Начиная с 1919 г. писатель пытался выработать новый принцип построения художественного произведения, теперь оно состоит из фрагментов, объединенных лишь изложенным вначале мотивом природной аномалии и голосом рассказчика. После выхода романа критики писали, что подобный принцип литературе не свойственен, это скорее киномонтаж, устраняющий вдруг всех главных героев и дробящий линейный сюжет.
Этому предшествовали многолетние поиски: мы встречаем в романе мотивы произведений, которые так и остались незавершенными – мотивы наброска Постройка дома (Construction de la maison, 1914), романов Окончание зимы (Sortie de I'hiver, 1920), Возвращение к жизни (Montee a la vie, 1920) и Труд в карьерах (Travail dans les gravieres, 1921) – пассажи из этих текстов сошлись воедино, в то же время от книги как бы отслоились другие – законченные романы Приход поэта (Passage du poete, 1921) и Разделение рас (Separation des races, 1922), а также роман Жизнь в небесах (Vie dans le del), который в 1921 г. Рамю бросил, а позже вернулся к нему, сочинив своего рода продолжение Смерти повсюду и изменив название на Небесную твердь (Terre du ciel). Одно перечисление этих вышедших в свет или же брошенных книг, задуманных в течение всего двух лет, создает впечатление постоянно плывущего перед глазами текста, который надо лишь правильно раздробить. С помощью монтажа небольших картин Рамю пытался вывести на первый план судьбу не конкретного человека, а всего человечества, создать отпечаток эпохи, нравов, людского естества.
Рамю начал писать роман в августе 1921 г. и закончил в следующем апреле. Рабочим названием было Конец света, в дневнике писателя сохранилась пометка: «Писать так, словно тебя лихорадит, колотит от жара, все должно идти изнутри». Складывается впечатление, что до самого конца романа, который в первой версии насчитывал на три главы больше, автор стремится оттянуть любую догадку о том, что же случится в финале. Рамю сочинял Смерть повсюду и Приход поэта одновременно. Явление поэта – безымянного корзинщика – должно было стать второй частью Смерти, тогда вся развязка, согласно дневникам писателя, зависела бы от того, как отреагируют на его приход жители деревень, терпящих бедствие. Идея, волновавшая Рамю в то время, была такова: может ли поэт повлиять на человеческую разобщенность, соединить разбитое на части, залатать бреши мира? Этот же вопрос сквозил в упомянутых выше незаконченных произведениях. Работая над романом из разных «монтажных планов», которые Рамю постоянно тасует, меняя главы местами, он словно дает нам ответ: кладет перед нами Книгу. Да, корзинщик-поэт-автор может соединить разрозненное, но не только.
В окончательной версии романа поэт пропадает, зато практически все время на виду сам автор, мы его как бы и не замечаем, это безымянный писатель, который сидит за столом и пишет только то, что происходит на самом деле, он называет вещи и они начинают существовать. Образ словотворца, умершего во время работы над текстом, маячил перед Рамю с 1914 г., – тогда появился первый монтажный фрагмент с таким же названием – Смерть повсюду, – и только несусветная жара дала толчок использовать его в большом сочинении. В итоге в романе есть второе, параллельное измерение: если поменять угол зрения, окажется, что этот текст не столько о конце света и порочной людской породе, сколько о роли писателя в создании-воссоздании мира. Если он не может сблизить людей, он может соединить мир, залатать его раны. Главы с перечислениями катастроф и злодеяний перемежаются описаниями создания текста, парадоксальным образом они как бы промелькивают незамеченными, читатель ищет сюжет и попадает в ловушку. Безымянный автор за крепко сколоченным письменным столом называет вещи, и сюжет продвигается, возникает новая картина, но читателя ведь предупреждали: захочет писатель, чтобы воды остановились, и они остановятся, захочет – и они потекут вновь. Захочет – конец света наступит, – все в его власти. Иначе говоря, реальность – это не то, что творится за окном, а то, что об этом написано.
Роман-обманка заканчивается неожиданно: в последней главе говорится о спасшихся, читателю открывается панорама деревни, о которой прежде ничего не рассказывалось, финал получает ярко религиозную окраску, наконец-то становится ясной «мораль». Критики ошибались, утверждая, что финал нелогичен. Рамю, все укрыв от читателя, словно случайно завершает роман таким образом.
Столь долго сдерживаемая развязка – третье измерение текста – скрывает от нас рассказчика, к тому времени все и так о нем позабыли, следя за последовательностью событий, отыскивая привычную сюжетную канву. Автор продолжает рассказывать, описывать, но себя больше не упоминает, его «я» исчезло из повествования, уступив место тем, кто может спастись. Среди них его нет, как нет и среди погибших. Голос его звучит откуда-то издалека.
Как описать мир, в котором больше не существует порока, если язык романиста принадлежит миру греховному? Рамю пытался ответить на этот вопрос задолго до того, как начал работать над Небесной твердью (Terre du ciel). Заглянуть по ту сторону смерти писатель старался множество раз: отголоски текста об иной жизни мы находим еще в 1910 г., когда в сборнике Повести и отрывки (Nouvelles et morceaux) были опубликованы рассказы Небесный покой (La Paix du ciel) и Бедный корзинщик (Le Pauvre Vannier).
В Небесном покое речь идет о безымянном человеке, воскресшем и вновь оказавшемся в своей деревне, воссозданной по образцам минувшего. Он снова встречается с женой Марией, которая умерла прежде него. Они любят друг друга, но у женщины не осталось воспоминаний о земной жизни, тогда как муж сожалеет об утрате глубины чувств: он думает о давних горестях, о том, как сильны были страдания, которых в вечном покое он уже не испытает. Однако воспоминания постепенно стираются, и он воссоединяется с небесным миром. В рассказе Бедный корзинщик Рамю повествует о старом Ансельме, решившем отправиться в горы и идти, пока не упадет от изнеможения, поскольку никому из людей он больше не нужен. В спустившейся на мир великой тьме он вдруг различает, что горы запылали и стали прозрачными, а впереди раскрылось ущелье. Ансельм направляется туда и попадает в рай, но уже через несколько дней начинает скучать по своему ремеслу. Старик не может отыскать ивовых прутьев и решает сходить за ними. Его предупреждают, что в следующий раз вход в мир праведников может оказаться закрыт. Через некоторое время пастухи находят в горах тело Ансельма. Неизвестно, был рай предсмертным видением или же Ансельм в действительности недолгое время пробыл среди избранных. Этот сюжет Рамю позаимствовал из новеллы Вход в рай (Der Gang ins Paradies), вошедшей в сборник О чем рассказывают жители Альп. Сказки и предания Воле (Was die Sennen erzahlen. Marchen und Sagen aus dem Wallis), опубликованный в 1907 г. в Берне. Позже Рамю объединит мотивы альпийских легенд с библейскими; странствующего корзинщика, который не может отыскать себе места, мы увидим в романе Смерть повсюду, а по заснеженной горной тропинке пустится, ища свою смерть, никому не нужная старая Маргерит в Царствовании злого духа. К миру, в котором больше нет ни времени, ни смерти, Рамю вернется через шесть лет, когда с июня 1916 г. по август 1917 г. будет сочинять роман Воскрешение тел (La Resurrection des corps) – именно так называлась первая версия. В конце этой версии Рамю отчасти дает ответ, как и почему слова земные могут возвыситься до мира горнего: слова – ничто, но выраженные в них устремления – все! Тем не менее, Рамю оставляет этот проект на неопределенное время, признавшись в дневнике, что в произведении «не хватает реальности».
В 1921 г. Рамю переписывает роман, меняя всю структуру, а также название, теперь это Жизнь на небесах (Vie dans Ie ciel). В нем приводится перечень всевозможных людских тягот, а за описанием жизни земной идет описание жизни небесной. На небесах при этом расположен не рай для праведников, но совершенный прообраз того, что творится под облаками. Два мира существуют параллельно и пребывают друг для друга невидимыми. Но вот несколько праведников отправляются в селения вечные, и вдруг небесная твердь становится прозрачной, внизу видна земная деревня и все, что на земле происходит. Одна из героинь начинает жалеть о тех временах, когда счастье было столь полно, поскольку было и горе, с которым его можно сравнить. И внезапно небесная твердь начинает трескаться. Эту версию в сентябре 1921 г. Рамю забраковывает как излишне философскую и многословную. Писатель возвращается к первой версии, то есть к Воскрешению тел, дополняет ее несколькими фрагментами из Жизни на небесах и в течение месяца готовит к изданию, озаглавливая Небесная твердь. Второе издание выходит с заголовком Радость на небесах (Joie dans le ciel) в 1925 г., и снова текст значительно переработан: порядок глав изменен, сделано множество сокращений: исчезли новые усопшие праведники, явившиеся за облака, сообщения с миром живых больше нет, удалена сцена с явлением божественной лестницы, ангелов и золотого Престола. Земной мир изображен как соединение добродетелей и пороков, на небе пороки отсутствуют, в аду – сплошные страсти; это не столь традиционная картина рая и ада, поскольку жители мира горнего встречаются в конце с самими собой – такими, какими бы они были, если бы не раскаялись в содеянном. В 1940–1941 гг. при подготовке собрания сочинений Рамю вносит в эту, последнюю версию лишь мелкие исправления, название же снова меняет на Небесную твердь, констатируя, что данный текст является каноническим.








