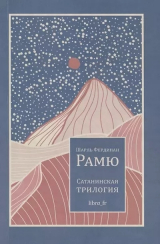
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
29
Все умолкло, настала мертвая тишина и внизу, и вверху, с двух сторон и в промежутке меж ними.
Какое-то время они еще шевелились там, внутри, потом перестали, замерли. Какое-то время кричали, потом умолкли. Во всех концах огромного мира – люди, жившие в его противоположной стороне, бесконечно далекие и те, кто был совсем рядом, – звали, молили, – белокожие, краснокожие, чернокожие, желтокожие – они долго шли, крича, они падали на колени перед видимыми и невидимыми богами – нарисованными или выточенными из камня, из дерева, обретающимися внутри или снаружи, – люди молили их, проклинали, танцевали, кружили, играли для них на музыкальных инструментах – на там-таме, на барабанах и однострунной скрипке, на медной трубе или роге, перебирая струны на арфе, – играли музыку, молились, танцевали…
Словно прошел по земле пастушок, сделал привал, развел костер.
Пастушок развел костер, потом, сунув руки в карманы, ушел.
Вот серый круг, вот черный круг, вот круг цвета ржавчины – это бывшие города, – пастушок развел огонь, затем пошел прочь, посвистывая.
Нигде ни души. Разве что, может быть, – в изножье изгороди, рядом с местом, где был колодец, у ручьев или там, где прежде рос лес, среди его разбитых колонн, среди оставшихся стоять или клонящихся в разные стороны деревянных обломков – тела, – тела, если б кто-то приблизился.
Вот этот человек замер в такой-то позе (а, если б можно было всмотреться, то не один человек, а сотни); другие – в другой, лежат, простершись, плашмя или же сложились так, что ноги торчат выше головы, скрючившиеся или заваленные камнями, без ног, без рук, без голов, многие замерли возле окон, другие – упершись лицом в стену, руки повисли.
Сотни и сотни сотен, невероятное число без движения; лишь некоторых еще сводит последняя судорога. Пальцы сжимаются, скребут землю. Под распущенными женскими волосами – затылок, тело сложилось пополам, растрепанная голова уткнулась меж ляжек. Другая женщина сидит, отбросив волосы назад, опираясь о локти – она все видела, но лучше бы наоборот, лучше бы она не смотрела. А вон тот человек, дальше, долгое время не двигался, внезапно он побежал, упал на колени, встал, снова упал…
Летчик садится в кабину.
Проснувшись после долгого сна без видений, словно восстав после странного небытия, после первой смерти, он приходит в себя на походной кровати.
Он ощупал себя – цел, он под металлическим навесом в ангаре, – ангар тоже цел. Он заводит двигатель.
Он различает внизу небольшую баржу, спускающуюся по воде, что осталась от речки, никто баржей не управляет, рядом плывут трупы лошадей: сначала лошади волокли баржу, теперь та волочет лошадей. Баржа пристала к песчаной отмели. Встала поперек русла, покачивается из стороны в сторону, времени у нее много. Спешить некуда. Баржа склоняется набок, встает попрямее, снова клонится набок. Сверху она совсем маленькая, она все еще куда-то движется. У нее есть время. «А у меня? У меня есть?» Шумит мотор, и среди этого шума: время, но для чего? Набирая высоту: на что это время? Что в это время делать? И все же он набирает скорость, поднимаясь выше, выше, куда-то еще, – впереди густая поволока тумана, которую нужно преодолеть, – туда, где больше нет никакого времени, будто желая из времени вырваться. Тысяча метров, две тысячи, три тысячи метров, и вот человек в летающей машине сгорел. Вновь появившееся в небе солнце было, словно раскаленное железо. Напрасно человек в летающей машине, совершая резкие виражи, постоянно менял направление, каждой клеткой обожженного тела он чувствовал невыносимую боль, словно к нему в самом деле прикасалось пламенеющее железо. Куда бы и как бы он ни поворачивал, боль следовала за ним, проникала все глубже.
Он был вынужден сбавить высоту. Изгнанный сверху, он спускается, погружается в белую муть. Раздевшись, сбросив шлем и кожаную одежду, оставшись почти в белье, на скорости пытаясь нагнать иллюзию свежести, брызгая маслом, он начал спускаться все ниже. И снова пустыня и тишь. Он один издает шум, это его удивляет и злит. Он ищет ответ, ищет внизу хоть какие-то очертания, схожие с собственными. Нигде он не различает жизни, кроме своей, ему кажется, что и его самого больше не существует. Он в гневе осматривает все внизу. Вот она, неисправность. Он спускается еще ниже в поисках чего-то, схожего с ним. Еще ниже, ничего не видно, все словно в дымке, в пыли, и вот уже бесконечные просторы озера. Оно демонстрирует ему водную пустошь, гладкую, неподвижную, словно лист металла, совершенно спокойную и замершую, оголенную, без каких-либо отражений, изображений, ответов. Сомкнутую, немую, безразличную, которая ничего не знает, ничего не видит, не слышит.
Он бросает штурвал. Он – словно орел, подстреленный на лету. Самолет падает всем своим весом, обрушивается, будто в колодец, показавшийся в толще воды.
Вода на мгновение взмывает вокруг него ввысь и сразу же опадает.
30
Покидая большую долину, никто и не думал взглянуть на долину другую, она была гораздо меньших размеров и располагалась по соседству, в стороне за ущельем; все шли прямо вдоль одинокого отрога, представлявшего собой словно настил, помост для выхода из большой долины. Тем не менее, в той стороне, скрытая от всех взоров, стояла маленькая деревушка. Вела туда лишь кривая тропинка. По ней поднимались, неся флягу, на спине – холщовую сумку, по дороге снимая куртку, расстегивая воротник, засучив рукава рубахи. В начале дороги был жуткий каменистый склон на солнцепеке. Внизу склона построили (недавно) большой битумный завод. Надо было идти мимо заставлявшей вертеться турбины огромной и черной трубы диаметром метра два и высотой человек с десять, – вы поднимались, она опускалась, – издалека она смотрелась как огромная черная линия, и вначале было не понятно, что это, ничего подобного в природе не существует.
Идти надо было все время вверх, глядя прямо перед собой. Постоянно осыпавшиеся мелкий песок и галечник, выскальзывавшие из-под ног плоские камни приводили в отчаяние. Со всех сторон в вас ударялись мухи и шмели, неспособные менять направление и шлепавшие вам в висок, словно вас обстреливали из бузинных дудочек дети. Ящерицы лежали, замерев, неподвижно, срывались с места и неслись прочь, как человеческие мысли. Надо было идти все время вверх. Сразу же появлялась жажда, но следовало сдерживаться. Так что вы лишь плотнее сжимали губы, лишь время от времени проводя по ним языком; пытались выровнять дыхание, представляя, что то же самое приказываете стучащему в ушах сердцу. Тогда-то вы и замечали, что слышите только их, что они ограждают вас от мира, от его могучего, веющего снизу дыхания. Вы чувствовали это, когда останавливались, мгновение спустя уже слышались голоса: великие голоса вод, реки, ветра, ехал куда-то состав, кто-то кого-то звал, стучал молоток по ограде…
Когда вы поднимались, пройдя метров триста, труба оставалась справа, там надо было пересечь дорогу, шедшую в сторону ущелья и скрывавшуюся возле в туннеле.
Вы закуривали трубку. Ненадолго садились. Попыхивая, смотрели, как внизу открывается вид на целую страну. Видели, сколько солнца над прекрасной долиной, целая толща света, сквозь которую сторона эта представала будто покрытой слоем лака картиной…
Вы снова пускались в путь. Вновь подымались, идя по-прежнему прямо. Склон этот не знает отдохновения и не дает отдохнуть вам. Он говорит: «Надо преодолеть меня таким, какой я есть…» И вновь куртка поверх сумки, колышек поперек сумки, руки скрещены, чтобы сумка казалась не такой тяжелой, а давление ремешков на плечи стало терпимым, и – прямо вперед, ввысь. Начинались луга. Поднимаешься, словно воздушный шар, правда шар поднимается не так быстро. Времени, чтобы все рассмотреть, хватало. Виднелись небольшие луга. Луга бедные, земля скудная, скверная. Здешние люди довольствовались малым. Они жили в тысяче ста метрах выше, сюда же спускались косить, собирая (как они говорят) с миру по нитке, – ничего не жали, но все собирали, – находя немного того-то в одном месте, того-то – в другом, и – все время в пути, в пути по нескончаемому склону, это и было их самым большим трудом – быть всегда в пути. Поднимаясь, на маленьких лугах можно было прочесть следы жизни тяжкой, тяжкой и бедной. На пути попадалась маленькая девочка в длинной юбке и с козой на веревке; прежде, чем подойти, она долго стояла, пораженная, подзывала козу, тянула изо всех сил за веревку, животное – упертое, как все козы, – не желало сходить с дорожки, но девочка упорно добивалась своего из страха или почтения, – тут все было диким. Или же это была женщина с заплечной корзиной, или мужчина, им нужно многое носить с собой: еду, инструменты, бочонки с вином, сменную одежду, не считая порядочного груза сена, которое они волокли на себе, когда поднимались, или навоза, когда шли вниз. Путь продолжался вдоль лугов, затем все больше становилось кустарника, напирая друг на друга, кусты вырастали со всех сторон. Начиналась следующая, третья часть пути, дубовые и буковые леса, леса, росшие на подходах, поскольку вы были еще в самом начале.
Надо было пройти сквозь леса. За ними вновь начинались луга. Четвертая часть пути пролегала через луга, где перед верхней деревней располагалась нижняя маленькая деревушка. На склоне было что-то наподобие зеленого острова, напоминавшего издалека круглое пятно или залысину, место на голове у лошади, которым она, порой падая, ударяется, и где шкура кажется более светлой. В центре стояла деревушка, уменьшенная копия настоящей деревни. Крошечные домики, уменьшенные копии домиков, в которых тем не менее имелась кухня и спальня, приходили сюда на одну-две недели во время сенокоса и чтобы пасти скот. Обычно такие деревушки располагаются над настоящими, здесь же было наоборот. Путь пролегал мимо первой деревушки, вы спрашивали себя, как же она еще держится, как она еще не соскользнула со склона, как сани, которые едва можно удержать наверху, упершись ногами. Тем не менее, она стояла на месте. И вы шли мимо. Склон становился еще более суровым, что казалось невероятным, невозможным, но внезапно он круто брал вверх, горные пласты громоздились один на другой, чернея впереди, там росли сосны. Черно-красные, приглушенно красные, сверху был черный, и вы шли под черным среди красного, по горным карнизам, вдоль них, виляя, шла и тропинка. Даже здесь деревья выпрастываются из расщелин, устремляются ввысь, вкривь тянут стволы, широкими мазками рисуя картину в пространстве, которое местами скрывают, и вот вновь разверзается бездонная пропасть, и вы парите над нею.
Надо было еще долго идти вверх, это было уже выше мест, где росли деревья. В какой-то момент склон обрывался. Перед вами представала настоящая деревня, простершаяся надо всем, когда уже неизвестно, на что смотреть и куда смотреть, и вот – деревня, перед которой или позади которой – ничего, великая пустота, и пустота эта вас призывала…
Одна из подобных деревень, которая, если подниматься к ней снизу, кажется бурой и белой, а сверху – оловянной из-за аспидных крыш, круглой, замкнутой, сжавшейся в тесном пространстве, круглой и плоской, изборожденной улочками, словно лепешка, которую дети пекут из глины, а потом бросают на солнце.
Чуть выше выглядывала церковь. Вокруг церкви кладбище. С одной стороны выдавался портик, а с другой поднималась неказисто оштукатуренная колокольня из серого камня…
Тогда, в то последнее утро у звонаря, шедшего, скрючившись, на ветру, подставлявшего ветру спину, времени было в обрез.
Ветер задул невероятный, звонарь был вынужден, пробираясь по улице, опираться руками о стены, потом, дальше – об откос, ногами он нащупывал перед собой землю.
Добравшись до колокольни, он чуть не свалился на плиты. К счастью, рядом была веревка, спускавшаяся сверху через небольшие отверстия в двух или трех перекрытиях. Он нащупал ее, засаленную от его собственных прикосновений, и ухватился.
Другим было не легче. Они оставались в домах, балки шатались и трещали, как мачта, пол ходил ходуном, будто палуба. В последний день они тоже пытались ухватиться за ручку двери, ногами нащупывали опору, передвигаясь с большой тяжестью, пол то поднимало вверх, то кидало вниз. И также они закружились на ветру, подставляя порывам спины. Вокруг все трещало, двигалось, обваливалось: вот двое или трое вдали поднимаются по улочкам – отец, мать, дети; мать прижимает к себе самого маленького, завернутого в шаль, остальные держатся за ее юбку, первым идет отец; идут, как могут, падая, поднимаясь, держа рукой шляпу, чтобы не улетела, поджав губы…
Сойдите вниз, горы, падите на них – они вас уже не боятся, они укрылись от вас, они уже вошли в церковь.
Все собрались, их не так много, с виду они совсем маленькие; темные, маленькие силуэты во мраке, ставшие еще меньше, поскольку опустились меж скамей на колени; одетые в грубые, жесткие суконные куртки, большие складчатые юбки; они склонились, скрестив руки, сдвинув ноги, сложившись на согнутых ногах пополам, словно они уже и не существуют, словно они уже ничто, но это только так кажется.
Ибо колокол зазвонил вновь, ударил трижды.
Ударил первый раз, второй – все рушится, но они уже за пределами смерти. Они увидели, как перед ними развертывается пространство минувшего, за ним открывается иное пространство; время проходящее, уносящееся прочь, перестало для них идти.
Колокол ударил в третий раз, и они услышали: «Идете ли вы?» Потом снова: «Идете ли вы?»
Перед ними на бедном, украшенном кружевами покрове среди полевых цветов и мерцающих огоньков был Он. Он поднялся, пошел. Он сказал: «Идете ли вы?» И, обретя тела новые, они приблизились.
Новый свет сиял столь ярко, что глаза их – глаза прежние – истаяли, теперь они смотрели на все глазами иными, ночь им была неведома.
Их глаза, уши переменились, они вновь научились видеть и слышать и долго смотрели вправо, влево, настолько было все удивительно…
Все было словно как прежде, но что-то добавилось; словно было у них все то же самое, но появилось и что-то еще, чего раньше они не имели; словно, все зная, они узнавали вновь; сначала они не решались, потом преисполнились решимости.
Они качали головами.
Ведь не могли же они ошибаться! Ведь они были правы в своей непреклонности, в том, что любили, несмотря ни на что!
И они сказали:
– Теперь мы дома!
Небесная твердь
I
Те, что были призваны, поднялись из могил.
Они отталкивали землю затылками, буравили ее лбами, будто растущие зерна, выпрастывающие наружу зеленеющие побеги. Они снова обрели тела.
Светило яркое солнце. Чудесный ослепительный свет озарил их руки, одежды, шляпы, усы и бороды.
Было это неподалеку от деревни, там, где их оставили, опустили на веревках в землю старого и нового кладбищ, возле новой церкви и тех, что более не существовали, поскольку принадлежали разным эпохам. Они поднялись из ям, их осветили лучи. Вновь обретенными глазами смотрели они на солнце, вновь обретенными ртами вдыхали воздух. Вначале, едва держась на ногах, они пошатывались, затем ноги окрепли.
Тогда пошли они в сторону деревни[15]15
Рамю описывает местность, где находился в течение нескольких месяцев в 1907 и 1908 гг.: речь о деревне Ланс, расположенной в одноименной коммуне кантона Вале.
[Закрыть], каждый видел ее впереди, поскольку и деревня была восстановлена, и церковь, и их дома, – все походило на то, каким было прежде, только казалось новым, чистым, – дома из камня и дерева под сланцевой кровлей; каждый вновь обрел дом, каждый искал его взором среди других, и каждый нашел, и все они разошлись по деревне.
Старая Катрин встретилась возле дома со своей внучкой Жанн.
Она остановилась, снова сделала несколько шагов и снова остановилась.
Она не осмеливалась в такое поверить после того, как потеряла ее. Не осмеливалась поверить, что каким-то образом могла ее снова встретить, беды делают нас недоверчивыми.
Это случилось на пологой мощеной улочке возле дома, она пошла по ней с одного конца, Жанн с другого. Катрин видела, как та приближается, сама она больше не двигалась.
Стоя у каменной лестницы, ведшей сначала на крыльцо, затем на кухню, она скрестила длинные, худые, будто выточенные из бурого дерева, руки, а маленькая Жанн бежала навстречу, так быстро, как только могла, но затем и она замерла, встала; сердце ее было еще совсем юным, совсем новым, доверчивым, оно еще не ведало обманов, и она первой двинулась с места, закричав:
– Бабушка! Бабушка, это ты?!
Она подбежала. Прижалась к большой сборчатой юбке, корсажу из грубой шерсти, уткнулась в полосатый бумазейный передник и встала на цыпочки, протянув ручки, подняв глаза:
– Бабушка, это ты! Я узнала тебя… А ты, ты не узнаешь меня?
Катрин все не решается, но потом не выдерживает.
Она нагнулась, – спина ее, прежде одеревенелая, несгибаемая, вновь стала гибкой, – она склонила голову, всплеснула длинными, худыми руками, обняла ее:
– Неужели это ты? Неужели это ты, моя маленькая Жанн? Конечно же, это ты!
И потом:
– Как такое возможно?
Но Катрин видела, что теперь все возможно, потому что все уже не так, как прежде.
Они вместе поднялись по лестнице, вместе вошли на кухню. Пол был вымощен большими, плотно прилегавшими друг к другу каменными плитами, у стены стоял деревянный буфет. Все было как прежде, но красивее, чище, новее. Все будто обновили, подкрасили. Тарелки, стаканы сверкали. На столе – букет георгинов.
Малышка Жанн проговорила:
– Георгины из нашего сада!
Катрин спросила:
– Ты помнишь наш сад?
– О, да! Ты там со мной гуляла, держа за ручку. А когда я совсем разболелась, ты носила меня в сад на руках…
– Да, ты все помнишь.
Воскресшие, они подошли к окну.
В этот летний день (или же день, похожий на прежние летние дни) повсюду гудели пчелы, словно работала молотилка. Повсюду цвели распустившиеся одновременно цветы, на деревьях виднелись и цветы, и плоды.
Ах, прежние времена! Времена иной жизни! Времена тяжкие, жестокие, трудные, несправедливые! Катрин тоже все помнила.
Она думала о былых временах среди белых гвоздик, львиного зева, колокольчиков, светлых ирисов, фиалок.
На клубнике рядом с ягодами цвели цветы, кусты черной смородины были усыпаны кистями потемневшими и еще зелеными, повсюду всевозможные мхи и поросли цимбалярии.
Она не могла не думать о прошедших годах, комната была почти такой же, что и сейчас, но внутри, среди этих стен, и – главное – внутри нас самих…
Она усаживала маленькую Жанн на стул, укрывала ей колени шалью, так было прежде.
– Малышка, ты помнишь? Ты была здесь, я возвращалась. Я садилась рядом и больше уже не оставляла тебя, это ты от меня уходила. Каждый день. Напрасно я старалась, каждый день ты уходила все дальше, напрасно я говорила, напрасно умоляла и сжимала тебя в объятьях, меня никто не слышал, и однажды ты ушла насовсем, совсем меня бросила…
Она покачала головой. Что можно было поделать?
Ах, одно горе и беды были в те времена, но нам следовало держаться вместе, иначе ведь невозможно, на то и были у нас сердца и тела, так было нам суждено, так и никак иначе.
Так мы и были созданы, будто плющ с тысячью побегов и усиков, у которого, кроме побегов и усиков, ничего нет, вот и мы так же, в этом мы и нуждались, у нас тоже было лишь то, что гладко да голо, и мы цеплялись к клонившемуся, приставали к шатавшемуся, постоянно голодая, не в силах насытиться…
Она воскликнула:
– Малышка!
И позвала ее, повторяя:
– Ты! Ты!
И замолчала. А затем опять:
– Ты! Ты!
И умолкла. И снова:
– Ты!..
И по-прежнему удивлялась:
– Ты! Ты! Неужели это правда? Все это правда?! Но это была правда.
II
Они принялись знакомиться. Отправлялись друг к другу с визитами, и каждый рассказывал свою историю.
Молодые ходили охотнее с молодыми, старики со стариками, женщины, как прежде, встречались у фонтана; снова все беседовали поверх деревянных садовых оград; втроем или вчетвером садились по вечерам перед домами, сложив руки на коленях, покуривая трубки.
В один из первых вечеров там был старый Сарман[16]16
Сарман – распространенная во французской Швейцарии фамилия виноградарей. Фамилия следующего героя – Шемен – символична и в буквальном переводе означает «путь», «дорога».
[Закрыть], сидевший с двумя или тремя мужчинами того же возраста; он говорил, когда начался закат, говорил, когда спустились сумерки, говорил в наставшей темноте:
– Иногда кажется, спина еще побаливает. По утрам, когда встаю, порой кажется, ноги опять не гнутся. Ох, я знаю, это лишь мое разыгравшееся воображение. Но разве не следовало бы, чтобы оно проникло в самую глубь? Чтобы мы прежде почувствовали это в теле, дабы все оно продолжалось и дальше, несмотря ни на что?..
Больше шестидесяти лет (когда были еще года и люди еще не излечились от времени) он сеял, косил, жал, пахал, полол, обрезал, колол дрова, таскал навоз, ухаживал за виноградником, и даже теперь, продолжая говорить, порой поводил плечами, будто держа за спиной корзину, и вытягивал руки, будто кладя их на рукоять инструмента.
Порой он вытягивал ноги – то одну, то другую, с трудом разгибая их и сплевывая, с трудом сдерживая вздох, который вырывался из-под белых усов:
– В прежние времена было тяжко. Надо было вставать в четыре утра, чтобы лечь в десять (когда были еще часы). Теперь башенные часы звонят, только чтобы в воздухе разлились приятные звуки; колокольчик вверху тренькает, словно трется шеей о дерево чья-то корова; а помните, как было прежде? Звон был словно приказом, вытаскивающим вас из кровати, выбрасывающим вас на улицу в лютый мороз, под дождь и снег, в глубокую грязь и на сверкавшие льдом дороги, и неважно, остались ли силы; ничего не делали мы по собственному желанию; делали не то, что хотели сами, а то, что хотели от нас обстоятельства, вещи; мы делали, и все рушилось, и надо было делать все заново; и мы делали заново, и снова все рушилось… Помните?
Остальные качали головами.
– Мы жили под враждебным, ревнивым небом; это было против природы. Трудились наперекор разгневанной земле, наперекор растениям, у которых были свои намерения. Наперекор животным, наперекор людям, все были врагами друг другу, все ревновали друг друга и всегда меж собой воевали. Человек был врагом зверей, звери – врагами других зверей, растения – врагами других растений. И везде одна вещь разрушала ту, что стояла рядом, и все время нужно было чинить, ремонтировать, постоянно защищаться, и мы проживали жизнь, пытаясь помешать другим ее уничтожить…
– О, ведь правда, – продолжал Сарман, – вспомните, когда наставали морозы, или начинались затяжные ливни, или же дождей вовсе не было; ничего никогда не было столько, сколько требовалось; и мы все лишь пытались не умереть, это была единственная задача, а потом все равно приходилось умирать! О, повсюду был один обман!..
Поднял голову Продюи:
– Даже то, что было благом, обманывало!
Он повернулся к Сарману:
– Ведь ничего не было благим до конца. Вспомни, какой был вкус у вина!..
Прежде он был виноделом, славившимся на всю округу.
– Стоило распробовать вкус вина, он сразу пропадал, вино проскальзывало в горло, нам хотелось удержать его вкус, но он исчезал. Никто не пил, пока снова не наливали. Надо было пить снова, и опять вкус пропадал, и мы были не в силах его сохранить и напрасно стремились почувствовать его снова. И все было, как вино, не существовало ничего завершенного, ничто не могло быть доделанным до конца, ничто не имело конечного результата.
И снова все воскликнули:
– Так все и было!
Они сидели на скамейке, мимо шли люди. Они глядели друг на друга, удивляясь, что они по-прежнему такие, какими были раньше, и – в то же время – совсем другие.
На небе показалась луна. Они видели, как идет по улице Адель Жену. Она поздоровалась с ними.
Они, в свою очередь, поздоровались с Адель Жену. Чуть подальше располагалась столярная лавка Шемена. В лунном свете они увидели, что она перед нею остановилась.
Видели, что она вошла в лавку.
Она обратилась к Шемену:
– Как оказалась здесь я? Как это возможно после того, что я сделала?
Она тоже была невероятно удивлена, но Шемен ей:
– Все возможно.
– Я просто слишком любила малыша, любила нехорошей любовью. В те времена никто не любил так, как оно следует. Я сказала себе: «Я не хочу, чтобы он был несчастным…» Я понимала одно, надо избавить его от страданий, которые пережила сама. Я достала его из теплой кроватки, прижала к себе. Понимаете? У него не было отца. В те времена обещания стоили мало. «Зачем ему жить, – думала я, – если он будет несчастным? Чтобы все его бросили, как бросили меня? Чтобы все показывали на него пальцем, как показывали на меня? Чтобы над ним смеялись и издевались?..» Я так сильно его любила! «Он не узнает ничего, кроме нежности, он будет знать лишь то, как я держала его у груди, круглой и теплой, принадлежащей только ему…» Пьер Шемен!
Пьер Шемен курил трубку. Она снова его окликнула:
– Пьер Шемен!
– Идите с миром, надо уметь избавляться от дурных воспоминаний, как дерево стряхивает загнившие на ветвях плоды.
Из-за облаков показалась луна.
– Тогда тоже была луна, но не такая красивая. Я спустилась по дороге. В какой-то момент я увидела, что он держится за кончик веточки, это было там, где на берегу растут тополя. Я уже пришла. Я села на траву, забыла, зачем пришла. О, что мы были за люди? Скажите мне, Пьер Шемен! Что мы были за люди, почему могли так перемениться? В тот момент я уже этого не хотела, в тот момент мне было хорошо, я забыла, зачем пришла. Он прикрыл глазки, они чуть выступали из-под век. Я надела на него самую красивую одежку, я думала: «Он такой милый. У него будет смуглая кожа и черные волосы, как у меня». Я заранее им гордилась, ведь годы идут быстро, еще немного – и он вырастет выше меня. Он вдруг заплакал. Мне надо было лишь расстегнуть кофту, и он утих. Я по-прежнему была счастлива. Его ротик так нежно двигался, был слышен едва различимый шум, словно он говорил мне спасибо. Одна щечка была чуть краснее другой, маленькое тельце округлилось, наполнилось изнутри. Он был со мной, ничего другого больше не существовало, только счастье, что он со мной, что он полон сил, и я тоже. Он поел столько, сколько хотел; еды нам хватало. Закончив, он посмотрел на меня. Я сидела, склонившись над ним. Но, поскольку все в те времена было мимолетным, это ложное счастье тоже длилось недолго. Я видела, как под луной проступает мое несчастье, оно было нашим общим несчастьем, и он – невинный – должен был понести кару из-за меня. Я знала, что появятся люди, которые станут его врагами, как были они моими врагами. Я думала, что во мне говорила любовь, потому что не знала, что это, и никто в те времена на земле не знал. Я сказала себе: «Он спит. Он ни о чем не знает. Он лишь перейдет из этого сна в сон вечный». Я поцеловала его, расцеловала его всего, еще раз крепко прижала к себе. Спела песенку, которая ему нравилась, встала. Я попрощалась с ним и отвернулась. Всплеснула руками… А потом больше ничего не было, я разве что почувствовала, как в том месте, где я его держала, водворяется ледяной холод, словно в эту дыру устремился весь ночной воздух, там воцарилась неимоверная стужа…
Она замолчала. И снова:
– Скажите же, Пьер Шемен, что мы были за люди? Почему я здесь?
– Это великая тайна.
Поскольку мимо по-прежнему шли люди, она обратилась к ним:
– А вы? Вы знаете, почему?
Они останавливались перед ней в лунном свете на мощеной улочке, сплошь усеянной посверкивавшими соломенными былинками, и отвечали то же, что и Шемен:
– Это великая тайна.
Она поднялась.
– Значит, вы не все знаете.
Она поднялась, вернулась к себе; когда она входила в дом, в руках у нее был розовый сверток.
– Вы видите? Вы это видите?
Все говорили, что да, видят.
– Это он! Он снова со мной! Я нашла его!








