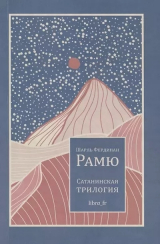
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
III
Их было около трехсот из тех тысяч и тысяч, что жили ранее. Около трехсот призванных на горном ярусе, воссозданном для них по образам минувшего; наверху горной лестницы, склон которой был словно специально устроен так, чтобы на ровной местности расположилась деревня и в те времена, когда опускали они покойников в землю и сами в нее ложились, все легли ровно.
Крыши по-прежнему были покрыты дранкой или листами шифера. Как и прежде, дома располагались поближе друг к другу у церкви, теснясь вокруг высокой каменной колокольни, подобно овцам, теснящимся вокруг пастуха.
В минувшие времена земля эта была настолько прекрасна, что и теперь напоминала себя прежнюю; вначале она показалась бы и вовсе не изменившейся (если не брать в счет прозрачного ясного воздуха и невероятного света) тому, кто добрался бы сюда, вскарабкавшись по крутой тропинке, склон за которой вдруг обрывался, все будто пропадало, и вдруг перед глазами представал целый мир.
Из всех времен года осталось только одно, самое прекрасное. Они в любое время ходили на поля, в любое время подымая снопы, похожие на низеньких женщин в огромных юбках, что группками болтают в угодьях.
Прежде наставала зима. Зима, когда все болели, зима сама по себе время больное. Теперь зимы не было.
Они более не работали, как прежде, по необходимости и из нужды, лишь бы не умереть. Они работали ради удовольствия, работали, чтобы иметь возможность себя выразить.
Они шли, поводя руками, будто за одними нотами следовали другие. Все было музыкой, все, что говорится, рассказывается, происходит, творится, делается и думается.
Почва была настолько плодородна, что больше не требовалось удобрять ее навозом. Человеку, сажающему дерево, следовало только выкопать ямку и, придерживая ствол, бывший пока тоньше рукоятки всякого инструмента, вверить его земле, такой, какой она была нам дарована заново.
Мимо шли люди, они смотрели. Старый Сарман, охотник Бонвен, золотоискатель Морис Продюи. Они остановились, сказали:
– Земля – прекрасна!
И человек, сажавший дерево, тоже сказал:
– Земля – прекрасна!
Как легко жить: все мы друзья, целый отряд друзей.
Они снова принялись за прежние занятия, и каждый делал свое, но не по необходимости; все полдничали под деревьями, женщины в четыре часа дня, как прежде, приносили мужчинам полдник и доставали чашки, снимали крышки с бидонов, в которых приносили кофе с молоком, а потом и сами, подобрав юбки, садились среди цветущих маргариток, лютиков, анемон, безвременников, желтых, белых или лиловых крокусов, – цветы все цвели одновременно – в тени ветвей, и сквозь просветы меж листьев, словно сквозь губку, лился солнечный свет, кто-то прислонялся головой к стволу, касаясь коры, шиньон сползал на сторону – черный шиньон с густыми косами, в которые воткнут медный гребень.
Времени у нас достаточно, ничто нам больше не угрожало. Они оставались там столько, сколько хотели, а потом, когда хотели, возвращались домой. И снова оказывались на кухнях, где чувствовали себя счастливыми, все было им мило, все было вымыто, расставлено по местам; наступал вечер, слышался пастуший рожок Терез Мен, спускавшейся со стадом коз с гор.
Каждый вечер, возвращаясь в деревню, Терез дудела в медный рожок и точно так же делала по утрам, покидая деревню, дабы люди могли привести животных или забрать.
IV
Столяру Шемену больше не требовалось делать гробы. Такова еще одна великая перемена: больше не надо было сколачивать дрянные доски, как прежде, когда звонил колокол мертвых и люди говорили: «Ты слышал?» И это был чей-то сын или брат, или отец, или просто кузен, тогда шли и стучали в дверь к Шемену:
– Зайди-ка.
Шемен спрашивал:
– Какого он был роста?
– Да разве ты его не знал?.. Ни высокий, ни низкий. Не слишком толстый, да и не тощий…
– Ладно! Я понял.
И иногда продолжал:
– Надо сходить измерить.
Он шел, ему говорили: «Зайдите-ка, месье Шемен…»
Он вытирал ноги. Снимал шляпу. У стульев стояли венки из стекляруса. Ставни закрыты, темно.
Шемен доставал из кармана складной метр и прикладывал к кровати; лежащее тело вводит нас в заблуждение, лежа мы кажемся выше ростом, чем стоя; мы вырастаем, перейдя в жизнь иную, покоясь на смертном одре.
Шемен убирал метр в карман, говорил:
– Я понял. – Говорил тихо, возвращался домой.
Как правило, было холодно, небо серело, как правило, стояла зима. Чаще всего февраль, март, доходило до того, что умирало по двое в неделю.
Они держались все начало зимы. Держались весь ноябрь, декабрь, январь, начало еще одного года, прибавив к датам жизни еще одну единицу, а потом больше не получалось, становилось слишком тяжело, тогда говорили: «Ничего не поделаешь!..» – и уступали. Ибо зимы на земле были слишком долгими для слабеющих стариков, так что оказывалось четыре или пять в феврале, три или четыре в марте, и Шемен ходил снимать мерки.
Жил он неподалеку от кладбища, видел, как всех их туда сносили.
Тех, кого он обрядил, сняв с них прежнюю одежду, исподнее, а дальше требовалась только одна-единственная – будучи кем-то вроде закройщика в те времена, он говорил: «Я тут вроде закройщика» – как правило, черная, из грубой могильной ткани; а позади медленно двигались шелковые шляпы, сюртуки, надеваемые на свадьбы, крестины, первые причастия, их достали из шкафов, выколотили, вычистили, шляпы надели на ставшие вдруг меньше головы, сюртуки натянули на располневшие животы; Шемен вынимал изо рта трубку и из уважения отходил вглубь мастерской.
Так было раз, десять раз, тридцать, пятьдесят, двести, триста, четыреста… Происходило это тогда, когда все должны были умирать, теперь же: «С этим покончено, точка, – говорил Шемен, – точка в предложении в последнем абзаце в конце книги. Ну а книга, ее закрыли или будет что-то еще?..»
Не надо больше сколачивать эти дрянные доски, он брал банку с краской, другую, в этой была прекрасная желтая краска, в той – замечательная синяя, а потом – чудесная розовая, сначала он пробовал их кончиком кисти.
Еще он мастерил платяные шкафы, на которых выкладывал из тонких и разноцветных деревянных деталей картины, изображавшие сердце или вазу с цветами, или коров, не хватало лишь даты и подписи.
На двустворчатых дверцах шкафов, – какие в прежней жизни обычно дарили в подарок молодоженам, – красовались гирлянды полевых цветов.
День напролет Шемен вырезал из дерева или работал кистью, остальные шли на покос или сбор винограда и косили, жали, срезали гроздья весь день, а блаженными вечерами, возвращаясь домой, прикладывали руки к губам и в полный голос кричали друг другу с одного склона на другой, и голос летел далеко над ущельями, от одного косогора к другому.
Весь день они жали, собирали виноград, косили, потом, возвращаясь, окликали друг друга, Пьер Шемен говорил себе: «Пора!» Он откладывал фуганок и доставал из кармана пачку табака в обертке из бурой бумаги (это был крепкий табак).
Возвращалась Терез Мен, сложив вязанье в небольшую суму, ведя стадо коз и трубя в медный рожок.
Это были благодатные часы в конце каждого дня, по небу разливались розовые и золотистые оттенки, у каминов витали приятные запахи. Двери отворялись, затворялись, девочки бежали к загону забрать коз. Пьер Шемен курил возле дома трубку.
И все проходившие мимо мужчины и женщины, смотря друг на друга, будто бы говорили взглядами: «У нас есть все, что нам нужно, нам хорошо!» – и не имели никаких других мыслей. Оно было видно даже по мулам: эти животные с изящными копытцами, большим животом и свисающими с седла огромными, подбитыми гвоздями башмаками, прежде не слишком уступчивые, выказывали полную покорность и шли под посверкивающими одежками размеренным шагом; слышалось, как бубенчики позвякивают все ближе, а потом удаляются за оградой сада.
V
Была там и Феми[17]17
«Феми» или «Ефимия» происходит от древнегреческого и может переводиться как «благопристойная», «благочестивая»
[Закрыть]. Что до нее, она ходила все туда и обратно по саду. Еще в прежние времена она любила его больше всего на свете.
Дабы точно знать, что у нее вырастут именно те цветы, что ей хотелось, она сама собирала семена, складывала в пакетики, на которых карандашом записывала названия.
Феми должна была очень стараться, в школу она ходила давно, но упорно доводила все до конца.
Еще в прежние времена она писала карандашом названия на пакетиках, чуть высовывая язык, выводила: «Кетайская астра», «Каллендула», «Гваздика», – после чего запирала в шкаф. И вот она снова принялась за это занятие, снова писала: «Каллендула», «Гваздика».
Увы! В прежней жизни сад, который она так любила, был у нее отнят из-за сына.
В прежней жизни, когда все было зыбко, ей пришлось все продать, ведь ничто не могло длиться вечно. И, хотя она была уже старой, пришлось все бросить и искать место, следовало выплачивать долги сына.
Она должна была жить у чужих людей, работать на чужих людей, несмотря на возраст, выполнять тяжкий труд. У чужих людей она и умерла.
Она еще помнила утро, когда уже не смогла подняться с кровати, что ей не принадлежала. Помнила, как напрасно старалась удержаться на ногах в той бедной холодной каморке; керосинка почти не горела, только чадила, голова закружилась.
А потом?.. Потом ничего не было. Только время, шло время, очень много времени, она спрашивала себя: «Сколько же прошло?» – она не знала; но она видела, что ей вернули сад.
Видела, что ей больше нечего опасаться – и ей тоже: ни людей, ни событий, – отныне она защищена от скверной погоды, от града, стужи и всякой печали, от всех смертей.
Серая стена с облупившейся штукатуркой, на которой висели пучки левкоев, вновь была перед ней. Покрашенная зеленой краской лейка снова стояла посреди дорожки.
Все вещи, которыми она пользовалась, также были возвращены: лейка, полольник, железный совок, старая мотыга, сажалка из прочного дерева, бечевка, с помощью которой намечают ряды, ивовая корзинка, тяпка, чтобы выпалывать сорняки, и она восклицала, всплеснув руками: «Бог ты мой! Я вправду заслужила такое?» – сердце ее было смиренным.
«Что же я такого сделала? Что же я сделала, что меня вызволили и я снова увидела свет? Я словно куда-то уехала посреди недели, а воскресным днем вернулась, вернулась прекрасным воскресным днем, навсегда!»
Это было настолько прекрасно, что она сначала, как и Катрин, не поверила. Но к ней подлетела, что-то поведав, пчела; сел на рукав крылатый муравей; по ограде пробежал, словно крыса, дрозд.
Она должна была поверить.
У нее было то же тело, сложенное пополам, поскольку работала все время согнувшись, и она ходила вдоль резеды с сероватыми лепестками.
Календула росла в изобилии, кусты турецкой гвоздики невероятно разрослись, тонкие стебли сердца старой девы[18]18
Физалис обыкновенный, он же «песья вишня», «китайский фонарик». Рамю употребляет местное название растения.
[Закрыть] с ломкими светлыми плодами доходили до пояса, и среди всего этого – ни единого сорняка, ни одного печального следа букашек, которые портят корни или проедают дыры в листьях, а там, где полз слизень, остается серебряная полоска.
Все это располагалось перед ее домом меж двух стен, сад рос на склоне; вода, текшая по канавке, заполняла специально вырытую внизу яму.
Она спустилась наполнить лейку, вернулась. Когда она поливала, у земли был слышен еле заметный шум, словно пила кошка.
VI
Они работали. Шемен трудился в мастерской. Дверь мастерской была застекленной. Шемен смотрел сквозь стекло.
Смотрел, как там, за дверью, идет жизнь. Шемен был счастлив. Он рисовал на створках большого шкафа счастливых людей.
На картине Шемена было нарисовано наше счастье. Он изобразил нас такими, какими мы стали, все на этой картине оказалось прекрасным.
Он клал краску на кусок стекла, который лежал на краю верстака, и, поставив шкаф на свет, ходил от стекла с краской к шкафу, макнув кисть в синий, розовый, нежно-зеленый, он смотрел сквозь дверное стекло на улицу и возвращался взглядом к работе, чтобы запечатлеть то, что только что видел.
В это время в той части деревни, что располагалась на самом верху, где кладбище, еще стоял человек, которого двое других держали под руки, и эти двое говорили ему:
– Смотри, вот где тебя положили. Но и ты тоже, ты тоже выбрался, выбрался из могилы, как и все мы…
Человека звали Бе. В прежней жизни он был слепым. Родился слепым и слепым умер, вот почему он должен был научиться смотреть вроде как дважды.
Мужчины держали его под руки. Временами Бе останавливался и стоял без движения, словно задыхающийся астматик.
Державших его было двое, каждый со своей стороны, – Франсуа Бессон и Анри Делакюизин, – и Делакюизин спросил:
– Что-то не так, Бе?
– Просто держите меня… Вот так…
– Потом он пошел вновь, с закрытыми глазами.
Внезапно он их раскрыл, говоря:
– А это белое пятно?
– Это у Продюи. Это стена конюшни Продюи.
И Бе протянул руку в ту сторону, словно чтобы взять белый предмет, двое других засмеялись, сказали:
– Ты не сможешь! Взгляни, это слишком далеко!
Он на несколько мгновений вновь погрузился в ночь, словно возвращаясь домой, чтобы немного отдохнуть.
Меж тем они принялись идти и двигались потихоньку. Он все еще с осторожностью лишь слегка приоткрывал веки, словно запасаясь увиденным, и опять закрывал глаза. Он смотрел лишь на небольшое пространство, чтобы вначале все упорядочить. Но вот он все-таки вновь раскрыл глаза, и вновь все предстало перед ним, пока они втроем шли дальше. Он узнал, что представляет собой белый цвет, черный, молочный, розовый, что это вот – настоящий зеленый или желтый, а это – цвета выдержанного вина. Узнал цвета всех-всех вещей, те же вещи, что скрылись в другой стороне, тоже были наделены цветом, и познать все это можно было лишь через цвет.
Он сказал:
– Думаю, все в порядке.
Он остановился.
– Бессон, я вижу! Делакюизин, я вижу! Я вижу тебя, Бессон!..
И он повернулся к Бессону.
– Ты здесь, я вижу тебя, Делакюизин!
И он повернулся к Делакюизину.
Он посмотрел вперед, и веки его поднялись, обнажив радужки, которые все еще были бледны, как растения, что находились все время в тени, или ростки картошки, что долго лежала в подвале; веки забились, словно крылья у бабочки, когда та собирается полететь, и он сказал:
– Теперь все в порядке! Все хорошо!
И потом опять:
– А это?
– Это воздух.
– А это?
– Это скала.
Он подумал. Покачал головой, сказал:
– Да.
Сказал:
– Нет. Да нет же! Нет же! Господь! И все вот это!.. Возможно ли, чтобы все это стало моим?!
Вытягивая руки, раскрывая их, как раскрывают, когда видят, что кто-то идет навстречу – и на самом деле оно шло, шло к нему, – он брал все это, стараясь впитать все в себя, прижать: поток воздуха, часть пространства, еще часть, вот стена, вот еще одна, дом из темного дерева, еще один – розовый – и еще немного, слева, потом сзади, луга, поля, леса, зеленые квадраты, серые квадраты, желтые квадраты и то вон там, что сверкает, что не сверкает, – и вбирал это все вперемешку, и еще – небо, и снова – воздух; он брал это все себе, в руки, устал, закрыл глаза, чтобы передохнуть.
Потом – снова вытянутые руки, и в эти мгновения – великая тишина.
После чего:
– Я тут!
Он опустил руки и стал очень серьезным:
– Ведь мы… Ведь мы невероятно богаты! Никогда бы не подумал, что может быть столько вещей!
– A! – воскликнул Делакюизин. – Их ведь и в самом деле много!..
Он принялся называть их, он учил Бе этим словам, будто раскрыв перед ребенком букварь.
Растущие на камнях желтые и фиолетовые цветочки; растущие на камнях цветочки оттенка небесной лазури и в белых пятнышках; прочие виды цветов; коричневый цвет брюк, которого нет в природе.
– И серый цвет куртки, и белый – у белой рубашки. И вот еще, – говорил Делакюизин, – это деревянный забор; прежде ты все это знал только на ощупь, ну так вот как оно выглядит, если смотреть глазами. А это, это вот – самый прочный из всех камней, гранит; видишь, вот тут серое, а внутри – множество маленьких белых кристаллов…
Бе смотрел широко раскрытыми глазами, он больше не закрывал их. Он попросил Делакюизина и Бессона его отпустить, они спросили: «Думаешь, уже можно?» – и все же отпустили. И он пошел один, так они возвращались, видя впереди деревню. Бе видел, как посреди всего мира к нему приближается этот маленький мир, среди прочих частей мира – малая его часть, и, пока он шел, он по привычке лишь иногда вытягивал вперед руки, щупая воздух, лишь иногда проверял ногой почву, прежде чем ступить.
Они вошли в деревню. Люди спрашивали:
– Ну что, так лучше?
– Все прекрасно! – отвечал Бе.
И Далакюизин:
– Видите, мы его отпустили…
И отходил чуть дальше, чтобы дать поглядеть на это, и Бессон делал так же.
Они подошли к мастерской Шемена, сквозь застекленную дверь виднелись и Шемен, и его картина.
Бессону и Делакюизину внезапно пришла в голову одна и та же мысль, они сказали Бе:
– Вот что будет тебе интересно… Эй, Шемен! Можно войти?
И они вошли, говоря Шемену:
– Понимаешь, он только-только начал видеть. И до сих пор видел лишь то, что существует в реальности…
Они посторонились:
– Иди, Бе, встань вот тут…
Ведь это была еще одна вещь, которую следовало узнать. Этого нет в действительности, это живопись, все это нарисовано… этого нет в природе, но есть в человеческом сердце. Все это человек берет изнутри и изображает. Узнает ли Бе себя?
А тот какое-то время ничего не говорил, стоял неподвижно, показывая лишь великое удивление и признаки прилагаемых им усилий, потом медленно его губы разжались, он стоял, раскрыв рот.
– Это… Шемен, это вот ты.
Он посмотрел на Шемена.
Он посмотрел на настоящего Шемена, потом на нарисованного:
– Это ты!
Шемен закивал.
– А это, это вот дом, – он потрогал его пальцем. – Это дерево, это родник…
Он вопрошающе посмотрел на вас, все вновь закивали; и он, воодушевленный:
– Это люди на лавочках, это маленькая девочка, мул… О! Я понимаю, я все понимаю.
Все, кто был здесь, пожали ему руку; потом они вышли, все вчетвером, чтобы пропустить по стаканчику.
Кафе называлось «Друзья». Так гласила вывеска, на которой под названием красовались две сжатые в приветственном жесте руки в кружевных манжетах. И вновь это был рисунок, отчего Бе некоторое время опять стоял в нерешительности, вот снова принялся повторять:
– Нет же, нет, я выздоровел!
Тогда послышался еще голос:
– И я тоже, и я выздоровел!
Это был Шерминьон, в прежней жизни ему отрезали ногу. Он ходил, показывая, что у него снова есть обе ноги.
Он двигал ими, сначала одной, потом другой, в грубых полушерстяных коричневых и пожелтевших на коленях брюках и подкованных башмаках с латунной отделкой:
– И ведь не поддельная, – смеялся он, – хотя они, конечно, изготавливали отличнейшие протезы, вспомните-ка, после великой войны, и дали мне один, но это плоть, самая настоящая плоть как она есть…
– Хотите посмотреть? – продолжал он и поднимал штанины.
Бе смотрел, у Шерминьона были две ноги, и он кричал Бе:
– Я иду на своих двоих!
А Бе ему отвечал:
– Я вижу!
И поскольку каждый приходил с собственной историей, сидевший в углу золотоискатель Морис начал рассказывать свою, ведь он тоже излечился от прежней болезни.
– Что до меня, то я с помощью лозы искал золото, думал, что золото приносит счастье. Мы ходили в места, где оно водится, как мы полагали. Лоза наклоняется чуть больше или чуть меньше, в зависимости от силы того, что ее влечет. Однажды мой брат, державший выпас у скал Биз, нашел сверкающий камень, разбил его другим камнем, и получилось с кофейную ложку желтого порошка, он мне его показал. Я сказал себе: «Оно там есть!» Надо вам признаться, у меня был дар. Теперь я знаю, что дар исходил от дьявола, но тогда я этого не понимал. Я сказал брату: «Покажешь мне место? Мы все поделим!» В прежней жизни мы полагались лишь на преходящие блага. Мы вышли в ночь, забрались выше, чем стояли леса, выше, чем росла трава, оставив эти богатства, посланные нам Богом, позади, дабы со всех сторон, сколько хватало взгляда, нас не окружало более ничего хорошего. Посейте там зерно, и вы увидите! Попытайтесь посадить там картошку! Земля скверная, земля проклятая, земля, помещенная Господом Богом нарочно выше любой другой, подальше, но нас искушал демон. Поднялось солнце, с нас градом лил пот. Это то место, где одни камни, вы ведь знаете, прямо под скалами Биз, и чем выше поднимаешься, тем оно круче, но мы продолжали идти. Время от времени я спрашивал брата: «Это здесь?» Он отвечал: «Нет еще». В конце концов мы пришли к подножию скал, на тех скалах были пятна ржавчины. И ничего больше не имело для меня значения, кроме тех пятен. Металлы притягивают друг друга, и посредством следов железа золото вновь воззвало ко мне. Я рассказываю вам о временах на земле, когда сердца наши выпрыгивали из груди… О, нужда! Нужда и безумие! Склон был шесть или семь сотен футов высотой, где-то гладкий, как ладонь, а в других местах – изборожденный выступами, трещинами, расселинами, карнизами, но нас это не останавливало. Жан следовал за мной молча. Мы молча понимали друг друга. Между нами уже был тайный сговор, что мы пойдем до конца, любой ценой. Надо было цепляться руками и краями подошв, все выше толкать друг друга спиной или коленками, как трубочисты, оказываться порой на выступах не шире ступни, а потом хвататься за осыпавшийся комьями скользкий дерн, но ничто нас не останавливало, ибо нас захватил демон. И в конце, когда мы оказались в месте, похожем на широкий уступ, пологий такой скат, где уже не было травы, а только чистая и растрескавшаяся порода…
Он вдруг замолк (и, может быть, если бы на него взглянули пристальнее, увидели бы, как блестят у него глаза) и затем продолжил:
– И вдруг лоза стала тянуть прямо вниз. К счастью, я крепко ее держал, иначе бы она выпала, настолько толчок был сильным. Словно ударила хвостом форель. Мы побледнели. У нас перехватило дыхание. Мы уставились друг на друга. И в то же самое время не осмеливались смотреть друг другу в глаза. Уже не знаю, который был час, время больше ничего не значило, а ведь я, не чувствуя этого, губил то небольшое число дней, что нам дарованы свыше. Мне следовало прятаться от людей и лгать. Каменистая дорога была слишком длинной и утомительной, я спускался со скал на веревке. Это мы с братом ее закрепили, и, как только я заканчивал работу и подымался, сразу ее убирал. Я работал голый, как сосланные на каторгу, не имея воды, кроме той, что приносил в бочонке, не имея ничего, кроме небольшого количества воды, хлеба и сыра. От зари до зари. С раннего утра и до позднего вечера. Совсем голый, то под палящим солнцем, то под затяжными дождями и грозами, не имея инструментов, кроме мотыги с лопатой, копая вначале мотыгой, а потом выбрасывая осколки лопатой, всегда один, не с кем обмолвиться словом, ничего, чтобы отвлечься, кроме дыры под ногами, в которую я погружался все глубже. Я чувствовал, как по телу течет выделяемая им влага, будто шел дождь, с меня лило, и вокруг на скалах оставались черные пятна: мне было все равно, что это за дождь, идет ли то настоящий дождь; говорю, я был безразличен к миру, ко всем хорошим, прекрасным вещам мира и к тому, что истинно. Я добрался до глубины трех метров, ничего еще не найдя, брат спрашивал меня: «Ну что?» Я отвечал: «Ничего!» Я страшно исхудал. И снова брат спрашивал: «Ну что?» И снова я отвечал: «Ничего!» Но чувствовал, что он смотрит на меня с недоверием. И так продолжалось еще какое-то время, а потом однажды, когда я отдыхал, сидя возле ямы, я услышал, как катятся камни. Брат следил за мной, забравшись по склону чуть выше…








