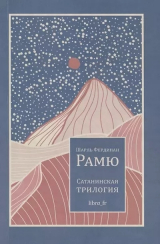
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Его усадили возле колонны, принесли выпить. Вертя головой, он опустил ее к инструменту, старые худые пальцы задвигались столь быстро, что за ними едва можно было поспеть взглядом. Он качал головой и отбивал такт ногой. И то тихонько, то во весь рот улыбался в зависимости от сложности пассажа, но красивый мех из складчатой кожи, то растягиваясь, то сжимаясь или извиваясь, не замирал ни на мгновение.
Все закружились. Женщин было почти столько же, сколько мужчин, они танцевали, прижавшись друг к другу. Они раскраснелись, им тяжело было дышать. Неизвестно, почему их разбирал такой смех. Это уже не были наши старые, добрые, спокойные танцы, когда в конце мелодии или очутившись в темном уголке пытаешься похитить у танцевавшей с тобой девушки поцелуй, а она отбивается. Они танцевали, обнявшись столь тесно, что казалось, никогда не отойдут друг от друга. Они вертелись, словно от боли. А старый Крё все играл, по-прежнему улыбаясь. Едва доиграв мелодию (и залпом выпив стакан), он сразу же начинал следующую, – польки, мазурки, вальсы, – будто вихрь несется и ноги сплетаются, словно на ветру ветки. Были танцы, когда ходят по парам, держась за руки, такие танцы особого успеха не имели, тогда кричали: «Давай другою!», и порой падала свечка. Порой в церковь через разбитые стекла проникал порыв ветра, пламя свечей кренилось. И с той стороны, куда наклонялось пламя, скатывалась восковая слеза. Но будем кричать и смеяться! Пусть даже охрипнем, какая разница, ведь нам хорошо!
– Эй, Фелиси, ты идешь? Я жду тебя уже четверть часа!
– Иду, Луи, закружишь меня до упаду?
«Сорву воротник, мне так жарко!», «Ну, а я сниму пиджак!», «Я сброшу жилетку!» Они смеялись, некоторые, внезапно остановившись, распахнув руки, хохотали, и никто уже не знал, то ли это смех, то ли рыдания.
Но это потому, что мы, наконец, счастливы. Мы были рабами, и обрели свободу. Мы словно птенцы, разбившие скорлупу, все дозволено. Фелиси, что мне мешает сжать тебя в объятиях перед всеми, а ведь раньше я не осмеливался заговорить с тобой из страха, что кто-то заметит. Что мешает схватить стул за ножку и швырнуть в окно? Им хотелось разрушать, они столько бесились, что валились на землю без сил. Другие падали на стулья, руками держась за грудь, раскрыв рот, будто при смерти. Но возобновлялось движение, и они были увлечены им, они целовались, терлись друг о друга, жались друг к другу, и тек с них пот, они кричали: «Пить! Пить!» Прикатили бочку. Они прокатили ее через всю церковь, перевернули исповедальню, поставили на нее бочку, все подошли, приставили ящик. Это особая радость, когда испытываешь сильную жажду и уже не можешь стоять на ногах от усталости, напиться молодого вина. Чокаясь, они встали кругом возле бочки, каждый со стаканом в руке. Привели и старого Крё, который уже порядком набрался, но заскучал без аккордеона. Он сказал: «Вы закончили? Я сыграю еще одну, это будет самая красивая!» Пошли за ним, никто больше не чувствовал усталости. И вот, когда все вернулись к алтарю, где все еще горели, порядком уменьшившись, свечи, толстая девушка с раскрасневшимися щеками, Люси, принялась смеяться и, стоя руки в боки, говорила: «Как все же тоскливо, одно и то же! Я перетанцевала уже со всеми парнями. Все они меня уже целовали! И что, все заново?..» Она смеялась. Это была хорошая девушка, веселая и отзывчивая, правда, любила развлечься. Она шла туда, куда звало ее тело, и делала то, что тело ей говорило делать, и ни о чем не задумывалась. Она пришла в харчевню одной из первых. Одни люди на своем месте, другие нет. Но чем дальше заходишь, тем больше требуешь, и радости, которые уже испробованы, перестают быть радостями, так что теперь она посреди веселья зевала. Все повторяется, что ж поделать? Снова, желая ее, подходили парни, но она их отталкивала: «Нет, только не ты!.. И не ты!..» Со сверкающими глазами, вся красная, растрепанная, она подняла руки, затем медленно опустила, проведя ладонями по телу, под разорванной блузой вздымалась грудь. Крё вновь принялся за дело, снова образовалось кольцо, несколько пар уже кружилось. Вдруг кто-то прокричал:
– А знаешь что, Люси? Раз уж мы тебе не подходим…
Он указал на что-то. То, что он предлагал, казалось таким простым. Не правда ли? Такой необычной девушке как раз подойдет, к тому же это что-то новое, и танцор новый, они закричали: «Ну как, хочешь?» Она протянула руки. Началась страшная толкотня. Речь шла о висевшем на стене распятии. Весь желтый, местами в красных потеках, со склоненной на плечо головой, впалым животом и выступающими ребрами, Он раскрывал на кресте руки, им надо было лишь спустить Его и снять с креста. Они стали дергать Его за руки и за ноги, где были вбиты гвозди, сначала поддались ноги, затем руки. Они поставили фигуру стоймя. Люси подошла. Они спросили: «Подойдет?» Она кивнула. Но в то же самое время, будто стыдясь, загородилась оголенной рукой, как делают, когда любят и испытывают желание, но еще не осмеливаются. Они закричали Крё: «Сыграешь свою лучшую?» Крё ничего не ответил, но звонкие ноты из-под пальцев впервые неслись с такой силой, в таком количестве.
Настал день, но его прихода они не заметили. Вдруг стало светло. Они остановились. И посмотрели все в одну сторону. Смотрели они на Люси, простершуюся на земле всем телом, поверх нее лежало распятие.
Напрасно старалась она подняться, то ли давивший на нее вес был слишком велик, то ли ноги ее больше не держали, но с каждой попыткой встать что-то толкало ее назад, и, широко раскрыв рот, показывая все зубы, она смеялась, уже не переставая.
Им надо было ее высвободить, они сами едва стояли на ногах, однако ее унесли. Свет гнал их прочь. Он проникал отовсюду. В церкви было разбито все, что можно было разбить. По картинам, где изображены сцены крестного пути и святые, ходили ногами. Местами кучи осколков возвышались до колен. Лишь стены еще держались, правда, в восточной стене виднелась большая трещина. И повсюду глазам представали следы празднества: бочка, у которой вышибли дно, валялась пустая, ноги скользили по винным лужам.
Они забрали Люси, они несли ее на плечах вместе с распятием. Их плечи и поднятые руки стали носилками. Мы и небу, если надо, покажем, что мы за люди; мы делаем все, что нам нравится. Они шли по церкви. В конце виднелся дверной проем. Подошли еще двое или трое, каждый говорил: «Дайте поесть! Я очень хочу есть!» Им отвечали: «Идите в харчевню!» И вышли они на улицу со своей двойной ношей, бросая вызов белому дню.
Но когда они появились, ничего в небе не изменилось, казалось, им все дозволено.
Казалось, отныне они могут делать все, что придет в голову. В небе и в самом деле ничего не менялось, ничего не менялось и на земле, где все было мертво.
Великая тишина, ничего кроме тишины. Свет был, словно просеянная зола. Ничего, разве что показался Человек, и Человек спросил:
– Все хорошо?
Человек сказал:
– Вижу, что все хорошо.
И, засмеявшись:
– Надо только продолжить.
И они продолжили. И стенания больше не прекращались.
Склонив колени перед распятием, люди день напролет молились, во всяком случае, те, которые еще могли, и хотя в прошлый раз так и не получили помощи, все же с упорством просили о ней, помощь эта была единственной, на которую они могли рассчитывать. Они только тем и занимались, что молились, день напролет. «Может, – думали они, – действеннее, если каждый будет просить за себя о том, о чем мы просили все вместе; может, молитву проще услышать, если я один ее прочитаю?» Вот почему достали все четки и перебирали их исхудавшими пальцами.
Усерднее всех молился старый Жан-Пьер, встав на колени у кровати, в изголовье картинка с изображением ветки самшита и оловянной кропильницы.
Он стоял там с самого утра и до вечера, а порой и всю ночь, сложив руки, читая все молитвы, которые знал, когда же они заканчивались, он повторял. Жена просила пить, он даже не слышал. Она не могла двигаться, уже на пороге смерти. Звала его, хрипя и ногтями скребя простынь. Однако он оставался глух ко всему, за исключением слов, что напрасно срывались у него с губ. Она умерла два или три дня спустя, он не заметил. Он усердствовал, говоря себе: «Поможет лишь истовая молитва!» Остальные делали так же, в каморках, где бродил спертый воздух, все, кроме Жозефа, который оставался без движения, думая: «Какая теперь разница?» Никто не знал, каким образом он все еще держится, но держался он не лучше остальных. И все с каждым днем становились еще несчастнее и каждый день падали еще ниже, также говорил и лоточник, явившийся из ущелий и собиравшийся обойти с товаром деревню:
– К счастью, я вовремя остановился. Это уже не деревня, а кладбище, где полно воронов и другой птицы, что кормится гнилым мясом. Будьте осторожны, чтобы беда не пришла и к вам.
Люди были осторожны. Больше никто не приходил. Люди думали: «Может, они там все умерли».
Однако умерли не все. Творилось нечто хуже. Они все больше слабели. Вначале приходили в харчевню поодиночке, теперь шли группами. Так солнце трудится над сугробом во всей его массе, обрушивая изнутри, также действовал на них и соблазн, их одолевали разные мысли, и мысли эти менялись местами с привычными. Вначале они говорили себе: «Нужно быть верными закону, даже если он будет стоить нам жизни». Теперь же они говорили: «Может быть, жизнь ценнее». Было ясно, что пора выбирать. Напрасно думали они о душе, тело заявляло о себе куда громче. Они вспоминали о своем шествии, думали: «Может, Бог нас оставил?» и падали духом прежде, чем вознести молитвы. Но если Бог их оставил, разве не было бы лучше, если бы у них появился другой защитник, иначе они совсем одни, иначе они обречены на страшную смерть. Такие мысли были у каждого. Скупой спрашивал себя, на что ему золото. Ленивый говорил себе, что ему никогда не надо будет работать. Любившие наслаждения все сильнее терзались, что так долго были их лишены. Чревоугоднику виделось мясо, пьяница чувствовал запах вина, те, кого больше прельщала плоть, мычали от вожделения, будто завидевшая траву корова. Многие испытывали гнев, кощунственно обвиняя во всем вышний престол, понемногу везде назревал мятеж. Объявились Новые хвори, на шее росли черные шишки, которые начинали гноиться. Умерших становилось все больше, все больше было непогребенных покойников, все меньше муки в ларях.
Слышались голоса, это были те из харчевни, они распевали, спускаясь по улицам. Они колотили в двери, кричали: «Эй, там! Еще не решились? Вам что, нравится вот так подыхать? Достаточно лишь пойти с нами, чтобы стать такими счастливыми, какими и в прежней жизни никогда не были! От вас почти ничего не требуется, лишь перекреститься наоборот. Идите, Хозяин вам скажет: „Сделайте так!", вы сделаете. И вот вы уже порозовели и разжирели, как мы!»
Они и правда хорошо выглядели. Чуть отодвигали занавески: они были тут – мужчины, женщины, хорошо одетые, с округлыми формами, с толстыми губами, светящимися глазами, живым взором, они стучали в дверь и чаще всего она оставалась закрытой, но порой отворялась.
– Браво, – кричали они, – еще один! – И уводили с собой вновь прибывшего.
Амели услышала, что ее зовут. Это были те, с кем прежде она танцевала. Они знали, где она живет.
– Эй, Амели! Ты совсем нас позабыла? Почему ты больше нас не желаешь? Знаешь, теперь можно все, что захочешь. Все не так, как прежде. Давай, решайся, хватит дуться!..
Лежа на полу, она подняла голову и, опершись локтями, слушала. Отец и мать были в спальне. Отец лежал без сознания и едва дышал, мать тоже не пошевелилась. Амели попыталась встать, она помнила, что с тем, кто ее звал, она часто кружилась, они гуляли по тропкам в лунном свете, ходили в шале наверху, где воскресными вечерами все танцевали. Она разволновалась. Думала: «Что, если пойти? Он же там был». Еще недолго ее сердце металось, словно раскачивающееся на ветке яблоко, затем она решилась, поднялась на колени. Повернувшись к постели, увидела, что отец лежит без движения, мать, казалось, уснула. Голос снаружи звал. Она сделала усилие, встала на ноги. Повернулась к двери. Но она была женщиной, она не могла устоять и мимоходом взглянула в зеркало. Ей стало страшно при виде синяков под глазами. «Тем хуже, – сказала она себе, – он поймет», и лишь поправила волосы, голос все звал. Она сквозь кухню скользнула к двери, но оказалось, что дверь заперта. И пока она силилась открыть, обеими руками взявшись за большой ключ, заржавевший в замке, раздался крик (и звавший снаружи голос умолк). Крик, прорезавший пространство вокруг, тяжкую тишину комнат, где умирают от голода, крик: «Не ходи! Не ходи!» – он прозвучал вновь, сильнее, и опять: «Не ходи! Не ходи!», затем он стих и послышался шум от идущих по полу босых ног. Она по-прежнему пыталась открыть, ключ не поворачивался. Мать успела подойти.
Она была в одной рубахе, она так исхудала, что кожа на подбородке свисала, как тряпка.
Она взяла дочь за плечи:
– Амели, прошу тебя, ты ведь знаешь, кто тебя там поджидает. Подумай о мучениях, что настанут, когда вокруг будет огонь и сера, те мучения длятся вечно…
Резким движением Амели избавилась от объятий и связь плоти и плоти была разорвана, ключ в замке заскрипел. Мать повалилась на пол, Амели живо отодвинула затвор, чувствуя, что ее держат за ноги. Она повернулась и твердой рукой дважды ударила по лицу матери с разметавшимися седыми волосами, голос снаружи говорил: «Открыли, вот и она… Иди же скорее, моя миленькая. Увидишь, как о тебе будут заботиться…»
Ватага удалялась в сторону харчевни. Другая шла по соседней улице: сын звал мать или муж жену, сестры звали сестер, братья братьев, а теперь выходила целая семья – отец, мать и пятеро детей, но они не смеялись, как остальные, они шли, опустив головы и держась за руки.
Они подошли ближе. Отец тихо заговорил:
– Мы держались, сколько могли, они еще слишком маленькие, чтобы умирать. Делайте с нами, что хотите…
Их, как и других, привели в харчевню, отцу сказали: «Тебе нужно лишь перекреститься наоборот». Он сделал, как ему велели. Так же сделала жена. Потом настал черед детей, которые еще не очень умели креститься.
Какая же была радость, когда им принесли поесть! Им подали вкусный суп, макароны, мясо и всякого рода яства, к которым они не осмеливались притронуться. Шоколадные пирожные, сливочные пирожные, пирожные со звездочками, вырезанными из кожуры фруктов. Вначале они не осмеливались, им говорили: «Давайте!» Они протягивали сразу обе руки, глаза светились от удовольствия.
Как же хорошо наконец выйти из комнат, где воздух такой густой, что застревает во рту. Как хорошо оказаться на солнышке. Как хорошо расположиться с удобствами вокруг большого стола, вместе с людьми, которые выглядят такими счастливыми. Все время подносили бутылки, да и в музыке не было недостатка, играла губная гармошка.
Крибле уселся в углу вместе с Кленшем, они не очень-то ладили.
– Оставь меня в покое, – говорил Кленш, – ты слишком много болтаешь.
Кленшу, когда он выпьет, становилось грустно, Крибле же всегда был весел. Он говорил:
– Меня ничего не связывает. А вот у тебя жена и дети, и это тебя тяготит.
– Были… Теперь я, как ты.
Крибле пожал плечами. Начиналась перебранка, Кленш настаивал, что схож с Крибле, а Крибле считал его ниже себя.
Кленш ударил кулаком по столу:
– Да в конце-то концов, кто ты такой? Что ты такого сделал? Что если и тебя взвесить? Тебя-то что тяготить может? У тебя нет ни су, никакой профессии! Так что видишь, мой дорогой Крибле, нечем тебе гордиться…
Он попытался рассмеяться, но Крибле спокойно – поскольку всегда сохранял спокойствие, – заявил:
– Ты судишь со стороны.
Кленш поднялся, казалось, он собирается накинуться на Крибле.
Но Человек умел сохранять порядок. Человеку достаточно было лишь сделать жест.
И получалось, что люди сошлись здесь ради удовольствия побыть вместе, а снаружи светит яркое солнышко.
Солнышко отражалось в тарелке, золотило дно стакана, где дремали искорки, люди рассказывали друг другу истории.
Они похвалялись тем, чего прежде бы устыдились. А чем прежде хвастались, теперь утаивали.
Я украл у отца, я обманул мать. Молочник разбавлял молоко водой. Лавочник обвешивал. Мельник подсыпал в муку штукатурку.
Они придумывали преступления, которых не совершали, иначе бы над ними смеялись, и кичиться им нравилось.
Тридцать-Сорок тоже был тут, и Тридцать-Сорок пришел со своей историей.
– Ему было десять месяцев. Он улыбался, недавно сосал грудь, одна щека розовая, другая белая. Похож на яблоко. Я подошел, он улыбался. Я засунул его в мешок, мешок из плотной холстины, он закричал. Я прикрыл ему рот. Он начал брыкаться ногами, надо было всего лишь их сжать. Я чувствовал хруст, пора было поторопиться, к тому же, он ведь не мешал мне бежать. И вот дело сделано: плюх в воду! Ведь был еще камень. Вода была прозрачной, я видел, как мешок с ребенком опускается на дно, ко мне же возвращались пятьдесят франков, которые он стоил мне каждый месяц. Разве я был неправ? Стоило же того?
Он залпом осушил стакан, остальные тоже приложились к вину: уж нам-то известно, каков настоящий хмель.
Голубой, зеленый, оранжевый, красный, – вокруг висят лоскутки солнца, подобные спелым фруктам. От тяжести стаканов и бутылок повалился стол, но грохот был заглушен смехом. При таком беспорядке это едва заметно.
Перед харчевней, растянувшись, спали упившиеся и объевшиеся. Удовольствия утомляют. Кто-то лежал на боку, подперев рукой голову; кто-то кверху задом; кто-то надвинув на глаза шапку. Лежала там и пампушка Люси. Она была вся растрепана. Так выглядела площадь перед харчевней, но в нескольких шагах стояла церковь, где все было иначе. На нее было страшно смотреть: сорванная с петель огромная дверь, везде трещины, высокая колокольня накренилась. Но еще страшнее выглядела деревня, являя взору обвалившиеся крыши, размытые улицы и, словно нечистоты, брошенные то там, то здесь, повсюду лежали трупы.
Показалась ватага, спускавшаяся по пологой улице, в ней кричали: «Привели еще троих…» Было видно, что с ними двое мужчин и женщина, те уже не могли идти, их несли.
Как и остальных, их втащили в харчевню, и тот, кто там царствовал, принял их и заставил, как остальных, креститься наоборот. И, поскольку он уже больше не прятался, он спрашивал:
– Вы знаете, кто я? – Он рассмеялся. – Нет больше ни зла, ни добра. Вы должны отречься от небес ради земли.
Но все, кто здесь был, уже отреклись от небес ради земли, а он – он смеялся.
– Нет больше ни зла, ни добра. – Повторял он, и все смеялись вослед, ведь раб подражает хозяину, за исключением сидевшего в отдалении Лота, который уже долго не разговаривал. Он казался чужим тому, что творилось. Он был бледен. Глаза стали больше, борода длиннее и еще чернее.
Человек позвал его:
– А ты, Лот, что думаешь?
Лот поднял голову.
– Как ты думаешь, кто я?
Лот ответил серьезно:
– Я думаю, что ты Христос и являешь себя, как считаешь нужным.
– Мой бедный Лот, ты ошибаешься! Посмотри!
Он подошел к окну, ему надо было лишь поднять руку: явилась черная туча, послышался гром.
– Видишь!
Но Лот, качая головой:
– И все же говорю, ты Христос, тебе повинуются мертвые…
VII
Рассказывают, это случилось, когда она ходила пасти козу (вы же помните малышку Мари Люд, дочь Люда, что переставил межевые камни, а потом сбежал?). В середине зимы они с матерью ушли, изгнанные людской злобой. В середине зимы, когда порошил мелкий снег. Мул вез вьюк. На изгороди сидела большая красноголовая птица. Они долго шли, пока не добрались до маленького домика в другой коммуне. Он стоял очень далеко от деревни, они и не знали, что там стряслось.
Наступила весна. В тот день малышка Мари ходила пасти козу и сидела под лиственницей, которая, казалось, была окружена зеленым паром, росли новые иголочки. Она вязала чулок, спицы выныривали из синей шерсти, словно из воды рыбки.
Рассказывают, что ее позвали. И она, подняв голову, посмотрела вокруг, но никого не увидела, лишь освещенные солнцем луга, а вдалеке большие белые горы.
Но когда она вновь принялась за рукоделие, голос снова позвал.
И она узнала тот голос.
Это был ее отец. Это был Люд, бедный сбежавший Люд. Говорили, что он где-то недалеко, раскаялся и мучается без тех, кого бросил. Он вернулся, терзаемый сожалениями и любовью, спустился в деревню, и поскольку никого дома не нашел, отправился на поиски.
Но напрасно Мари озиралась, она никого не видела. Был только голос, и голос говорил:
– Мари! Мари, ты идешь? Ты здесь очень нужна!..
Голос звучал со стороны деревни. Вот куда нужно идти, думала она, по-прежнему никого не видя. Перед ней был лишь пологий луг, на котором, потряхивая белой бородкой, коза пощипывала свежую травку, а над лугом простиралось небо, похожее на высокий потолок, выкрашенный голубой краской.
Она подумала, не ослышалась ли, но нет, голос прозвучал снова.
Сила ее заключалась в том, что она ни секунды не колебалась. Ее звал отец, значит она должна слушаться, Она сразу же придумала, что завтра отправится в путь спозаранку, и решила ничего не говорить матери. Она пойдет пасти козу дальше, чем обычно, под предлогом, что вблизи дома трава уже съедена, она возьмет обед, как иногда делала, затем, воткнув в землю колышек, привяжет козу, оставив подлиннее веревку, чтобы у козы была еда на весь день. «Днем мы вернемся, – думала она, – еще до того, как мама начнет волноваться. К тому же, все позабудется, когда я приведу папу!»
Голос позвал снова, ей надо было только пойти за ним. Дорога долгая, поднимается, спускается, снова идет вверх и даже не всегда заметна, но она знала ее наизусть. Она прошла сквозь лесной заслон, за ним был другой, меж ними простиралось поросшее травой обширное пространство, которое она тоже пересекла. Там, где дороги нельзя было распознать, она взором искала ее продолжение, в конце концов находя ее, серую, словно нитка, которой прошита простынь. К тому же, как только она останавливалась, голос слышался вновь.
Так и стали, наконец, проявляться знаки. Знаки – их показывалось все больше, выглядели они все страшнее – она едва замечала. Впереди появились повалившиеся поперек дороги огромные еловые стволы, – она даже не замедлила шага, она была маленькой и легко пролезала снизу. Понемногу менялся свет, менялся воздух, он был чего-то лишен, не слышалось никаких звуков (раньше витали в нем птичьи песни, шум колоколов, звон бубенчиков, теперь же – ни песен, ни колоколов, ни бубенчиков), но она не замедлила шага.
Она добралась до вершины последнего склона, откуда открывался вид на лежавшую внизу деревню, пахнуло гнилью, как если б она стояла у разверстой могилы, и это был не только запах, но и вид могилы: скелеты обрушившихся стен, развороченной земли и осыпавшихся склонов средь перевернутых глыб, а еще – тишина и серый свет такого оттенка, который покрывает лоб мертвеца, – и все же ничто из этого не имело значения, поскольку ее позвали, и она продолжала дорогу.
До сих пор ей не попалось ни одного живого существа, только когда она шла мимо жилища мельника с обвалившимися стенами и огромным, упавшим и замшелым колесом, спросили:
– Куда ты?!
Открылось окно, показалась голова, это была мельничиха. Она так изменилась, что Мари ее не узнала. Мельничиха продолжала:
– Не ходи дальше, погибнешь!
А та:
– Вы его видели?
– Кого?
– Моего отца.
И поскольку его никто не видел, она продолжала идти.
Она была уже всего в нескольких шагах от деревенских домов, и снова распахивались окна:
– Остановись! Не ходи дальше!.. Ты же ничего не знаешь!..
Но она не слушала, ей чудилось, она увидела отца, выглядывавшего из-за стены, как если б он дожидался ее, не осмеливаясь показаться на глаза, и она думала:
– Конечно же, я отыщу его дома.
А поскольку, чтобы дойти до дома, ей надо было пересечь площадь, к площади она и направилась, несмотря на то, что ей продолжали кричать, а некоторые жители даже отважились выйти из дома. Но только ли они хотели ее удержать или же видели будто исходивший от нее свет, и вот уже свыше до них доносилось свежее дуновение?
*
Люди на площади просыпались.
Один за другим, с трудом поднимаясь на локтях, они зевали, потом снова откидывались назад.
Они спали на площади, в домах было слишком жарко, и как попало лежали под большой старой липой без листьев. Там, где сон их заставал, они и валились на землю. Где сегодняшнее наслаждение исчезало, находило их наслаждение дня следующего.
Еще одно утро, такой же день, как остальные. Под большой оголенной липой, – выглядевшей так, будто ее вырезали из черного камня, ствол и толстые ветви обтачивали стамеской, тонкие малые ветви повыше тщательно обрабатывали до самых кончиков, – настало еще одно утро, ах! Все дни похожи. И помимо воли они отыскивали друг друга. Некоторые, словно животные, лежали на соломе, другие спали прямо на земле. Их было человек сто пятьдесят, даже больше: мужчины, женщины, дети, стар и млад – Крибле, Кленш, толстушка Люси, отец, мать и пятеро их детей, Тридцать-Сорок, Лавр, Жантизон, невдалеке был и Лот, хотя к остальным он не присоединялся. Догорали свечи на столах, где стояли бутылки с вином, много бутылок попадало. На покрашенных коричневым досках блестели лужицы, звук стекающих капель походил на звук тикающих часов; еще, когда свечи догорали и гасли, слышалось тихое потрескивание. А они остались, где пришлось, повсюду, будто убитые на поле боя. Однако все чаще вытягивались руки, распрямлялись ноги, тела поворачивались, зевали, вздыхали; еще не проснувшись, они стремились к удовольствиям, как иные стремятся к работе.
Ну, где твой аккордеон, папаша Крё? Сыграй что-нибудь. Мы вновь начнем смеяться, как другие начинают работать. Отведи в сторону ничего не видящие глаза, склонись набок, коснувшись меха, и пусть пальцы побегут по клавишам. Подожди лишь, когда мы проснемся.
Проснулись они, в самом деле, только наполовину, когда Мари подошла ближе, никто вначале ее не заметил. Они вполне могли увидеть ее, если б были на то способны. Им даже не надо было видеть, если б они могли хотя бы слышать. Повсюду распахивались окна, по-прежнему раздавались крики: «Не ходи! Не ходи!» Деревня воскресала. Долгое время над ней висела тяжкая тишина, будто каменная плита, и теперь камень подняли.
Но Мари надо было подойти еще ближе, тогда увидел ее Жантизон. Жантизон увидел ее первым. Он оперся на локти. Лавр лежал рядом. Жантизон толкнул Лавра плечом. Вначале они ее не узнали. Жантизон лишь сказал:
– Еще одна!
Но поскольку она была уже совсем близко:
– Не может быть! Мари! Дочка того самого, ты ведь знаешь. Ее давно уж никто не видел. Да и его тоже… Какая красивая!
Вот как все началось. Лавр и Жантизон обменялись взглядами и сразу все поняли. Поняли, что теперь их двое и оба они соперники, но они нуждались друг в друге. Они не могли подняться самостоятельно. Должны же они были на кого-нибудь опереться; они встали на коленки, сгребли один второго в охапку. Все это их смешило, а еще более – то, что они обещали друг другу попозже, предвидя очередные утехи.
Она же – она видела, как медленно они поднимаются, – она удивилась, они ведь были большими. Они суетились, тянули к ней руки, они еле стояли, словно деревья, лишенные корней. Смеясь, они раскрывали рты, зубы были гнилые. У них были красные глаза, под глазами мешки. И вновь они тянули руки к Мари, говоря: «Скорее, Мари! Мы так тебя ждали!..»
Она все же на мгновение заколебалась. Видели, что она остановилась. И другие, проснувшись и сев, тоже повернулись в ее сторону. Тут были все эти люди, она была одна, тем не менее она недолго стояла.
Видели, как она вновь пустилась в путь. Лавр и Жантизон кричали: «Браво!» На ноги поднялись только эти двое, так что они всех опережали. Она свернула к улице, они – за ней. Шаги у них получались больше, чем им бы хотелось; преследуя ее, они несколько раз ее упускали. Тем временем поднимались остальные, и остальные тоже хотели подойти, говоря: «Пустите-ка нас!» Лавр и Жантизон смекнули, что нельзя терять времени. Жантизон решился, Жантизон рванулся вперед. Жантизон повалился на землю.
«Не рассчитал, – думали люди, – ничего удивительного, в таком-то состоянии». Лавр следовал прямо за ним, и все решили: «Этот поймает!» Казалось, он лучше рассчитал прыжок, но неизвестно, что случилось, однако в момент, когда он должен был уже схватить ее, Лавр будто налетел на стену. Лавр упал навзничь.
Остальные замолкли, все на площади стихли. В наставшей тишине стал различим гул из другой части деревни.
Опасались ли за нее или всего лишь жалели, или же им было любопытно? Но от крыши к крыше, от дома к дому, от двери к двери, по воздуху и по земле, будто летя на крыльях и поспешая бегом, прекрасная новость неслась повсюду, они оживали.
Это правда? Такое возможно? Они не просто высовывали наружу головы, но уже выходили на улицы.
На площади начинали терять терпение, особенно женщины: «Идите за Хозяином! – Кричали они. – Она смеется над нами. Идите за ним!..»
Все еще слышались эти возгласы, чаще женские, в сердцах была ревность: «Хозяин! – Вновь принимались они. – Где он?! Она еще пожалеет…»
Едва им хватило времени удивиться, почему он не показывается, – за ним кто-то пошел, – и едва им хватило времени в последний раз взглянуть на харчевню, на ее белые стены, на Крибле в одном из окошек, говорящего: «Я просто смотрю. Я не участвую», едва хватило времени постучать в дверь, как Человек появился.
Человек был здесь.
– Ты еще узнаешь! Ты еще пожалеешь! – кричали Мари женщины. Человек был здесь, он вышел вперед.
Он сделал шаг, другой. Остановился. Затем еще шаг, другой.
Он больше не выглядел таким уверенным. Он улыбался через силу. Он шел, но медленно, не столь прямо, как могло показаться. Его кожа стала обвисать, она обвисала все больше и больше, на шее, на руках, на всем теле. Она свисала, отделялась, словно одежда, которая вот-вот упадет.
И вот он остановился. Мари не останавливалась.
И ей достаточно было перекреститься, перекреститься по-настоящему…
*
Рассказывали, что небо сделалось красным, земля пришла в движение, дома накренились так, что, думали, они упадут.
– А потом – все. Мы прислушивались – ничего. Мы шли к окнам посмотреть…
И вот, что они видели, подойдя к окнам, – сначала они не могли поверить, но – да! все, как и следовало, – светило солнце, а под ним простиралась деревня, будто заново отстроенная, новая.
Солнце – какого давно уже не было, а под ним – восстановленные крыши, наново выкрашенные стены, – прежняя деревня, но будто краше, будто настало воскресенье и все нарядились, потому что пришел праздник, и тогда они поняли, поняли поздно, но слишком поздно никогда не бывает.








