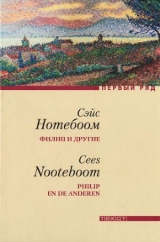
Текст книги "Филип и другие"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Может быть, я должен был сделать это раньше?
Улица была на дальней окраине, и найти ее оказалось нелегко, ведь прошло много лет. Дома вовсе не зеленые, подумал я, и мне стало больно от того, какие они грязные и унылые. Это была улица бедняков, где шторы скрывают интерьеры, которыми не пристало гордиться. Дети играли – дети играют всегда и везде, но здесь орали грубыми, хриплыми голосами и что-то друг у друга отбирали.
«Не знаешь ли, где магазин мистера Лэйса?» – спросил я какого-то мальчика.
«Нету тут никакого мистера Лэйса», – ответил он. Другие дети подошли поближе: «Нету тут никакого мистера Лэйса».
«Его магазин был здесь, на углу», – сказал я. Но и на углу никакого мистера Лэйса не было.
«А что это был за магазин?» – спросили дети.
«Магазин с мертвыми птицами».
«Тут есть магазин с мертвой птицей на витрине, вон на том углу».
Я пошел туда и увидел Жанет, одинокую и немного смешную, – это была витрина дешевой аптеки.
«Привет, красавчик», – услышал я позади голос, и, хотя это был не тот голос, который я слышал во сне, я понял, что это – она.
«Привет, – сказал я, – зачем ты переоделась?»
«Переоделась? – спросила она. – Ну, ты даешь, красавчик, у тебя что, не все дома?»
Она не узнала меня, если бы не сны, и я не узнал бы ее. Она была по-иному одета и ростом стала почти мне вровень из-за туфель на высоченных каблуках. Но главным признаком падения был толстый слой яркой косметики на лице и волосы, уложенные на лбу завитками.
«Ты при деньгах, красавчик?»
«Да, – сказал я. – Давай-ка зайдем внутрь».
Человек за прилавком поздоровался, но смотрел на нее насмешливо.
«Чем могу служить?»
«Птица в витрине, я хочу купить птицу».
Он повернулся ко мне. «Я долго ждал этого, – сказал он. – «Лет десять назад, когда я купил магазин у мистера Лэйса, он попросил меня оставить на витрине эту птичку для детишек, которые жили тут неподалеку и копили деньги, чтобы ее купить. Эти дети должны были прийти за ней, и вот они здесь. Одного из них я, положим, знаю…»
«Заткни пасть», – сказала она позади меня… «…A другого вроде бы нет, – продолжал он тонким бесцветным голосом. – Честно говоря, я успел привязаться к этой птице».
«Вот деньги, – сказал я, – поторопись».
«Мистер спешит, – протянул он, но все же взял Жанет с витрины и поставил на прилавок. – Бессловесный труп», – сказал он, фамильярно хлопнул ее, и полетела пыль.
Я взглянул на Мэри Джейн. «Я купил ее, – сказал я, – я купил Жанет… Может быть, я немного опоздал, но я купил ее».
«И сколько раз тебе надо было смотреть, чтобы все понять?» – спросила она.
«Два, – подумал я, – в первый раз и теперь». И увидел, что она взяла птицу за лапки и сняла с прилавка.
«Черт побери, – выругалась она, – вот тебе!» Мне показалось, что Жанет вскрикнула, когда упала между нами на пол. Головка оторвалась и лежала среди вывалившихся из туловища внутренностей – истлевшей, вонючей соломы. Мертвее мертвого торчали жуткие жесткие ноги, приколоченные к подставке; облако пыли, словно от небольшого взрыва, поднималось вверх.
«Проваливай», – сказала Мэри Джейн; я знал, что они замерли у меня за спиной, как персонажи гибельной пантомимы. Звякнул колокольчик – я отворил дверь – и ушел.
«Вы нашли ее?» – спросили дети.
«Да, – ответил я, – я ее нашел».
Я действительно ее нашел, после такой находки остается только пуститься в путешествие на попутках. Кто же знал, что в Германии тебе попадется парнишка, который всех спрашивает: «Не встречали ли вы девушку, похожую на китаянку?» Почему бы не отправиться на поиски вместе с этим парнишкой, хоть какая-то цель, не хуже других. А иногда сидеть здесь и снова и снова рассказывать все ту же историю, снова и снова рассказывать свою историю тому, кто спрятался за занавеской и не желает слушать.
– Я слушал, – сказал я, – и все слышал. Теперь я хочу выйти.
Проходя по комнате, я увидел краем глаза застывшую картину – они стояли, все трое, одинаковые, как на картине примитивиста, пережившие тоску, горечь, томление. Я сбежал по лестнице и вышел в сад. Дождь кончился, но поднялся сильный ветер, деревья качались, как пьяные фрейлины, а облака, безудержно хохоча, неслись по небу.
***
Я снова слушал их рассказы, снова смотрел на них, на их руки, двигавшиеся в ритме воспоминаний. Одиночество, похоже, наполняло их, как мухи – труп, но об этом я ничего не знал, я думал о том, что одиночество, о котором говорят люди, ненастоящее и что когда-то наступит новое одиночество и отметит людей не Каиновой печатью, но печатью, подтверждающей их принадлежность к человечеству. Мы должны будем привыкнуть к этому, думал я. Может быть, наше время – лишь время ожидания истинного одиночества.
Шум дождя прекратился, но ветер шумел так сильно, что я не услышал, как подошел Хайнц.
– Ты видел картину «Страсти Христовы» Геертгена тот Синт Янса? [50]50
Геертген тот Синт Янс(1460–1490) – нидерландский художник, родился в Лейдене; работы находятся в крупнейших музеях Вены, Лондона, Берлина.
[Закрыть]– спросил он.
– Зачем ты пришел? – спросил я. – Я хотел побыть один. Я не хотел с вами разговаривать. Зачем ты вот сейчас сюда пришел?
– Ты видел картину «Страсти Христовы» Геертгена тот Синт Янса? – снова спросил он.
– Нет, – сказал я. – Не видел.
– Дождь собирается, – сказал он, – пошли под крышу.
– Зачем? Я хочу остаться под дождем.
– Иначе ты не сможешь увидеть «Страсти Христовы».
Мы прошли по террасе до того места, где на нее падал свет из верхнего окна.
– Смотри, – сказал он, – «Страсти Христовы».
В сухих, мраморно-белых руках он держал маленькую репродукцию. Это было фото из журнала, наклеенное на картон.
– Она помялась, – сказал я, – и запачкалась, я не могу ничего разглядеть.
– Кое-что еще можно различить, – ответил он. – Я всюду ношу ее с собой, все эти годы. Это – мой крест.
Картина изображала истерзанного Христа. Жалким, детским движением пытался он зажать рану на боку, из которой струилась кровь. Боль на лицах истязаемого, его матери и его друга Иоанна была изображена с особой жестокостью, она подчеркивалась грубым, темным крестом, пересекающим холст наискосок. Маленькие ангелы с мрачными лицами, несущие орудия пытки, заполняли остальное пространство, создавая достаточно плотную толпу, а на лице страдальца застыло загнанное выражение, как у человека, попавшего в ловушку.
– Видишь? – спросил Хайнц. – Это – мое страдание. Страдание, входящее в противоречие с их добропорядочностью, их невозмутимостью, если хочешь.
– Кого – их? – спросил я.
– Монахов, которые там живут не ради того, чтобы принадлежать к сообществу, как желал этого я, не ради красоты литургии, но из потребности в том, что за всем этим скрывается. Я был заворожен, приведен в восторг не мудростью псалмов, не, того хуже, их содержанием, не роскошью облачений и благородством жестов, а этим, этим и этим.
Он указал на раны Человека, изображенного на картинке, и это выглядело так, словно он яростно наносил их.
– Для меня он всегда был человеком, которого, несмотря на невиновность, избили и распяли – так в те времена казнили разбойников. Святой, может быть – пророк, а может быть – даже Бог? Его божественность преследовала меня все время – и поэтому тоже у меня не было права оставаться в монастыре. Может быть, я мог остаться там, исповедуя скептицизм, но я не был скептиком. Для меня он оставался израненным человеком, человеком, имеющим право упрекать нас с высоты своих страданий, а для них он был человеком призванным. О, я прекрасно знал, что скрывается за лицами, которые я непрестанно видел вокруг себя, – добропорядочными, как на портретах примитивистов. Человек Христос, посредник сил гипостатического общества, здесь, на этой картинке, страдающий. И предложение пожертвовать свою жизнь Богу ради искупления грехов человечества, и те священники, которые это предложение поддержали, их святость, подчиненная священникам высшего ранга, – все они суть беспрерывное Страдание Христово.
Понимаешь? Я ревновал. Если бы я мог, я бы их возненавидел. Возненавидел не потому, что они, как и я, встают в два часа пополуночи. Не потому, что они, как и я, питаются сухим хлебом, не едят ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Не потому, что они соблюдают обет молчания, как и я, мерзнут в ледяных коридорах и трудятся в поле, пока не устанут до полусмерти. Все дело в том, что у них была причина вести себя так, а у меня – нет. Вот потому-то. Может быть, это звучит странно, но в принципе они всегда отстранялись от себя, а я – никогда. Я рассказывал тебе, что мне пришлось уйти, как только у меня случился приступ. Я не был призван, сказали они и оказались вдвойне правы, хотя не знали этого. Правы, потому что канон требует внутренних и внешних способностей. Мою внутреннюю неспособность, которую я смог скрыть, мне простили. Но моя внешняя неспособность была явной, и тут они следовали правилам о работоспособности. Тот, у кого ее нет, теряет внешнюю пригодность, следовательно, он не призван Богом. Однорукие священники не призваны Богом, священники, больные падучей, не могут быть призваны Богом. Намного серьезнее это ударяет тех, кто думает, что призван, а не смешных людей, примазавшихся, вроде меня… Ах, да какое отношение ко всему этому имеет работоспособность, я больше не обижаюсь на них – я хорошо провел там время; кстати, прежде чем уйти в монастырь, я прошел врачебное обследование.
Он замолчал, и мы слушали вместе, как поскрипывает дом под порывами ветра, потом он сказал:
– В конце концов, мне это безразлично, но священник есть предмет первой необходимости.
4
Назавтра был тихий день, потому что все были на месте, но друг с другом не разговаривали, и я собрался уходить. Я видел их спящими. Их лица были удивительно пустыми после вчерашних рассказов. Саргон спал, положив мягкую розовую руку на плечо Хайнца. Он выглядел теперь громоздким и беспомощным, как свалившаяся с алтаря символическая рыба, разросшаяся до размеров человека.
Он проснулся и взглянул на меня.
– Ты смотрел на меня? – сказал он.
– Да.
– Как ты думаешь, жизнь коротка? – спросил он, и я не успел ответить, что не знаю, как он торопливо добавил, что точно знает: жизнь не короткая, а жутко длинная и он всегда думает об этом, когда просыпается. – Вот, к примеру, этот, – он показал на Хайнца, – мы с ним вместе уже больше года. Жизнь коротка, как травинка, говорит он всегда, но это неправда. Посмотри на эти тощие руки, на это белое, нездоровое лицо, за это время тело его не стало старше. Ты думаешь, я бы узнал его, если бы не наблюдал так долго? Я изучил его, как ребенок дорогу, по которой каждый день идет в школу: это дерево, и дом, и старики, завтракающие у окна… И тут так же: пятно на его правой руке, сухая кожа и старческие нотки в голосе – все это мое, словно я прожил одну жизнь с самим собой, а другую – с ним; всю жизнь вбираешь в себя множество жизней, они как бы усаживаются тебе на плечи и давят, душат, пока не начинаешь говорить, чтобы столкнуть их с себя, но они все равно остаются, и начинают тебя постепенно раскрашивать; они раскрашивают своей темнотой и угнетенностью твое лицо, твои руки – ты видел, как я уродлив? Люди, которые говорят, что год пролетает без следа, забывают, что им придется прожить еще целый год, чтобы рассказать о том, что случилось в этом. Я хочу спать.
Он улегся и закрыл глаза, веки, как фиолетовые тени, легли на бледную кожу; он заснул почти сразу и чмокал во сне губами, как это делают некоторые люди, особенно – дети.
Что мне за дело до этих людей? – думал я; они словно явились из другого мира, чужой страны, во сне они уходили от меня все дальше и дальше, и я думал о том, чтобы вернуться к поискам моей китаянки, потому что я видел ее в Кале и она не остановилась, когда я звал ее под дождем, а ведь уже тогда я искал ее – везде, в Кале и других городах, честно говоря, только для того, чтобы с ней поговорить. Но как только я упаковал рюкзак, Фэй сказала:
– Погоди, пускай сперва они уедут. Я хочу, чтобы ты задержался.
– Ты спишь, – сказал я, но она ответила, что не спит и что она не хочет, чтобы я уезжал.
– Завтра мне надо будет нарвать цветов, и ты должен мне помочь.
– Я вернусь, – сказал я, – я должен вернуться. Я оставлю здесь свой рюкзак. – И я отправился в Люксембург налегке.
Поезда въезжают в этот выстроенный на горе город по мосту, высокому и изящному, как римский акведук. Был вечер, когда я вышел к трем башням, отсюда, с высоты, должен был открываться великолепный вид на окрестности. Но уже стемнело, и долина выглядела, как огромная темная чаша, полная тишины, нарушаемой редкими звуками – бормотанием воды, беседующей с луной. Я не нашел, где бы присесть: на всех скамейках сидели в обнимку сладострастно шевелящиеся парочки. Знаю я эти парки, все на одно лицо, ступаешь по гравию, хрустящему под башмаками, – где бы ты ни был: Слоттерспарк в Осло, Люксембургский сад в Париже, Фонделпарк в Амстердаме, Вилла Боргезе в Риме, – идешь по одинаково длинным аллеям, по обе стороны – скамьи, на них – люди. Кружится хоровод. Хоровод людей на скамейках парков, и юноша, идущий меж ними по дорожке.
– Зачем ты нам мешаешь? – говорят они.
Это был наш вечер, наполненный тишиной, только деревья шептались друг с другом. Это был наш вечер, с царственной луной в небе, меланхолически плывшей сквозь запахи деревьев и земли, едва освещая наши тела – и с чем там еще? – с текучей водой.
– Зачем вы это говорите? – спросил я.
***
Она: Не видишь, как мы замерли, обнявшись, когда ты приблизился, ты – незваный, нежеланный гость.
Я: Зачем вы замираете, если должны оставаться свободными? То, что вы ласкаете, смертно, этого не изменить колдовством.
Она: Ты идешь мимо, и мы застываем и часто выглядим смешно. Ты навязываешь нам свое присутствие, трое – уже толпа.
Я: Вы вот-вот встанете и уйдете отсюда вместе и, может быть, ляжете спать в одну постель – если не займетесь этим прямо здесь; вы проснетесь рано утром, нет, один из вас проснется раньше и увидит, как другой, любимый или не очень, потягивается и зевает. Увидит при свете, и это будет странно, как под увеличительным стеклом, и страшно – видеть рядом чужое тело.
Она: Когда ты проходишь, слышен отвратительный шорох ног по дорожке, мышцы пружинят, чтобы лучше поддерживать тело.
Я: Я прохожу между вами во всех парках мира, я прохожу сквозь любовь и не понимаю этого, себя не разделишь. По утрам, перед началом работы, вы покидаете друг друга, и тела начинают свой одинокий путь, ваши обласканные тела – и мое, не знавшее ласки; они удаляются друг от друга, и только ночь может умиротворить и объединить их.
Она: Чего ты хочешь? Мы знаем свое несовершенство – но мы любим друг друга не из-за сочувствия к собственной смертности. То, что происходит здесь между нами, – одиночество вдвоем. Мы любим эти неповторимые мгновения по вечерам, они – наша тайна, мы несем в себе свет этой тайны, окутывая ее нежностью.
Я: Тому, кто никогда не был одинок, нужно найти другого одинокого, в мире полно одиноких, их легко разыскать.
Она: Такого одиночества тебе не отыскать, оно должно возникнуть. Когда тебе посчастливится, ты его узнаешь: оно соткано из того, что само говорит, оно становится видимым по причине, которую само выбирает, благодаря поводу, который мы ему даем, чтобы найти эту причину. Пусть тот, кого мы ласкаем и сжимаем в объятьях, встретился нам случайно, но то, что будет потом, – мы совершили сами.
Я: А если я буду бродить в тот вечер, что и для меня припасет беспокойство с блаженством, которое наложит руки свои на дневную суету и рой суетных мыслей, если я буду искать скамейку, и найду, и сяду там с кем-то, не потеряю ли я себя?
Она: Это невозможно – ты можешь потерять себя, только если окажешься несостоятелен. Твой страх – это наша копия и имитация наших жестов, но каждый имеет свои жесты, свои слова, свой запах, вроде кода. Ты проходишь здесь не с гордостью, но в страхе и бессилии, нехорошо проходить между нами и своим недоверием ломать, как веточки, то, что мы строили весь вечер. У нас мало времени. Еще день, мы еще здесь, но кровь уже не та; тела, которые мы знали, начинают стареть, а наши воспоминания исчезают, словно под слоем штукатурки.
Я: В чем же, в конце концов, разница?
Она: Жизнь человека не бесконечна, она здесь и сейчас. Сейчас, с напряжением в теле и изощренностью рук; сейчас, с секретным голосом рта и изощренностью губ.
***
Да, сказал я, да.
***
Фэй ждала меня, когда я вернулся в ее дом.
– Они убрались? – спросил я, но остальные все еще были здесь.
Мы сели на террасе, и она положила руки мне на плечи.
Потом сказала:
– Нет, пошли на стену.
И мы полезли на стену. Она вскарабкалась первой, втащила меня наверх, и мы уселись на стене лицом к воде. Кажется, мы сидели там довольно долго, она крепко обнимала меня рукой за плечи и время от времени обводила пальцами с ярко-красными ногтями мои губы. Потом я тоже обнял ее за плечи: так, возвращаясь с друзьями из школы, мы обнимались, поверяя друг другу свои секреты.
– Ха, Фэй, – сказал я, и она засмеялась. Я спросил: – Тебе не странно быть такой красивой?
– Странно?
– Да, – сказал я и осторожно положил руку ей на грудь. – Ты такая красивая, и я думаю, ты должна испытывать странные ощущения. Если какая-то вещь красива – это одно, но когда женщина красива и знает об этом – это совсем другое.
– Ты не любишь меня, да? – спросила она.
– Не знаю, – сказал я, – наверное, нет, но точно я не знаю, потому что никогда еще никого не любил.
– Я думаю, ты любишь ее, – сказала она.
Не знаю, подумал я, с ней я хочу только поговорить.
– Филип… – снова начала Фэй.
– Да.
– Как ты думаешь, я не слишком старая, чтобы играть в мяч?
– Нет, – сказал я. – Думаю, что нет.
– Иногда, когда здесь никого нет, я играю в мяч, я бегу через двор, и бросаю его, и считаю – иногда мне удается добросить его до стены, тогда я его ловлю. У меня этот мяч очень давно, но теперь я играю в него только тогда, когда уверена, что никто меня не увидит.
– Я хочу с тобой сыграть, – сказал я, – не так много времени прошло с тех пор, как я играл в последний раз.
Мы слезли вниз, и она положила руку мне на шею, как тогда, возле сирени.
– Так ты не считаешь, что я стара для игры в мяч? – снова спросила она.
– Нет.
– В мячик играют одни дети, разве нет?
– И дети тоже.
Она вонзила ногти в мою шею. Лишь бы не укусила, подумал я, но она сказала:
– Ничего не видно, уже ночь, мы потеряем мячик и больше никогда не найдем.
– Сходи лучше за мячом, луна-то светит.
– И правда, луна. – Она оглянулась и, полузакрыв глаза, посмотрела на меня. – Я переспала со множеством мужчин.
– Да, – сказал я.
– Но никогда ни с кем не играла в мячик.
– Так сходи за мячом.
И она откликнулась – да – и ушла в дом.
Мяч был большой, голубой, с желтыми полосками, и мы играли между обломков камней, пока остальные спали. Молча, изо всех сил, мы бросали мяч друг другу. Потом начали вести счет, и она выиграла, потому что была ловкой, как дикая кошка. Легко, как бы танцуя, она подпрыгивала, чтобы поймать мяч, и перегибалась назад, бросая. Потом она подошла ко мне, держа мяч в руках.
– Я думаю, этот мяч приносит счастье, – сказала она, – я должна его всегда ловить, а теперь брось его изо всех сил. – И когда она вернулась на место, я подбросил мяч, высоко-высоко, в сторону луны, так что он в какое-то мгновение сверкнул холодным, опасным светом.
– Вот твое счастье, – крикнул я, – поймай-ка его теперь.
И она подпрыгнула, взлетела вверх, как огромная, бесшабашная птица, руки – как сверкающие крылья, и рухнула с мячом в руках.
– Тебе больно? – кинулся я к ней, но она сказала только:
– Поймала! – И мы продолжили игру, и играли долго-долго, а потом заснули на террасе – она не была холодной, эта ночь.
Я проснулся от того, что остальные спустились вниз, и увидел, что Фэй еще спит, согнув правую руку в локте, словно обнимая кого-то невидимого, кто спал, положив на нее голову, а может быть, ожидая, что кто-то придет и ляжет рядом; левой рукой она придерживала мяч, невинно-голубой и желтый в ярком свете дня.
Хайнц расстелил на полу огромную карту Европы и красным карандашом провел линию от Плимута через Париж и Цюрих до Триеста.
– Что это? – спросил я, но он пометил Европу выше линии «римской» единицей, ниже – «римской» двойкой.
Так что единицей оказались помечены Англия, север Франции и выше – Голландия, Бельгия, Люксембург и Скандинавия, а двойкой – остаток Франции, Испания, Португалия, Швейцария, Италия и Югославия.
– Тактика, – сказал он, – это просто вопрос тактики. Ты будешь Единицей, а мы – Двойкой. Ты ищешь в области Один, мы – в области Два.
Нет, подумал я, я буду искать, где захочу, но я могу и поехать туда, так что я сказал, что нахожу это разумным.
Рюкзак Хайнца похудел, сделался совсем плоским и изумительно шел своему хозяину, эдакий атрибут Дон-Кихота. Хайнц провел кончиком языка по сухим губам, сказал:
– Прощай, моя прелесть. – И сделал движение руками, словно хотел сказать еще что-то или сделать, но не сделал; медленно, словно неся на себе неподъемную тяжесть, он уходил по аллее к воротам. Один раз он оглянулся, чтобы поглядеть, идет ли за ним Саргон, он был бледен, как рассвет. – Идешь, Саргон? – спросил он.
– Я должен ему что-то сказать, – откликнулся Саргон.
– Нет, – сказал я. – Я больше ничего не хочу о вас слышать, я – Единица, вы – Двойка, он сам это придумал, я ничего об этом больше не хочу слышать.
Но Саргон схватил меня за руку и легонько потянул к себе.
– До большой дороги? – спросил он; это «до большой дороги» произнес его длинный розовый рот и выпученные серые глаза – да; и еще – когда-то он писал стихи, но с этим было покончено, наедине с листом бумаги он находил только себя, что и привело к катастрофе.
– Философию я тоже пробовал, – добавил он и продолжил говорить, а я слушал – про Фому Аквинского, про пять доказательств бытия Божиего. Так оно и должно быть, считал он, эта канава для всего, но Шопенгауэрово упрощенное отрицание Бога сбило его с толку, все философы сбивали его с толку своей уверенностью в противоположных постулатах, а все из-за того, что он прочел лишь популярное изложение их работ и цитаты, которые там были, произвели на него сильное впечатление, его-то он считал ароматом истины.
– Я от всего этого отказался, – сказал он.
– Саргон, – крикнул Хайнц, он был уже далеко.
– Ладно, иди назад, – сказал Саргон.
Мы попрощались, и я вернулся к Фэй.
– Они ушли, – сказал я, но она ответила, что и мне пора уходить, что нужно подняться наверх, забрать свой рюкзак, но, когда я вернулся, ее нигде не было, и мне не с кем было попрощаться. Может быть, она перелезла через стену и рвала там цветы или играла в мяч, не знаю, во всяком случае, я ушел и, так как был Единицей, двинулся к северу, и в стране, где текут реки Ваал и Маас, устроился на ферму собирать вишни, потому что у меня кончились деньги.
Я ходил по садам с трещоткой, отпугивая скворцов. Мы кричали хой-о, хой-о, хой-о, трещали и стучали консервными банками, а когда сбор вишен закончился, я уехал на остров Тексел, сперва – обрывать листья тюльпанов, после – выкапывать луковицы. Я почти ничего не помню, только землю, мокрую по утрам, сухую и колючую днем, когда солнце поднималось высоко. Мы стояли коленками на земле и руками выковыривали из нее луковицы, кидали их на огромные сита и трясли, чтобы сбить комки земли. Помню, иногда шел дождь, а мы, склоненные над огромным полем, казалось, занимались любовью с землей и требовали ее ответного чувства. Потому что, хотя это и неправда, многие считают себя порождением замли, а не какой-то там бабы.
Все это я делал, чтобы заработать денег – потому что собирался продолжать поиски, и я их зарабатывал в Голландии, но не нашел ее там, потом – в Германии, но и там ее не было; наступил сентябрь, начиналась осень, и однажды, ранним утром, я пересек границу Дании.
После проверки паспортов я взглянул на штамп и прочел: KRUSAA – Въезд.
Поднял глаза – и увидел ее.







