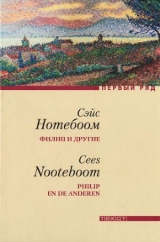
Текст книги "Филип и другие"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Его появление было неожиданным сюрпризом, потому что на нем были до блеска начищенные башмаки, длинные черные чулки и новенький, еще не обмятый матросский костюмчик.
«Почему ты так красиво одет?»
Он пожал плечами: «Я решил сегодня отпраздновать свой день рождения».
«У тебя сегодня день рождения?»
«Нет, конечно, тупица, я ведь сказал: я хочу праздновать день рождения. Ты тоже должен сегодня днем прийти и привести с собой всех. Папы нет дома, и ты должен привести всех-всех гостей, потому что на день рождения всегда бывает очень много народу и все приносят разные вещи».
«Кого же мне привести?»
«Твоих друзей, кого ж еще. У тебя ведь есть друзья, и они к тебе приходят, и они такие же старики, как ты».
«Но у меня нет друзей». – Я был в отчаянии.
«Врешь, – крикнул он и топнул ногой. Сейчас он был очень хорош собою, черные глаза его раскрылись широко-широко. – Все ты врешь, у тебя полно друзей».
Дядюшка Александр вздохнул.
– Было очень трудно врать ему, но я сказал, что, может быть, у меня и найдется несколько друзей, но в рабочий день, как сегодня, они заняты и не смогут прийти. Жаль, что ты их не увидишь. Он стал еще красивее от злости и крикнул: «Тогда я получу только один подарок, от тебя!»
«Нет, конечно, нет, – быстро сказал я, – мои друзья, конечно, дадут мне что-то для тебя, раз не смогут прийти сами».
Он наклонил голову набок и сжал губы. «Честно? А чего они мне подарят? Я хочу книги, и чтоб на них было написано, что они для меня».
«Какие книги ты хочешь?» – спросил я.
Он пожал плечами: «Какие книги?.. Не знаю… – Он подумал немного. – Лучше толстые или… э-э-э… немецкие».
«А ты читать умеешь?» – спросил я.
«Да заткнись ты, – ответил он и побежал домой. Но по дороге оглянулся и крикнул: – В полчетвертого!»
«Пока, до полчетвертого!» – отозвался я.
Днем он снял матросский костюмчик. «Он душит и кусается. И потом, ты все равно один пришел. А что у тебя в чемодане?»
«Подарки от моих друзей».
«Много подарков? А то чемодан-то большой, но, наверное, не полный».
Я щелкнул замком. Чемодан был полон книг – тех самых, которые ты видел там, на полке.
Он протянул руки. «Все, – прошептал он, раскачиваясь из стороны в сторону – все. – А потом спросил: – Все?»
Я начал доставать книги и ставить их в ряд.
«Кто дал тебе все это?» – спросил он, и я стал выдумывать друзей, которых у меня никогда не было, и говорить, что они очень огорчились оттого, что не смогли прийти к нему. Тем временем он пересчитывал книги. «Господи, – сказал он, – как много. Но эти семь – по-немецки, – они все одинаковые?»
«Они написаны по-французски, – ответил я, – и вовсе не одинаковые, это разные части одной книги».
«Правда?» – спросил он.
Дядюшка Александр смотрел на меня, словно ожидая, что я что-то скажу. Но я молчал, потому что боялся, что он ничего не расскажет про граммофон. Мы еще помолчали, потом он сказал:
– Вот и все.
– А граммофон? – спросил я.
– Нет, – сказал дядюшка Александр.
Прошло довольно много времени, пока он не заговорил снова:
– Так мы отпраздновали его день рождения. Я сидел в кресле у окна, потому что мне нельзя было ему помогать. Он хотел пересчитать все странички в своих книгах, и он думал, что я могу ошибиться и он не будет знать точного числа. Я смотрел на него, – кажется, он совершенно забыл обо мне, потому что он закусил нижнюю губу и время от времени тихо рычал и стучал ногами по столу. Через месяц дом выставили на продажу, потому что они, его отец и он, возвращались в Индонезию. Я купил дом и, когда они уехали, нашел книги и все остальное в той комнате.
– И граммофон?
– Нет.
– А что с ним сейчас?
– Понятия не имею. – Дядюшка Александр встал и ушел в дом. И притворил за собою двери террасы.
***
Я прожил у дядюшки Александра два года и многому от него научился, потому что он был стар и много чего знал. А через два года, как-то вечером, я спросил его, можно ли мне поехать во Францию.
***
В последний вечер перед отъездом я обнаружил, что клавесин исчез из комнаты.
– Где клавесин? – спросил я.
Дядюшка Александр подошел к тому месту, где раньше стоял инструмент.
– Я сильно устаю, когда играю, очень сильно, я стал совсем старым. Ты уезжаешь надолго, и, может быть, мне хочется дожить до твоего возвращения. Спокойной ночи.
На следующее утро я снова нашел рододендроны у своей постели, фиолетовые рододендроны и банкноту в сто гульденов, да, и потом, когда я спустился вниз и прошел через гостиную, торопясь к первому поезду на Бреду, я увидел дядюшку Александра, спящего на диване. Рот его был полуоткрыт, колени согнуты, а одна рука касалась пола.
Снаружи было холодно и туманно, и дом стоял, огромный и уродливый, среди тумана.
И я не пошел вдоль домов, которые построили на том месте, где раньше была Африка.
2
M-да, ловишь попутки на дороге… Не так-то просто добраться до Прованса. Был, к примеру, один тип на старой «шкоде», обещал подбросить до Антверпена.
– Сколько там коров? – спросил он. – Там, на лугу?
– Не знаю, я не могу так быстро считать.
– Тридцать шесть, – победоносно выкрикнул он. – Угости-ка сигареткой.
Я сунул сигарету меж его серых губ и дал прикурить. Он глубоко затянулся и выпустил густое облако дыма в лобовое стекло и мне в лицо.
– Дымовая завеса. Ха-ха. А с коровами – это ерунда. – Он щелкнул пальцами, но вышло не очень здорово, они были слишком толстые и корявые. – Очень просто: считаешь ноги и делишь на четыре! – Он подождал, пока я засмеюсь. – Ха-ха, – визгливо захохотал он, – а ты и не знал, а? Хороша шуточка, с длинной бородой. У тебя волосы красивые, длинные – эй, ты, должно быть, развлекаешься иногда с мальчишечками. – И он ущипнул меня за ногу.
– Я, пожалуй, выйду, – сказал я.
Он так резко затормозил, что я врезался лбом в стекло.
– Выметайся вон, живо.
Я потащил свой рюкзак с заднего сиденья, но он за что-то зацепился, и этот тип рванул его и выкинул меня из машины вместе с рюкзаком. Я побежал, я бежал, пока не услышал, что он захлопнул дверь. А он орал в окошко:
– Слабак! Дерьмо! – И только после этого тронулся с места.
Я тогда здорово напугался, но надо было ехать дальше, и я снова принялся ловить машину. И не надо меня спрашивать, через сколько дней после того, как это случилось, мы с Жаклин (впрочем, я узнал, как ее зовут, позже) танцевали на площади Форума в Арле. Я понял, что ее зовут Жаклин, потому что парни и девушки вокруг кричали: «Bonsoir, Jacqueline», [3]3
Добрый вечер, Жаклин (фр.).
[Закрыть]а она кричала в ответ: «Bonsoir, Ninette, bonsoir, Nicole» – и смеялась, глядя на меня, и мы танцевали и танцевали, и ее распущенные рыжие волосы развевались на ветру. Мы танцевали только друг с другом, и, когда стало совсем поздно, она прижалась ко мне и обняла меня за шею.
– Vous partirez demain, Philippe? [4]4
Вы завтра уезжаете, Филип? (фр.)
[Закрыть]– спросила она.
– Oui.
– Alors vous ferez un grand voyage?
– Ja ne sais pas. [5]5
– Да.
– Значит, вам предстоит долгое путешествие?
– Не знаю (фр.).
[Закрыть]
Почти все уже разошлись, оставалось лишь несколько пар, мы танцевали у памятника Мистралю [6]6
Фредерик Мистраль(1830–1914) – французский поэт, лауреат Нобелевской премии 1904 г., родом из Прованса, писал на провансальском диалекте французского языка.
[Закрыть]под аккордеон, и музыка казалась грустной – потому что тихий ночной Арль будил воспоминания, соединял их в тревожную мелодию, и они подступали все ближе, неся с собою грусть и тоску по былому маленькой группке танцоров, кружащихся под фонарями.
– Ты не должен меня целовать, если пойдешь провожать до дома. Обещаешь? – сказала она.
– Ладно, я не буду тебя целовать.
– И не посмотришь на название улицы и номер дома, – прошептала она. – Ты должен запомнить меня навсегда, но тебе нельзя будет мне писать, мы с тобой прохожие, мы разминулись на оживленной улице, и ты не должен возвращаться, потому что принесешь несчастье.
– Почему?
– Я знаю. Я родилась со старой душой. – Она коснулась пальцами моих губ. – Ты не должен ни с кем жить, только вспоминать, и не смей ни с кем оставаться надолго, сразу уходи, и за всякий прожитый день тебе придется расплачиваться вечером или ночью.
Мы разорвали круг людей и музыки и пошли по улицам, на которых я еще не был; и, выполняя ее просьбу, я не поглядел на название улицы, на которой она остановилась.
Она крепко обняла меня и сказала:
– Теперь уходи, а я буду смотреть тебе вслед, пока ты не повернешь за угол. – И она коснулась руками моего лица, словно хотела запечатлеть его на своих ладонях, чтобы вернее запомнить, а потом легонько оттолкнула меня, на расстояние вытянутых рук.
– Теперь поворачивайся и иди, – сказала она, и тут на лице ее, освещенном уличными фонарями, появилось потерянное выражение. – Отвернись, – сказала она, – отвернись.
Я едва успел увидеть, как ветер колышет ее длинные волосы, пока поворачивался и уходил вслед за своей неожиданно короткой тенью, вдоль домов, прочь с ее улицы, по променаду де Лис, а с него – на проспект де Алискан, долгой дорогой, пока не попал на Алискан – старое католическое кладбище. Там росли кипарисы, гордые и таинственные, и луна зловещим голубым светом озаряла надгробные плиты. Я прислонился к какой-то могиле, ледяной холод камня проникал мне в душу; вдруг позади меня тяжкий древний голос произнес:
Dans Arles, où sont les Alyscamps,
quand l'ombre est rouge, sous les roses
et clair le temps.
Prends garde à la douceur des choses
lorsque tu sens battre sans cause
ton cœur trop lourd
et que se taisent les colombes
parle tout bas, si c'est d'amour
au bord des tombs. [7]7
Под Арлем, в древних Алисканахцветут на склонах красных розытепло и ясноНе верь вещей обманной сутикогда забьется без причинытвое израненное сердцеи смолкнут голуби в испуге —то шепотом любовь ты славишьу края бездны. (Стихотворение французского поэта Поль-Жана Туле (1867–1920).)
[Закрыть]
Это был, несомненно, человеческий голос, с очаровательным провансальским акцентом, раскатистыми «р» и по-южному едва заметными ударениями. Я не обернулся, но человек взял меня за руку и потянул за собой.
прошептал он, – пошли, ты должен пойти со мной, мне надо тебе кое-что рассказать.
Он был стар или казался старым, оттого что был жутко толст. Лицо – бесформенное, оплывшее, а хитрые маленькие глазки спрятались под мохнатыми седыми бровями, опустившимися под давлением покрывавшего лоб жира. Рука, все еще крепко державшая мою руку – мягкая, словно губка, белая и безволосая, как у женщины, торчала из рукава грязного черного одеяния вроде сутаны.
– Я знаю, что я толстый, – сказал он. – Говорят, я самый толстый в Провансе. Но я должен рассказать тебе одну историю. Сегодня вечером я видел тебя на площади Форума, и еще вчера – в церкви Сен-Трофим. Я почувствовал, что между нами есть какая-то связь, и стал следить за тобой.
Я пошел за ним, но не знал, что ответить, и просто ничего не говорил, мы шли назад, под тополями и кипарисами, да, еще он тяжело дышал, потому что идти ему было нелегко: с тех пор как я дал ему руку, мы поднимались в гору.
Он остановился перед маленькой гостиницей, где я жил.
– Бери свой багаж, и мы поедем дальше.
– Куда? – спросил я, но он смотрел на меня удивленно.
– В мою историю, конечно.
И я поехал с ним.
У него была старенькая машина, и всю ночь мы ехали по мертвой, зловещей земле. Луна по-королевски поднималась над рыжими выжженными лугами. Туман стлался над окрестными равнинами и скрывал за собою опасность, постоянно возникавшую в жестком, колючем кустарнике, взбирающемся, словно стадо давно издохших животных, вверх по склонам к причудливым, отсвечивающим под луной скалам.
Иногда в лицо нам дул теплый мягкий ветер, постепенно освобождающийся от безжалостной дневной жары и несущий с собою запахи трав – тимьяна или лаванды.
***
Мы не разговаривали, мы ехали по Провансу, и все городки и деревни, через которые мы проезжали, выглядели как покинутый людьми город в горах Лe-Бо – мертвые города, где по какой-то призрачной случайности все еще горели уличные фонари и иногда били башенные часы.
Я уснул, а когда проснулся, машина стояла. Мы посмотрели вниз.
– Это та самая долина, – сказал он, – в которой находится деревня.
– Да, – ответил я.
Краешек солнца появился над горизонтом. Крошечные домики далеко внизу столпились вокруг церкви, как согнанное пастухом стадо, – но деревня посреди долины меж каменистыми бесплодными склонами, безжалостно выжженными солнцем, на берегу высушенной жарою речки казалась символом свежести.
– Ты должен здесь остаться, – сказал он, – а меня зовут Мавентер – потому что ma – сокращение от «magnus» – «большое», а «venter» – «брюхо»; настоящее имя у меня другое, но все зовут меня так.
– Ты – монах? – спросил я, и он ответил:
– Нет, – а потом выгрузил мой рюкзак и развернул машину.
– А как же история? – спросил я.
– Спускайся в деревню, там всего одна гостиница, «У Сильвестра». Я вернусь через несколько дней, но ты ни с кем не должен обо мне говорить.
– Ладно, я не буду ни с кем о тебе говорить, – кивнул я, подобрал рюкзак и стал спускаться в долину.
Он завел мотор и крикнул:
– Дня через три, наверное, или даже через два.
Но я не обернулся, розоватая дорожная пыль облачком подымалась под моими ногами и оседала на ботинки и носки. Ниже цвел розовый и фиолетовый тимьян, зеленые листочки становились все темнее, и деревня выглядела почти приветливо – бело-розовые, поставленные как попало домишки, тенистые садики, сосны и кипарисы.
Гостиницу «У Сильвестра» я нашел легко, patronne [9]9
Хозяйка (фр.).
[Закрыть]как раз закрывала ставни, чтобы защитить комнаты от солнца. Мы немного поболтали, и я вошел вслед за нею внутрь.
– Un Hollandais, [10]10
Голландец (фр.).
[Закрыть]– сообщила она мужу, и двое мужчин, стоявших у бара, повернулись в мою сторону.
«Это, должно быть, очень маленькая деревня, – подумал я, – здесь почти не бывает приезжих». И вдруг сообразил, что не знаю ее названия.
Мужчины говорили между собой на провансальском диалекте, которого я не понимал. Пол и ступеньки лестницы были выложены красной шестиугольной плиткой, а на сверкающих белизною стенах висели те же рекламы, что и повсюду: коньяк «Хеннеси», вина «Нуа Пра» и «Сен Рафаэль», хинная настойка.
Сильвестр – patron [11]11
Хозяин (фр.).
[Закрыть]– отвел меня в комнату окнами на площадь со старым фонтаном, окруженным каменными скамейками, и сразу закрыл ставни.
– Le soleil est terrible, par ici, [12]12
Солнце шпарит, просто жуть (фр.).
[Закрыть]– сказал он, и я ответил:
– Ñomme toujours. [13]13
Как всегда (фр.)
[Закрыть]
– En été, oui, [14]14
Да, лето (фр.).
[Закрыть]– кивнул он. – Сейчас принесу вам воды. – Он ушел и тут же вернулся с большим стаканом pastis, [15]15
Анисовый ликер (фр.).
[Закрыть]который они все здесь пьют, и ведерком воды; он налил немного воды в таз и поставил ведерко под деревянный рукомойник.
– Все в порядке? – спросил он.
– Très bien, – ответил я, – merci. [16]16
Прекрасно… спасибо (фр.)
[Закрыть]– И он засмеялся и вышел за дверь. Я растянулся на гигантской кровати и расхохотался: стоило повернуться, как она заскрипела, а простыни сурового полотна пахли, как пахнут дети, только что искупавшиеся в реке.
Проснулся я ближе к вечеру и нашел рядом с постелью хлеб и стакан вина, покрытые салфеткой, а поглядев из окна, понял, почему дома здесь похожи на небольшие крепости. Жара к концу дня становится непереносимой, так что люди и животные выискивают самые темные уголки, где и дожидаются вечера.
Я вышел на улицу – деревня словно вымерла, – пересек площадь и подошел к фонтану, чтобы напиться, а так как живых поблизости не наблюдалось, я решил свести знакомство с мертвыми, там, где могилы столпились вокруг огромного, грубого деревянного креста, как домишки деревни – вокруг церкви. Покойники были надежно заперты живой изгородью из боярышника и бука.
Позже, когда я познакомился наконец с живыми, я понял, что покойники не слишком отличаются от них: тех и других связывает меж собою мрачное молчание. Горечь твердой, красной земли, нашпигованной острыми камнями, отозвалась в их телах жестокой меланхолией, которая по вечерам, когда жара уходит из деревни, нападает на всех – вместе с отвращением к стуку тяжелых металлических шаров, сопровождающему игру мужчин, которому вторят лишь звон бокалов у Сильвестра, голоса животных и шум ветра в кронах кипарисов – или тихое, несмелое пение детей:
Я все еще помню, как они пели, потому что по вечерам сидел в своей комнате у окна и смотрел на мужчин, играющих в шары, и на детей. Они не видели меня и ничего не знали обо мне, а я выучил их имена и через два дня знал, кто из них лучше всего играет в шары и кто сильнее всех напивается. Дети играли у фонтана в странную, почти бесшумную игру – словно кто-то был болен и им велели не шуметь. Так они играли, мужчины и дети, пока не становилось темно, и тогда выходили женщины с кувшинами и ведрами – набрать воды. Я глядел на них из окна, сквозь щели меж пластинками ставень, через которые дом дышал, как большое животное, чуть колышущееся под руками легкого ветерка. Против меня была церковь; я знал, что внутри она совсем обветшала и что на алтаре лежит пыльное покрывало красного бархата, на котором золотом вышито: Magister adest et vocat te – Господь здесь, и Он призывает тебя. Церковь и кладбище – в них была вся жизнь деревни, где повторялись одни и те же имена: имена живых, звучавшие в кафе или у фонтана, имена мертвых – выбитые золотом под портретами на их могилах. Я разглядывал тусклые прямые волосы на эмалевых или картонных портретах, покрытых пыльным, затянутым паутиной стеклом, в железных рамках из переплетенных колечек, украшенных поблекшими искусственными цветами или проволочными стебельками, с которых цветы облетели, и мне казалось, что древние мрачные суеверия этих людей обрели жизнь и властвуют над их могилами. Скоро я стал узнавать в застывших навеки портретах лица живых, которые болтали и выпивали под моим окном. И в полуденные часы, когда солнце утверждало свое господство над вымершими домами, я посещал мертвых Пейеру, мертвых Рапе, мертвых Вентура. Цветы, которые я срывал ранним утром и ставил у себя в комнате в воду, я клал на могилы детей – не знаю почему, очевидно – для собственного удовольствия.
За день до того, как появился Мавентер, меня подстерег местный кюре – он сидел на краешке могильного камня семейства Пейеру.
– Думаю, они меня простят, – сказал он, – мы были добрыми друзьями, и, в конце концов, я тоже скоро упокоюсь вон там, в углу – славное местечко, правда? Солнце туда почти не достает, и, когда явится какой-нибудь чудак и принесет цветы, они дольше останутся свежими.
У себя, в доме при церкви, он наполнил вином два высоких стакана – по самый край, как раньше Сильвестр.
– Вы, верно, не читали нашего Мистраля, – сказал он, – но это то самое вино, которое он воспел в «Мирее».
Muscat de Baume! – Он засмеялся и коснулся стаканом моего стакана. – Я видел, как ты знакомился с мертвыми, с ними проще всего. Мертвые снисходительнее живых, и это особенно важно, живые здесь не слишком сговорчивы.
– Знаю, – ответил я, – но они мне нравятся.
– Может быть, – протянул он задумчиво, – может быть, но жизнь здесь тяжела и полна забот, а ненависть – как земля, которая смягчается от нежности, которую томаты, и дыни, и миска зерна могут дать. Она может быть горькой, как трава, которой питаются овцы и козы на лугах, прежде чем придет время подняться в горы. Жизнь здесь – жизнь в нужде. У крестьянина есть Бог, ближайшие соседи и земля – очень жесткая. Я это знаю, и знаю хорошо. Вон там, – он распахнул ставни и указал на холмы за домами, которые были так ярко освещены, что мне пришлось прикрыть рукою глаза, – там мои помидоры, и дыни, и иногда, если повезет, цветы для церкви, гвоздики. Летом-то – это еще ничего, но приходит зима, которая здесь холоднее, чем на севере, а холод убивает не хуже солнца, и, ко всему этому, – мистраль. Знаешь, что такое мистраль? – спросил он, но я не знал, а может быть – знал когда-то, но не мог вспомнить, и тогда он рассказал о ветре, выстуживающем долины и людей в ту пору, когда солнце светит, не согревая, о ветре, умеющем находить людей, где бы они ни спрятались, проникать в любое укрытие и сквозь запертые двери. – Иногда случаются странные вещи, – добавил он, – потому что ветер выматывает людей и душа их не выдерживает напряжения. – Он кивнул в сторону кладбища, скрытого зарослями боярышника. – Раз случилось, что мистраль дул целую неделю, безжалостный, как человек, жаждущий мести. В том, что Клаудиус Пейеру убил жену и покончил с собой, виноват мистраль; во время мистраля в наших краях появился этот тип – Мавентер. После он что-то делал в замке, и я точно знаю, что маркиза Марсель тоже исчезла во время мистраля.
– Мавентер – это кто?
– На самом деле его зовут по-другому. Кто-то из местных болтунов выяснил, что ma сокращение от слова «magnus», a «venter» по-латыни значит «брюхо». Он невероятно толст. Как его звать на самом деле, я не знаю. Раньше он был монахом-певчим у бенедиктинцев. Ты случайно не католик?
– Нет, – ответил я, – но я знаю, кто такие бенедиктинцы.
– Хорошо, так вот, этот Мавентер был одним из последних монахов-певчих, которые не стали священниками. В монастырях есть братья, которые обрабатывают землю, есть те, кто занимаются домом и одеждой, и есть монахи-священники, которые поют в хоре и выполняют в монастыре функции отца-эконома или магистра, которому подчиняются послушники, ну, и так далее. Раньше можно было оставаться певчим, не принимая сана священника, таких называли монахи-певчие, но теперь это запрещено. Во всяком случае, этот Мавентер ушел из монастыря, и я не могу его осуждать: говорят, семья поместила его туда мальчишкой, насильно. Трудно рассказывать о чьей-то жизни; кажется, знаешь много, а на самом деле – почти ничего, потому что, в конце концов, – глядя мне в глаза, он поправил ермолку на редких, белых волосах, – в конце концов, мы так мало знаем друг о друге.
Мавентер сперва был странником, почетным гостем на всех праздниках, его приглашали издалека. Вместе с его аккордеоном. Он появлялся к сбору вишни – в Кавайоне и в Карпантре, и к сбору винограда – в долинах Дюранса, в старой рясе, которую так и носит до сих пор, Бог знает почему. Все это продолжалось, пока три года назад он не поселился в Экспери. С тех пор он больше не появляется ни на свадьбах, ни в домах знатных граждан и духовенства, куда его раньше приглашали с удовольствием, потому что он знает наизусть кучу стихов – он знает из Тома [19]19
Знаменитый поэт-трувер конца XII в.
[Закрыть]больше, чем я когда-либо знал, на поэтических турнирах в Арле и даже в Авиньоне он побеждал любого – и в классической поэзии, и в поэзии трубадуров Прованса. Говорят, он знает наизусть все оды и эподы Горация, скорее всего, так оно и есть.
Но я часто видел его по ночам, его вместе с маленькой маркизой – они хорошо друг к другу подходили, она была необычным ребенком. Иногда они проходили ночью вот тут, по улице. Она была нежная, миниатюрная, в обтягивающих брючках, говорят, женщины в Париже носят такие, и крошечных туфельках. Они быстро, почти бесшумно пересекали площадь. А я – с тех пор как я стал стареть, я сплю очень чутко, – я стоял у окна и смотрел на них, не зажигая света.
Они шли со стороны Экспери, так называется замок, он – метрах в десяти позади нее, массивный, почти зловещий, чернее собственной колоссальной тени, задыхаясь, потому что приходилось идти быстро. А она, не обращая на него внимания, шла, опустив голову и бормоча что-то себе под нос. Бывало, она гуляла одна, тогда она шла медленнее и пила у фонтана, а по утрам приносила цветы на кладбище. Однажды я поговорил с ней. В ту ночь она была одна и пила у фонтана.
«Мадемуазель, – сказал я, – не хотите ли выпить со мною вина?» И я взял вино, которое по ночам держал наготове, и мы сели здесь, на ступеньках моего дома. Но она молчала, только когда я спросил, не боится ли она ходить по ночам в одиночку, она ответила: «Разумеется, нет».
И посмотрела на меня; я никогда не мог понять выражения лиц азиатов, как понимаю здешних, которые росли и воспитывались так же, как я; ее лицо было замкнутым или, может быть, загадочным; она прошептала: «Я сочиняю рассказ».
«Да, – сказал я, – ты сочиняешь рассказ. – И: – Я не хочу вмешиваться, потому что это твой рассказ, – сказал я, – но пусть он будет хорошим».
Она молча кивнула, вот и все.
Он замолчал.
– Она что, азиатка? – спросил я.
– Ее мать была из Лаоса, но она умерла. Отец служил офицером в Иностранном легионе и почти не бывал здесь. Он погиб в Индокитае. Потом были еще тетушка, которую здесь никогда не видели, слуги, и, конечно, Мавентер. Разговоров было много, но никто точно не знал, что случилось, говорят и говорят, но по сей день никто из нас не побывал там, в замке.
***
Вечером, сидя в своей комнате, я ждал появления Мавентера, потому что мебель не скрывалась в надвигающейся ночи, но толпилась вокруг, громоздкая и тревожная, давая понять, что она в последний раз участвует в моей жизни. Запахи дома, старого дерева, простынь, которые стирали в ручье куском самодельного мыла, вдруг стали самостоятельнее и сильнее, чем прежде, победно заглушая чуждые им запахи моего тела и одежды.
Человек, привыкший спать под бой стенных часов, просыпается, если они вдруг остановятся, – вот так и я встал и пошел к окну, когда внезапно оборвался доносившийся с площади стук железных шаров – под окном стоял Мавентер.
– Эй, голландец, – крикнул он, – спускайся, я должен рассказать тебе свою историю.
Мы пошли вдоль откоса и вышли на тропинку, ведшую круто вверх. Наступающая ночь медленно сгущала тени в кустах и меж скал – а он шел, ведя меня за собою, пока мы не поднялись так высоко, что пурпурное ожерелье Альп Прованса, горные массивы Люберон и Ванту, окружило нас со всех сторон. И прежде чем ночь скрыла их от нас, он показал мне прекраснейшие камни этого ожерелья – гору Воклюз, гору Люр, гору Шабр.
Замок, как они его называли, стоял среди гор, веселый и прекрасный. А вокруг нас было поле с землей, твердой, как и везде в округе. Повсюду валялись черные камни, выглядевшие так, словно попали сюда откуда-то издалека, с Луны или из другого безжизненного места, откуда кто-то притащил их и раскидал по собственному произволу меж огромными темными скалами, и они остались лежать, как куски обгоревшего угля, вывалившиеся из стоявшей в середине великанской печи. Мы сели.
– Это кладбище животных, – сказал Мавентер, – здесь все и началось. Я сидел здесь, и она подошла ко мне. И сказала: «Ты – Мавентер».
«Да», – ответил я.
«Ты читаешь по-английски?»
«Да».
«И писать можешь?» – спросила она, и, когда я ответил, что могу, она уселась против меня, прямо на землю, туда, где ты сейчас сидишь.
«Испачкаешься, – сказал я, и еще: – Лучше сядь на камень», – но она не слушала меня или просто не слышала, она вытянула ногу и пяткой очертила вокруг себя линию.
«Я – внутри круга, – сказала она, – а ты – нет. Ты должен поставить ноги внутрь круга, потому что я хочу тебя о чем-то спросить!»
Я подвинулся так, чтобы мои ноги встали в круг, а она начала пересыпать мелкий песок.
«Не надо, – сказал я, – все будет грязным».
«Ты должен написать письмо по-английски».
«Кому?» – спросил я.
«Вот кому, – и она взяла куртку, которую бросила возле себя на землю, и достала из кармана «Сатэрдей ивниг пост», – вот кому», – и она показала на снимок танцовщицы Британского балета, под которым я не мог разглядеть имени.
«Ты должен ей написать и попросить приехать сюда жить».
«Нет», – сказал я.
Она выпятила губу и сердито сдула волосы со лба.
«Почему нет?»
«Потому что она никогда не приедет».
Мавентер посмотрел на меня и продолжал:
– Если бы я знал ее так, как знаю теперь, я никогда не совершил бы подобной ошибки, но тогда я ее еще не знал и сказал «потому что она никогда не приедет». А она засмеялась, и смех ее был обращен не ко мне, нет, она смеялась для себя и каких-то невидимок, которые всегда были с нею, и после сказала, что я – дурак. «Конечно, не приедет, – сказала она, – но как я смогу играть в то, что она приедет, если ты сперва не напишешь ей по-английски письмо, что я ее приглашаю?» Ты понял? – спросил он меня.
Я очень хорошо все понял и сказал:
– Я верю тебе.
– И так было все время, она играла. Она была такая необыкновенная… – Он продолжал говорить, но я не вслушивался: теперь я видел ее, мир вокруг утратил реальность, вещи, словно живые, заместили сами себя в другой вселенной, которую я вдруг увидал, которая впустила меня, и я поплыл за голосом Мавентера, метавшимся меж камнями по кладбищу животных, а она сидела там и рисовала в пыли, мне казалось, я слышал ее голос, когда она спросила: «Мавентер, когда ты поедешь в город?»
«Зачем тебе?»
– Ты меня слушаешь? – спросил он.
– Да, – ответил я.
– Мы приехали однажды в банк, но ее интересовало только, как работает счетная машина. «Я хочу, чтобы мне разрешили посчитать», – сказала она, и в следующий раз, когда мы пришли в банк в городе, она подошла к окошечку и попросила один разочек посчитать на какой-нибудь из машин, а когда ей разрешили, она достала из перчатки клочок бумаги и переписала оттуда цифры в машину, нажала на кнопку и повернула ручку.
Несколько дней я ее не видел, это было не очень важно, потому что довольно часто она не покидала своих комнат в замке и нигде не показывалась. На этот раз прошло довольно много времени, пока я ее снова увидел, – она нашла меня в библиотеке.
«Мавентер, – сказала она, – я вернулась».
Она подошла и встала рядом со мной: «Я была далеко».
Я к тому времени узнал ее достаточно хорошо, чтобы не сказать, что она никуда не уходила, а просто сидела в своих комнатах, и она продолжала: «Помнишь тот клочок бумаги?»
«Да, – сказал я, – тот, с которого ты брала цифры, чтобы посчитать».
Она кивнула. «В тот вечер, – прошептала она и придвинулась ко мне ближе, словно мы были заговорщиками, – в тот вечер я положила эту бумажку снаружи, потому что было ветрено. Потом я пошла в свою комнату, чтобы посмотреть, случится ли то, чего я хотела. И это случилось, меня унесло ветром. Я сама себя рассчитала», – сказала она, мы вышли из дому, и она показала мне бумажку.
Я не помню все цифры, но одно число запомнил – 152.
«Что это за число?» – спросил я.
«Мой рост».
«Ладно, – сказал я. – Это твой рост, и что ты сейчас собираешься делать?»
«Не скажу, но ты должен мне помочь, потому что я собираюсь уйти».
«Куда?» – Но она пожала плечами – она не знала.
«В ту ночь было немного ветрено. У окна пахло жимолостью, и аромат этот оставался со мною, когда я попала в ту страну».
«В какую страну?»
«О, это была странная страна, в которую ветер занес мой клочок бумаги, страна, которую я сама вычислила. Когда я туда попала, люди подходили, чтобы пожать мне руку. Вокруг росла жимолость и всякое такое, и все распространяло аромат. Но, честно говоря, люди были печальны. И я спросила того, кто мне все показывал: «Почему все вокруг так печальны?»
«Да, – согласился он, – они очень печальны. Я покажу тебе кое-что». – И ночью, когда все уснули, он повел меня по улицам города.
«Здесь у нас книжный магазин», – сказал он. Но витрины магазина были пусты – одна тоненькая книжечка лежала там, и у входа не росла жимолость, ни другие цветы, и не висели над дверью флаги, как над дверями других домов и магазинов.







