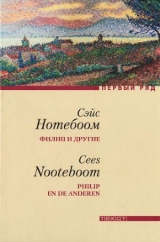
Текст книги "Филип и другие"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
«Тут только одна книжка», – сказала я, и он ответил: «Да, давай поглядим, что там внутри». Прижавшись лбом к стеклу, мы заглянули внутрь, и при свете уличных фонарей, стоявших перед магазином, я увидела, что все полки, на которых должны были стоять книги, пусты, только на одной из них лежала тоненькая книжечка.
«А теперь пойдем в библиотеку», – сказал он, и мы пошли по городу и пришли к библиотеке. Мой спутник открыл дверь, мы вошли, и мне показалось, что звук наших шагов отдается меж стен, отражается от потолка и звучит повсюду, все громче и громче.
«Кажется, мне страшно», – сказала я, но он ответил, что бояться нечего; кроме того, он ведь со мной – и тогда мы пошли по залам, но и тут не было книг, сплошь пустые полки и огромные пустые шкафы. И только все та же маленькая книжка попадалась нам то тут, то там.
Мне и правда было страшно; белые стены поднимались высоко-высоко над шкафами, а мы слышали только друг друга, только наши шаги звучали в залах, и никаких книг не было.
«Почему здесь нет книг? – спросила я. – В библиотеке должны быть книги».
«Собственно, так оно и было бы, – отвечал мой спутник, – если бы он не умер».
«О ком это он?» – подумала я.
«Это был мальчик, – продолжал он, – маленький мальчик, только волосы у него поседели, и он все время болел. Он был одним-единственным человеком, умевшим писать. Знаешь, эта страна не похожа на другие. Некоторые люди здесь умеют только рожать детей, другие – строить дома, третьи – делать флаги, когда ожидаются гости издалека, вроде тебя, – и никто больше не умеет написать стихи, или рассказ, или книгу. А тот, кто умел это делать, все время тяжело болел, и, когда он умер, готова была только первая глава. Вот она, вся уместилась в тоненькую книжечку».
Она помолчала, а потом сказала: «Я покинула эту страну, мне было там слишком грустно».
Мавентер посмотрел на меня.
– Ты был когда-нибудь в этой стране? – спросил он.
– Нет, но, может быть, мне еще случится там побывать.
Мы замолчали, и мне хотелось, чтобы он не говорил больше ничего, и еще – хотелось увидеть, что она нарисовала на земле.
– Что ты рисуешь? – спросил я.
«Это платаны, – ответила она, – они растут позади тебя».
Я оглянулся.
– Куда ты смотришь? – спросил Мавентер.
– На деревья, – сказал я, – что там за деревья?
– Это платаны.
– Что за буквы ты там чертишь? – спросил я ее.
«К, – прошептала она, и я понял, что должен сохранить ее слова в секрете, – К, и R, и U, и S, и А, и еще одно А».
«Такого слова нет, – сказал я, – KRUSAA».
«Да, – сказала она, – это странное слово».
– Что ты говоришь? – спросил Мавентер.
– Ничего, – сказал я, и он посмотрел на меня удивленно:
– Я думал, ты что-то сказал.
– Нет, я ничего не говорил.
Он продолжал свой рассказ:
– Прошло немного времени, и она снова ушла куда-то. Мы поехали на машине в Авиньон, я должен был увидеться кое с кем и оставил ее в читальном зале библиотеки. Но когда я вечером за ней заехал и спросил, что она читала, она ничего не ответила – это было странно, волосы у нее были мокрые, в машине она села на заднее сиденье и за всю дорогу не произнесла ни единого слова. Дома, в Экспери, она сразу же ушла в свои комнаты. Через два дня она спустилась вниз. На этот раз я сидел у ворот и испугался, когда она подошла сзади и хлопнула меня по плечу.
«Мавентер, – сказала она, – я вернулась. На этот раз я была очень-очень далеко».
Это не может быть правдой, подумал я, и сказал: «Но ведь у тебя на этот раз не было бумажки? И где же ты была?»
«О, на этот раз все было совсем по-другому. Я не знала, как уйти, но внутри, на двери читального зала, висело объявление, что все, кто приходят сюда читать или заниматься, должны записываться в список присутствующих, когда они приходят, и расписываться, когда уходят. Поэтому я поставила там свое имя, когда вошла в зал, но не расписалась, когда уходила. Так что я в некотором смысле оставалась в зале после того, как все ушли и двери были заперты. Теперь меня все равно что не было, и я могла спокойно отправляться в путь. Когда я попала в ту страну, там шел дождь – был вечер и шел дождь. Я оказалась на станции и села в поезд. Против меня сидел какой-то человек.
«Куда вы смотрите?» – спросил он.
«На ваши руки». Как сражающиеся звери, его руки непрерывно двигались, переплетаясь и борясь друг с другом.
«Не обращайте внимания, – сказал он, – в этом нет ничего странного, просто сегодня я должен играть. Хотите контрамарку?»
Мы вышли на широкую, людную улицу. Мой попутчик быстро пошел вперед, лавируя меж людьми, потом обернулся и крикнул: «Уже поздно, мне надо торопиться», – и побежал, жестикулируя, как безумец. Если честно, я бы лучше осталась на улице, там огни отражались в мокром асфальте, как в глубокой темной воде…
Но человек со странными руками дал мне билет, и мне пришлось войти внутрь. Я оказалась последней, уже закрывали двери в зал, я едва успела пройти.
До чего же странный зал! Там стояло, наверное, сто роялей. Залитые приглушенным оранжевым светом, они напоминали участников похоронной процессии. Люди усаживались за рояли, переговариваясь друг с другом, зал был полон, как обычно перед концертом, негромким журчащим шумом.
Молодая девушка подвела меня к роялю, стоявшему недалеко от входа. Я не стала покупать программку, потому что заметила, что в ней ничего не написано. Вдруг в зале зашикали: «Ш-ш-ш-ш»; я поглядела на сцену – не появился ли мой попутчик.
И увидела, что на сцене рояля нет, стоит только стул.
Мы поднялись и зааплодировали, когда он вышел на сцену. Руки его больше не двигались, он поклонился залу, уселся и подождал, пока мы перестанем хлопать и установится тишина.
И тут мы начали играть. Я знала, что мелодия мне знакома, – трогательная и мягкая, она плыла над залом, словно играл ее всего один рояль, – но не могла вспомнить ни названия вещи, ни имени композитора, не могла понять, что это за музыка, к какому времени она относится. Музыка кончилась, он поднялся, благодаря за аплодисменты, грозою гремевшие в зале, и снова сел, руки его были неподвижны, словно вовсе не могли шевелиться, а мы снова заиграли, и я не помнила названия ни одной вещи, но это было не важно, совсем не важно, это была восхитительная старая музыка; а он сидел, застыв на своем стуле там, на сцене, и вставал, когда мы доигрывали вещь до конца, благодаря за аплодисменты, и в конце вечера мы устроили ему овацию, словно прося самих себя сыграть на бис.
«О, Мавентер, – сказала она, – мне так не хотелось уходить оттуда, когда-нибудь я уйду и больше не вернусь».
«Да, – сказал я, – не вернешься. Однажды ты уйдешь и больше не вернешься».
«Отвези меня, пожалуйста, на Остров, пока еще светло», – попросила она. Островом она называла долину километрах в семи отсюда, она ее когда-то нашла, и долина принадлежала ей, как ее комнаты в замке, как особые места в столовой, в коридорах и в саду или те места, куда она уходила одна и где мы не бывали вместе.
Сначала мне трудно было все запомнить.
«Ах, Мавентер, – говорила она, – туда ты не должен ходить». Она никогда не говорила – почему, может быть, там было что-то, что только она могла видеть, но теперь это уже не важно.
Итак, мы отправились на Остров. Когда мы вышли из машины, она сказала: «Завтра я уйду. И больше не вернусь. Я начинаю большую игру».
Мы сели. В этот вечер она мне много чего рассказала, и, честно говоря, я не все запомнил, но прекрасно помню, как она сидела; она словно впитывала в себя жизнь деревьев и другие вещи, в которые верила. Она стала тенью и трепетом серебристых елок, которые там росли, и растрескавшейся терракотой высохшего русла ручья – я не могу сказать по-другому, она разрасталась, множилась и сумела заново сотворить вечер, пахнущий листьями лавра. Вся долина была преображена руками этой безумицы, вступившей во владение луной и окрашивавшей ее призрачным светом камни и деревья, пока захватывающее дух овладение пейзажем не сделало ее хозяйкой всего, пока вещи не обрели дыхание и не ожили с ее помощью.
«Ты испугался», – сказала она.
«Да», – сказал я.
Но она меня не слушала. «Ты боишься, потому что твой мир, твой безопасный, понятный мир, исчез, потому что ты увидел преображенную суть вещей, увидел, что они – живые. Вы все думаете, что ваш мир – реален, но это не так, мой мир – это жизнь за гранью видимой реальности, жизнь, трепещущая под рукою, – а то, что видишь ты, что все вы видите, – смерть. Смерть».
Мавентер вздохнул.
– Она легла на спину, и я увидел, какая она маленькая, тонкая, худенькая как мальчик. – Он замолчал.
– А дальше? – спросил я.
– О, – он поднял руки – они выскользнули из рукавов рясы – и уронил их, словно досадуя на свою слабость, – я нарушил очарование, я ушел и подождал ее у машины. На следующий день она исчезла и больше не вернулась. А я – я начал стареть. Я уже немолод, со мной много чего случалось, но пока она была здесь, невозможно было состариться. Я снова поехал на Остров, но все было обычным: русло реки, полное сухой красной грязи, скалы, деревья – ничего такого, непонятно, чего тут бояться. Это очень страшно – снова начать стареть. Теперь уж и умереть не страшнее. – Он поднялся. – Тебе пора ехать, я отвезу тебя в Динь.
Так он и сделал, и там мы расстались, на съезде со скоростного шоссе, у поворота дороги на Гренобль, он задержал мою руку меж своих огромных ладоней, отводя глаза, чтобы я не мог поглядеть в них, чтобы после не смог его узнать. Я повернул за угол и больше не видел его, только слышал, как он завел машину и уехал.
Наконец стало тихо, и я подумал, что, может быть, когда-нибудь найду ее.
Книга вторая
1
– Это не дом, – сказал я, когда машина миновала ворота, – и потом, я даже не знаю, как тебя зовут.
– Фэй, – ответила она.
Это были руины. Вблизи я смог лучше разглядеть их в печальном свете утренней зари. Я увидел королевские папоротники, полосатую зелено-белую траву, плющ и вьюнки, пробившиеся сквозь бесцветное каменное крошево, живые и мертвые, заплесневевшие, скрученные и жалкие, они ковром устилали желоба и обвивались вокруг обломков колонн – словно солдаты, взявшие крепость и добравшиеся наконец до баб.
Двери, на которых меж островков облупившейся краски вырос грязный мох, стояли по колено в мертвой, ржавой воде, покорно прислонившись к склону воронки от бомбы; и, погибнув в отчаянном, смертном бою, валялась разбитая мебель и разодранные матрасы, сладковато пахнущие гнилью.
Изящные башенки были разрублены вдоль, можно было заглянуть в них, как внутрь трупа, распростертого на столе в анатомичке. В лучах света, проникавшего сквозь дыры от пуль, голубовато поблескивали каменные ступени винтовой лестницы.
Фэй поднималась по лестнице впереди меня. На полпути была низкая кривая дверца, которую она пнула ногой и сказала:
– Единственное жилое помещение.
Это была длинная, узкая комната. В тусклом свете я разглядел на стенах остатки обоев из темно-красной кожи, украшенных золотыми руническими письменами. Из двух окон одно было забито досками и листами картона. Окна были слева от двери; а на стене напротив висели длинным, неровным рядом два десятка фотографий, изображавших в основном мужчин и мальчиков – было там, впрочем, и несколько девочек. Некоторые фотографии были очень большими, другие – размером с почтовую открытку, и несколько совсем маленьких – как для паспорта. Каждое фото было с математической точностью перечеркнуто аккуратно нарисованным по линейке красным крестом. Я не нашел среди них знакомых лиц. Ниже была прибита грубая длинная полка, на ней стояли баночки с цветами, под каждой фотографией – разными. Я сел спиной к фотографиям.
– Там в углу, за занавеской, лежит пара матрасов.
У нее был хрипловатый, красивый голос.
– Тебе, наверное, лучше лечь спать, ты выпил больше чем достаточно, а завтра явятся остальные. Смотри только, не ляг на Аббата и Пастора.
Я хотел было отодвинуть котов, устроившихся в углу, потому что люблю спать у стенки, но один – позже я понял, что это был Аббат, – решил, что с ним играют, и вцепился когтями мне в руку; пришлось лечь на другой матрас.
Фэй отодвинула занавеску и кинула мне кусок ткани:
– Возьми-ка скатерть и завернись в нее как следует, в этом проклятом доме всегда сыро и холодно.
***
Не знаю, было поздно или рано, когда я проснулся: пока я спал, плотная темная вуаль дождя окутала землю. Голова была тяжелая и болела; преодолевая головокружение, я подошел к окну и стал смотреть на дождь.
Вдруг раздался короткий сухой щелчок – лязгнули ножницы, – и я увидел Фэй.
Она стояла босиком меж острых обломков камней и срезала цветы шиповника. Ее короткие волосы, смоченные дождем, казались иссиня-черными. На ней был прозрачный фиолетовый плащ, а под ним – короткое черное платье. Она была красивее всех женщин, которых я знал до сих пор, красивее даже той, китаянки, но ее я видел лишь раз, мельком, в Кале. Потом, на острове, мужчины на моих глазах сходили с ума при виде Фэй. Совершали идиотские поступки, лишь бы привлечь ее внимание, надеясь переспать с ней. Но даже когда им это удавалось – оттого, что она их почему-то захотела либо просто была пьяна, – им доставались лишь тяжелые воспоминания о сильных челюстях, острых зубах и полном безразличии с ее стороны на следующий день – и навсегда.
Прежде чем срезать цветок, она всякий раз придирчиво разглядывала его, непроизвольно натягивая при этом верхнюю губу на зубы, а нижнюю челюсть чуть выдвигая вперед. Такое выражение лица бывает у ребенка, выбирающего, которое из насекомых поймать. Я много раз замечал у Фэй это движение губ, не только по отношению к цветам, и находил его жестоким – почти дьявольским. На лице ее застыло саркастическое выражение, глаза сузились и казались меньше и жестче – я думаю, даже темнее – и еще недоступнее, чем прежде.
– Привет, – крикнул я.
Она повернулась, посмотрела вверх. И засмеялась. Фэй редко смеялась, и утонченность, которую обретало при этом ее лицо, сбивала с толку, потому что обычно оно казалось грубым из-за saudade, [20]20
Здесь: ностальгия (порт.).
[Закрыть]контрастировавшей с неприкрытым сарказмом, который излучали ее глаза.
– Подожди-ка, – крикнул я и побежал вниз. Там я снял с себя верхнюю одежду и носки и сложил в сухом месте под лестницей, где раньше была терраса.
– Тебе помочь? – спросил я; дождь стучал по лицу, волосы прилипли ко лбу.
Фэй не ответила, но показала на куст рододендрона и подняла вверх три пальца. Сама она склонилась над амарантами и, казалось, забыла обо мне. Осторожно, чтобы не споткнуться или, того хуже, не поскользнуться на мху, росшем на камнях и дереве, я спустился к рододендронам и сорвал три цветущих ветки – жесткие волокна стеблей пришлось перекусывать зубами. Я сплюнул кисловато-горькую слюну – вкус ее остался во рту – и протянул тяжелые цветы наверх, Фэй. Она удовлетворенно кивнула, сложила ладони рупором и крикнула:
– Сирени – четыре!
Я оглянулся – сирени нигде не было видно.
– Не вижу сирени, – крикнул я, но из-за дождя она не расслышала, и я крикнул снова: – Я нигде не вижу сирени!
– Надо перелезть через стену, потом по мосту.
Я полез на стену, цепляясь за плющ, в полной уверенности, что плети его и мох, которым поросла стена, не выдержат и оборвутся. Ногами я пытался нащупать опору, но ничего не выходило, а плющ обрывался под моими руками. Я уже приготовился падать, но тут почувствовал ногами пару горячих, сильных рук, толкнувших меня вверх.
Я взлетел на стену и оглянулся, балансируя на обломках камней. Снизу Фэй протягивала руки, чтобы взобраться вслед за мной, теперь ей нужна была помощь. Она ловко, как кошка, взобралась на стену, упираясь ногами в плети плюща – ногти, покрытые ярко-красным лаком, странно выглядели среди зелени.
За стеной была мертвая речушка, разделившаяся на несколько извилистых ручейков и нашедшая бесславный конец в пруду, поросшем зеленой ряской и водяными растениями, грозно торчавшими над обманчиво безопасной бархатной поверхностью.
Мы соскользнули вниз и оказались на чем-то вроде моста – в прорези двух бревен, соединявших берега, были кое-как вбиты несколько почерневших от сырости полусгнивших досок.
Фэй шла впереди, грациозно перепрыгивая с доски на доску. Камни и комья грязи лавиной сыпались вниз, шумно пробивая окна в покрытой ряской мертвой воде. Я последовал было за ней, но застыл на месте, увидев, как закачалась одна из досок. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, я пытался собрать все свое мужество, чтобы продолжить путь, а она, уже почти добравшись до другого берега, оглянулась и посмотрела на меня. Я покрепче схватился за суковатую палку, которую нашел на стене, и прыгнул.
Доска шевельнулась, но прежде, чем соскользнуть с нее, я перескочил на следующую.
Я достиг берега почти одновременно с Фэй, задыхаясь и чувствуя, как лихорадочно пульсирует кровь в груди и в горле, а она быстро уходила вперед по полуострову, образованному последней петлей, последним причудливым изгибом мертвой речушки; я догнал ее, когда она остановилась перед кустами сирени.
Она отдала мне ножницы и, внимательно осмотрев кусты со всех сторон, стала указывать, какие ветки нужно срезать и какой длины должна быть каждая из них. Ловкими обезьяньими движениями левой руки она подхватывала падающие ветви.
Я срезал четыре, наблюдая за нею, когда она просовывала голову меж ветвей внутрь куста; мне видна была теперь прелестная линия ее шеи под неровно остриженными волосами. Справа на горле – длинный шрам от операции, который она никогда не прикрывала – хотя ничего не стоило это сделать, – но выставляла напоказ, гордясь своей дикостью и жестокостью; когда она волновалась или сердилась, мне казалось – шрам вот-вот начнет кровоточить.
Пока она так стояла, я обнял ее, даже не обнял, просто положил руки ей на плечи. «Пойдем», – сказал я. Вздрогнув, она повернулась ко мне, обхватила руками за шею, и я почувствовал, как ногти впиваются мне в кожу.
Она смотрела на меня и была сейчас далека от жестокости, лицо стало беззащитным – горечь читалась на нем, слабость, нежелание нападать.
Она заговорила, и я увидел, как пульсирует шов на горле.
– Лучше тебе вернуться, – сказала она. – Лучше тебе уехать, пока не явились остальные. Это только игра, в которой все проигрывают. Конечно… – она говорила, и ее глаза уходили все дальше и дальше, в тоску, в слабость, куда я не мог за ней следовать, – конечно, ты и сам должен это знать.
– Я не знаю игры, в которой можно выиграть, – ответил я.
Она еще глубже впилась в меня ногтями.
– Конечно, ты не знаешь, – сказала она. Слабость исчезла из ее глаз без следа – она расхохоталась, затряслась всем телом, закинув голову, как вакханка с греческой вазы.
В глазах появился какой-то безумный блеск – она швырнула цветы в траву, обхватила мою голову и принялась кусаться. Она укусила меня в губы, потом – в шею, потом – прокусила ухо, но тут я заорал от боли, она отпустила меня и стала медленно, шаг за шагом, отступать. На губах у нее была кровь, она склонила голову набок, как удивленная собака. Потом мелко затрясла руками и засмеялась, но уже тише и своим настоящим, низким голосом.
Я собрал сирень и аккуратно подрезал концы до нужной длины – но тут увидел, что она бежит по мосту, прыгая с доски на доску, как пантера, или дикая кошка, или черт знает кто еще, и закричал:
– Чтоб ты упала, чтоб ты упала!
Она застыла на шаткой доске, повернутой скользкой стороной вверх, переступила вбок, встала, широко расставив ноги, спиной к реке и столкнула доску в воду.
Я с трудом взобрался на стену, держа в руках сирень, и спустился – вернее, скатился – по плющу.
Фэй была уже наверху – Пастор и Аббат встречали ее восторженными воплями.
***
Мне не хотелось подниматься, я устроился, посмеиваясь, в сухом уголке на террасе, где раньше сложил свои вещи, и развеселился еще больше, обнаружив в углу пачку слегка заплесневелых рисунков Лоусона Вуда [21]21
Лоусон Вуд(1878–1957) – известный английский художник, иллюстратор и дизайнер.
[Закрыть]в старинных вычурных рамах – безумно яркие, карикатурные изображения обезьян.
Дождь все еще шел; я вытряхивал воду из волос и думал, что дорога от Диня до Люксембурга оказалась чересчур длинной – она прошла через Париж и Кале.
***
Мне попадались большие города, грязные города, которых боишься, которые можно нарисовать одним серым карандашом. Когда приезжаешь – или покидаешь их ранним утром, – солнце прорывается сквозь серый воздух и первые прохожие спешат к трамваям и автобусам. Они приветливо машут друг другу руками, перекликаются через улицу, а я прохожу мимо и слышу их.
Сперва, по дороге в Париж, я заночевал в Гренобле, на скамейке в парке.
– Двигай в «Рутье», – сказал шофер, который высадил меня в этом городе, – запросто найдешь camion [22]22
Грузовик (фр.).
[Закрыть]в сторону Парижа или Лиона.
Я не нашел никого, никто не хотел меня брать. Я просидел до двух часов ночи у бара, попивая божоле, в то время как шоферы входили внутрь, чтобы выпить перно или коньяку. Они несли с собою запахи машинного масла и пота. С улицы слышен был визг тормозов и грохот тяжелых грузовиков.
Время от времени я выходил наружу. По ночам вокруг «Рутье» разыгрывается зачаровывающее представление: издалека видно, как подъезжают гигантские грузовики с огромными фарами и прожигающим насквозь третьим глазом вверху, над лобовым стеклом.
Потом начинает мигать длинный оранжевый указатель поворота, а сзади, ясно, в такт ему мигает красный сигнал – таковы правила игры, ошибка может стоить жизни. Мотор, взревев в последний раз, затихает, хлопок дверцы в последний раз взрывает тишину ночи, и человек с резким небритым лицом смотрит на тебя устало и нетерпеливо, когда ты спрашиваешь, не найдется ли в его кабине места до Парижа.
Но им запрещено брать пассажиров – начальник, не так ли? несчастный случай, ответственность? – и они уходят внутрь, пожимают друг другу руки, выпивают, болтают о чем-то. Они узнают новости о шоферах своей фирмы у девушки за стойкой и снова уходят – сражаться в одиночку со сном и ночной дорогой, слишком узкой для их могучих машин.
Все-таки я добрался до Парижа назавтра после того, как ушел из «Рутье», заснул на скамейке и проснулся окоченевшим от холода. Я плелся к выезду из Гренобля, когда меня нагнал camion. Вместо того чтобы остановить его ритуальным жестом большого пальца, я замахал руками.
Он остановился.
– Париж, – заорал я, но он меня не расслышал из-за рева мотора. – Париж, – снова проорал я. – Est-ce que vous allez à Paris? [23]23
Вы не в Париж едете? (фр.)
[Закрыть]
И он крикнул сверху:
– Париж, давай быстро, allez vite, [24]24
Живо (фр.).
[Закрыть]за мной идет еще один camion.
Было около пяти утра; мне повезло, теперь-то я ехал прямо в Париж, а в прошлый раз проезжал через Реймс, и Париж остался далеко справа.
О да, я чувствовал себя примерно как римлянин, впервые попавший в Афины.
Но город был холоден и недружелюбен к чужакам вроде меня. От Алле, [25]25
Место, где располагался Центральный парижский рынок – знаменитое «Чрево Парижа».
[Закрыть]где шофер меня высадил, я добрался на метро до Порт д'Орлеан, чтобы попасть в молодежный кемпинг на бульваре Брюна.
Вагон метро был переполнен, в душной, враждебной атмосфере подземелья я почувствовал себя грязным и усталым. Ехать пришлось долго, я был счастлив, когда выбрался на поверхность. Кемпинг оказался в десяти минутах ходьбы от метро, и я едва успел пристроить свой багаж: с десяти до пяти никого внутрь не пускали. Я провел день, шатаясь по Парижу; мне было неуютно и одиноко среди людей, проходивших мимо, смеявшихся и болтавших друг с другом, – наконец я спустился к стрелке острова Ситэ – позади памятника Генриху Четвертому. Бурая вода Сены огибала остров с двух сторон и плескалась о камни, когда мимо проплывали кораблики.
Несправедливо так писать о Париже, я знаю – и не об этом я думал на террасе дома Фэй, неприятности начались позже, когда восторг римлянина в Афинах померк и исчез из-за моей бедности в этом городе – бедности, которая собирает вокруг тебя одних бедняков.
Но тогда до этого еще не дошло. Я был впервые в Париже, и Париж был великолепен – светило солнце, я лежал на острове посреди реки, слушал дыхание города за высокими деревьями, росшими на другом берегу Сены, и плеск воды. Потом я познакомился с Вивьен и из-за нее попал в Кале – все было неслучайно, сейчас я об этом расскажу.
Она слишком громко смеялась, вот что – мы сидели в кафе «Оберж», и она смеялась слишком громко, но, когда я отыскал глазами лицо той, что так громко хохотала, оно оказалось ничем не примечательным, со множеством морщинок вокруг глаз, как у людей, переживших или переживающих горе.
Я подумал, как это странно, странно, что у такого веселого существа – такое лицо, и вечером я ей это сказал.
Это был, я полагаю, приятный вечер. Там были австралийцы, а еще – Эллен, подруга Вивьен, и парень из Утрехта. В глубине бара кто-то пел под гармошку, а за цинковой стойкой patron со звоном мыл стаканы. Было дымно, а снаружи все предвещало грозу.
– О чем ты думаешь? – спросила Вивьен. И я почувствовал, что она гладит мою руку.
Я поглядел на нее. Она совсем старуха, подумал я, и лицо у нее неинтересное. Австралийцы с Эллен ушли, а Вивьен осталась. Парень из Утрехта тоже остался, у него был ключ от входной двери кемпинга. А у нас с Вивьен не было.
– Почему ты молчишь? – прошептала она. Она нагнулась ко мне, чуть повернув голову в сторону парня из Утрехта: – Three is а crowd. [26]26
Трое уже толпа (англ.).
[Закрыть]
В метро, по дороге к Порт д'Орлеан, она продолжала гладить мою руку, ей это явно нравилось. Мне бы хотелось, чтобы она перестала это делать, если честно, мне это было неприятно. Вернее, не совсем так; дело вот в чем, я все время думал, что она хочет, чтобы я ее поцеловал и обнял, – а я думал, что ни за что не смогу сделать это хорошо или – сделаю недостаточно хорошо, потому что она совсем старуха; я знал, что она спала со многими мужчинами, но не собирался ей это говорить.
Soit. [27]27
Ладно (фр.).
[Закрыть]Ключ остался снаружи, парень из Утрехта – внутри, я поцеловал ее и ощутил ее тепло, но тут же заметил, что это не я ее поцеловал, а она меня и что она обняла меня и погладила.
Она сказала, и я мог не только слышать ее, но и чувствовать, так близко ко мне она была:
– Ты такой странный, глаза у тебя…
Больше она ничего не сказала, вздохнула и отпустила меня.
Мы медленно пошли назад, в сторону бульвара Брюна, мы пили кофе в баре, а молодые работяги играли в настольный футбол, и я запомнил все, что они говорили. Двое из них были одеты в комбинезоны, трое других носили кричаще яркую дешевку. Звонкое щелканье их игры и хриплые, невнятные выкрики заглушали музыку пластинок Паташу. [28]28
Леди Паташу– псевдоним популярной певицы, выступавшей в кабаре на Монмартре.
[Закрыть]
Двое парней подошли к нам поближе.
– Vous êtes Américains? [29]29
Вы американцы? (фр.)
[Закрыть]– спросил один, он был немного навеселе.
– Нет, она – ирландка, а я – голландец, – ответил я.
– Нет, – сказал парень, – вы американцы, – и крикнул остальным: – Они американцы! – а потом добавил, обращаясь к нам: – Хотите выпить с нами?
Это сходилось с тем, что мы прочли в путеводителе парня из Утрехта насчет характера парижан. Мы приняли их предложение, но тут я почувствовал, как она под столом сжала коленками мою ногу, и понял, что она хочет уйти, да я и сам хотел уйти, потому что опасался: они увидят, чем она там занимается, и будут говорить об этом между собой или смеяться над нами.
– Французский пролетариат, – сказал один из работяг, – предлагает американскому капитализму выпивку.
Остальные засмеялись – теперь они окружили наш столик и смотрели, как мы пьем кофе.
– Мы не американцы, – повторил я. – Она приехала из Ирландии, Дублин, а я – из Голландии. La Hollande, Pays-Bas, [30]30
Голландия, Нижние Земли (фр.). Pays-Bas (Нижние Земли) – официальное название Нидерландов по-французски.
[Закрыть]Амстердам.
– Нет, – сказал старший из них или предводитель, тот, что был немного навеселе. – Amerikanen, New York. How do you do. Américains, capitàlistes. [31]31
Американцы (нем.), Нью-Йорк. Здравствуйте (англ.). Американцы, капиталисты (фр.).
[Закрыть]
Мы допили свой кофе, поблагодарили их и пожали им руки. Они проводили нас до двери, и я увидел, что они все еще смотрят нам вслед, когда, метрах в ста от бара, она меня поцеловала.
Я притянул ее к себе. И вдруг увидел, что они идут за нами.
– Они идут за нами, – сказал я.
Она оглянулась. Они приближались, а когда мы ускорили шаг, побежали.
– Бежим, – сказал я ей, – мы успеем добежать до кемпинга, тут недалеко.
Но она не хотела бежать, и они нас догнали. Мы остановились, никто не сказал ни слова, и поэтому все выглядело странно, даже немного страшно, когда они нас окружили.
Наконец предводитель, который угощал нас кофе, заговорил.
Он крепко схватил меня и начал:
– Тут важный вопрос. Все не так серьезно, но… – Теперь он был уже по-настоящему пьян. – Приключилась неприятность, – прошептал он. Остальные молча стояли вокруг нас.
– Чего они хотят? – спросила Вивьен. Она не понимала по-французски.
– Я не знаю. – И я спросил предводителя, все еще державшего меня: – Чего вы хотите? Отпустите меня.
Он схватил меня за плечи и встряхнул.
– Заткни пасть, грязный, тупоголовый америкашка, – заорал он. – Дело в том, что ты с девушкой.
Он отпустил меня. Я был напуган.
– Пошли отсюда, – сказал я Вивьен.
Но она снова спросила:
– Чего они хотят?
И я заорал:
– Я тебе уже сказал, что не знаю.
Предводитель снова ухватился за меня.
– Тут небольшая трудность, – сказал он. – Кое-что не сошлось в кассе. Касса, в кафе. Совсем ненамного.
Я почувствовал ужасную усталость. На улице не было ни души.
– Это действительно досадно, – бормотал он. – Серьезная неприятность. Совершенная мелочь. Пошли с нами в кафе, а?
– Ладно, – согласился я, – и спросим самого patron, что там случилось.
И мы, все вместе, медленно направились в сторону кафе, тупо и молча, как стадо, – пока они внезапно не остановились. Я хотел идти дальше, но он принялся орать:
– Теперь ты должен остановиться, ты, проклятый, вонючий… – И вдруг замолчал.
– Я думал, мы должны вернуться в кафе, – сказал я, но он схватил меня за одежду и закрыл мне рот своей здоровенной лапой, потом зажал нос другой рукой, так что я совсем не мог дышать.
– Если бы с тобой не было девушки!.. – взвизгнул он, а потом выругался, отпустил меня и заговорил плаксивым голосом: – Такая неприятность, просто не могу сказать.
Я начал медленно отступать, пока не увидел, что один из них держит в руке нож. Это уже серьезно, подумал я, нож был ржавый, и я спросил:
– Сколько?
– Шестьсот, – ответили они.
– Шестьсот, – перевел я Вивьен, потому что у меня с собой денег не было.
– Почему? – спросила она, но я не ответил.
– Спроси тогда у них, в чем дело.
– Сама видишь, они пьяны.
Она вытащила бумажник.
– An Irishman would have fought the lot of them, [32]32
Ирландец уложил бы в драке многих из них (англ.).
[Закрыть]– сказала она, – Раз, два, три, четыре.
Она отсчитывала стофранковые банкноты в протянутую потную ладонь.
– Тут только четыре, – сказал он, – я видел, у тебя там еще бумажка в тыщу франков.
– Спроси, найдется ли у него сдача.
В ответ на мой вопрос он помахал в воздухе только что полученными от Вивьен банкнота-ми. Она отдала ему тысячефранковый билет и получила сдачу – четыре сотни.







